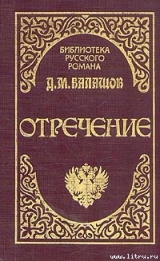
Текст книги "Отречение"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 56 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
В глубокой задумчивости отправлялся назад нижегородский посол в сопровождении выделенной ему оружной охраны и обслуги и уже не подивился, узрев, что на пожоге, где там и сям еще вставали медленные клубы остатнего дыма, уже суетятся тысячи народу, скрипят возы, чмокает глина, летит земля из-под лопат и первые свежие дерева тянут конные волокуши по направлению к сгоревшему Кремнику.
ГЛАВА 44
Пакость, учиненная Василием Кирдяпою, дала-таки свои плоды. Узнав о погроме посольства, Борис вскипел и, прервав всякие переговоры с братом, начал собирать полки. Оставив позади город с опечатанными храмами, он выступил ратью к Бережцу.
Впрочем, Борисом руководило скорее отчаяние, чем какой-либо здравый расчет. В Суздале собиралось нешуточное воинство, подходила московская помочь, и силы оказывались слишком неравны.
У Алексия, когда собиралась дружина в подмогу суздальскому князю, произошла первая размолвка с юным Дмитрием.
Выросший, сильно раздавшийся в плечах отрок обиделся вдруг, что его не берут на войну. Он стоял перед Алексием пыжась, постукивая носком сапога, смешной и гордый, бормоча о княжеском достоинстве своем. Алексий внимательно разглядывал юношу (да, уже вьюнош, не отрок!). Угри на широком лице, голодный блеск глаз, запавшие щеки, широкий нос лаптем, широкие, огрубевшие в воинских упражнениях кисти рук…
– Иван Вельяминов рать ведет, Микула ладит свадьбу править, а я? Я великий князь владимирский!
– И хочешь идти на удельного князя суздальского войной? – вопросом на вопрос ответил Алексий.
Дмитрий, не зная, что рещи, нахмурил чело. Ему упрямо, невзирая на все, что скажет владыка Алексий, хотелось идти в поход, скакать верхом впереди ратей, озирая полки и указывая воеводам, и чтобы те стрелами неслись по полю, исполняя княжеские приказы.
«Пора и женить! – думал меж тем Алексий. – Шестнадцатый год молодцу!»
Мгновением он ощутил себя старым и даже дряхлым, точно неведомое, что гнало, держало и подстегивало его изнутри, дало сбой в этот миг, и разом почуялись годы и тяжесть господарских трудов, взваленных им на себя. Дмитрий учился трудно, особого прилежания к наукам не оказывал. Понимание людей и событий приходило к нему больше от живого общения с боярами и дворней, чем от книг. Учить княжича греческому Алексий вовсе не стал. Понимал: не осилит! И от этого широкого в кости, грубоватого подростка в юношеских угрях зависит грядущая судьба Руси Великой, судьба всего прехитрого устроения власти, которое Алексий возводил год за годом, не ослабевая в трудах.
– Князю должно выигрывать не сраженья, а войны! – строго отверг Алексий, справясь с минутною слабостью. – Пусть Вельяминовы одни сходят в этот поход, в коем не произойдет ни единого сражения!
– Что ж, князь Борис и драться не будет? – невступчиво возражает отрок.
– Не будет! – твердо отвечает Алексий – Коими силами драться ему? Татары – не помога, с нижегородским полком противу всей суздальской земли да наших ратных Борису и часу не устоять! А Василий Василич воевода опытный!
– Да-а-а… – протянул Дмитрий, начиная понемногу сдаваться. – А Володьку-то взяли с собой!
Алексий усмехнул, мысленно осенив себя крестным знамением: юношеское упрямство, раздуваемое гордостью, очень опасно в князе и может с возростием привести ко многому худому в отроке…
– Помнишь, о чем тебе с Владимиром сказывал игумен Сергий? – произносит он елико возможно мягче. – Владимиру водить рати, тебе – править землей! Поверь, управлять княжеством гораздо труднее, чем рубиться в сечах!
– Ну а что я должен делать теперь? – спросил Дмитрий все еще упрямо.
– Коли вы все решили за меня!
– Не за тебя, а для тебя! – назидательно поправил митрополит. – Оба князя подпишут грамоту, по коей отрекаются навсегда, сами и в роде своем, от великого княжения владимирского! Для тебя отрекаются, сыне мой духовный! Для твоих грядущих детей!.. Мыслю, пора тебя и женить! – высказал наконец Алексий, откидываясь к спинке кресла. – Садись!
Дмитрий, привскочив, забрался в высокое кресло, предназначенное ему в покоях митрополита. Положил руки на подлокотники, стойно Алексию, так же выпрямил стан. Алексий сдержал чуть заметную улыбку при виде стараний юного князя.
– Мыслю женить тебя на младшей дочери князя Дмитрия Костянтиныча! – произнес Алексий торжественно. – И сим навсегда укрепить мир с суздальскою землей!
Дмитрий вспыхнул, побледнел, опять вспыхнул.
– А какая она? – вопросил вовсе по-мальчишески.
– Вот Микула, приятель твой, воротит, он расскажет тебе, – пообещал митрополит. – А теперь скажи, что ты будешь вершить, когда мы замирим суздальского князя?
– Отстрою Москву! – гордо изрек Дмитрий.
Алексий чуть склонил голову.
– Еще?
– Пойду войной на Ольгерда!
Алексий отрицательно потряс головой.
– Неверно, князь! Идти в поход надобно только тогда, когда ты уверен в победе. Думай еще!
– Ну, Новгород… – неуверенно протянул Дмитрий. Ему так нравилось воображать себя на коне перед полками, что вопросы Алексия сбивали его с толку.
– Прежде всего, князь, надобно тебе совокупить всю землю Владимирскую! – твердо произнес митрополит.
– Значит, Тверь? – догадался Дмитрий.
– Значит, Тверь! – отмолвил митрополит.
– Но Василий Кашинской… – начал было Дмитрий.
– Кашинский князь стар, а после него тверской стол отойдет князю микулинскому! – договорил Алексий.
– Значит, мне надобно вести полки на Михайлу Лексаныча?! – вопросил отрок, вновь загораясь.
– Не ведаю! – вздохнув, отозвался Алексий. – Попробуем обойтись без того.
Уже выходя из покоя, князь не утерпел и вопросил:
– А она красивая?
– Да! – ответил Алексий.
– Очень?
– Очень!
Дмитрий прихлопнул дверь и вприпрыжку побежал по лестнице.
ГЛАВА 45
Микула, накоротко возвращавшийся под Москву, прискакал в Суздаль со своими поезжанами, с дарами для молодой, честь по чести.
Это была немного странная свадьба, ибо жених прибывал с полками великого князя московского и сразу после венца должен был выступать с ратью противу Бориса. Однако обряд, хоть и в краткие сроки, учинен был по полному поряду, начиная со смотрин и до девичника. Так же закрывали молодую, так же везли к венцу в сопровождении целой свиты верхоконных поезжан, так же теснился в улицах народ и текло рекой даровое княжеское пиво. А наличие множества ратных воевод только придало сугубой торжественности заключительному свадебному пиру.
Сват чин-чином снял надкусанными пирогами плат с головы молодой, и Маша-Мария, впервые близко-поблизку узрев очи вельяминовского добра молодца, задохнулась и, прикрывши глаза, вся отдалась первому – под крики дружины и гостей – прилюдному свадебному поцелую.
Потом они кормили друг друга кашею, привыкая к новому для обоих ощущению неведомой близости, и Мария благодарно чуяла сдержанную властность его руки, ощущала его дыхание на своем лице и чла в глазах строгую мужественность молодого Вельяминова, постигая, что не ошиблась в выборе и брак этот будет наверняка и благ, и разумен, и муж станет ей подлинным хозяином, защитой и обороной, а потому не стыдно, не зазорно ни перед кем и вовсе неважно, что он – не князь.
В эту ночь Микула, скрепив себя и соблюдая древний и мудрый стариковский завет, вовсе не тронул молодую, отвергнув все намеки свахи, которой не терпелось вынести гостям брачную рубаху. Под гул голосов продолжавшей пировать за столами дружины они лежали рядом полуодетые, и Микула, бережно лаская девушку, вполгласа сказывал о себе, о братьях, дядьях, о всем вельяминовском роде. И уже только перед тем как пришли горшками бить о стену повалуши, «будя» молодых, они обнялись крепко-крепко, и выписные очи суздальской княжны, почуявшей силу молодых рук Микулы Вельяминова, замглились истомою жданной, но отложенной до возвращения из похода брачной ночи…
Он уже сидел на коне и чалый жеребец играл под ним, грызя удила, когда Марья, запоздавшая, вышла, смущаясь, проводить супруга. Впервые в головке замужней женщины, она неловко потянулась к нему, приникла, пряча лицо, когда Микула обнял ее, наклонясь с седла.
Когда полк уже выступил за городские ворота, Иван Вельяминов подъехал к брату, вопросил:
– Что, словно девка ищо она у тебя?
– Девка и есь! – отмолвил тот, сплевывая и щурясь на струящийся впереди путь и череду верхоконных, ощетиненную остриями копий.
– Али оробел? – вымолвил с ленивой усмешкой Иван, подкусывая брата.
– Баял уже тебе! – возразил Микула со сдержанным гневом. – Порода в ей! Мы с тобой ухари посадские, што ль? Вельяминовы ныне стали князьям равны! Должно к тому и вежество иметь княжеское! Власть христьянину дана токмо на добро. Иначе – зачем она? Зачем тогда мы с тобой, Москва, великий стол, поход нонешний? Должно иметь к ближнему, к смерду – любовь по завету Христа! К земле – рачительность! К семье – береженье и жалость! Я так понимаю себя. Свой долг! Что же я, разбегусь, как тот кобель, абы на постелю вспрыгнуть? Пущай привыкнет ко мне. И не с пьяного пира нам с нею дитё зачинать!
Иван глянул чуть удивленно на брата, покачал головой, не нашелся, что сказать-молвить, и молча поскакал вперед, догоняя родителя-батюшку. Микула чуть надменно усмехнул вослед Ивану. Сам он гордился собою, своим решением и намерен был и впредь не изменять гордости своей. Он ехал, с удовольствием чуя, как ходят под атласною кожей коня мускулы, и, разгораясь лицом, представлял себе скорую встречу с женою и их первую, взаправдашнюю брачную ночь. Ликующая радость переполняла его, и он готов был порою соколом взвиться с седла и лететь аж на крыльях впереди ратных полков.
Боя, как и предвидел Алексий, не произошло. У Бережца рати встретились и, постоявши полдня друг против друга, смирились. Борис подписывал грамоты, оставлял Нижний старшему брату; ему, в свою очередь, возвращали захваченный было суздальскими войсками Городец, и все возвращалось на своя си. И как-то не почувствовано, не понято осталось никем, что впервые за полтора столетия большое государственное дело было решено владимирскими князьями без воли ханской и помимо Орды.
…Когда уже все было счастливо окончено, возвращаясь из Нижнего в Троицкую обитель, Сергий на пути под Гороховцем основал новую пустынь, которая, как и все заводы преподобного Сергия, не погибла, а продолжала жить два или три столетия, ибо о ней еще в 1591 году сообщалось как о существующей в грамоте царя Федора Ивановича.
ГЛАВА 46
Пушистый снег взлетает струями из-под копыт и серебристым облаком висит в воздухе, искрясь на солнце. Ковровые сани летят вослед друг другу длинным разукрашенным поездом. С хохотом, свистом, песнями скачет дружина, пригибаясь в седлах. Крашенный лазорью, обитый узорною кожей и серебром возок на алых полозьях скользит, взлетая и опадая на раскатах. Могучий коренник под узорной расписною дугой пышет жаром, атласные пристяжные вьются по сторонам, сбруя в жарком серебре, мчат, развеивая гривы, не мчат
– летят, рвутся вперед, так часто работая копытами, что ноги коней сливает в одну стремительно крутящуюся карусель.
Встречные возы загодя сворачивают прямо в снег. Бабы от колодца, забывши про ведра и взяв руки лопаточкой, долгим взором провожают разукрашенную, в лентах и бубенцах змею княжеского свадебного поезда.
Избы стоят по сторонам, загаченные соломой, курясь, точно овины осенью. Тени от белых колеблемых столбов печного дыма в морозном воздухе шатаются по земле.
Уносится поезд, замирают в отдалении клики, и бабы, прежде чем поднять коромысло, вздыхают так, что вышитая цветною шерстью по краю шубейка едва не лопает на груди. Приговаривают с сожалительной завистью:
– Нашу-то Овдотью московскому князю повезли! Песельниц, бают, по всем ближним деревням собирали, самых голосистых, значит! – Бабам немного завидно, что свадьба не у них, не в Нижнем, а где-то в Коломне, у князя московского. – Ну, так уж, видно, и надлежит!
Краше праздника, чем свадьба, почитай, и нет на селе! Загодя варят пиво. Сваху, когда идет, вздев разные валенки, выглядывают изо всех дворов. На сиденье к невесте девки сходятся с ближних и дальних починков, сидят в лучшей, казовой сряде, с песнями ходят по улице, провожая невесту с «угора» на «угор», где она причитает, понося чужу дальню сторонушку и выхваливая свою. Все родичи, сколь ни есть, уж и из дали дальней приедут поздравствовать невесту перед венцом.
Коней для поезда выбирают самолучших, сбруя у кого и в серебре, а уж в медном наряде у всякого, без того жениху стыдно и ехать! Гривы разубраны лентами, расписная дуга где вапой, где и твореным золотом крашена – знай наших! Дружки в шитых полотенцах, жених в ордынском тулупе, выхвалы ради, в казовом зипуне, в сапогах узорных: как же, «князь»! Всякого жениха на свадьбе «князем» зовут, так и в песнях величают…
А уж пиво варят задолго до того, на всю деревню чтобы хватило. Мочат, проращивают рожь, сушат, мелют. Наводят солод в деревянной огромной кади, воду нагревают раскаленным каменьем. Хмель с осени запасен! Отлив сладкого сусла для девок, переваривают сусло уже с хмелем, после разливают в лагуны, ставят доходить.
А сколь гостей наедет! Сколь красива невеста в венечном уборе! Вымытая водой с серебра, в парче и жемчугах. Уж хоть бы и оплечья рубахи парчовые, уж хоть бы и тафты на распашник! Это у самой бедной из крашенины сарафан, да и то серебром обшит, да и то звончатые круглые пуговицы от груди до подола, старинные, еще с прапрабабкина саяна, до татар до ентих деланы владимирскими мастерами… Те-то были всем мастерам мастеры!
И уж на столе тут и пироги, и студень, и всяких заедок – это еще у невесты, на смотренье. А как повезут поездом в храм, да с оберегом, с молитвою от колдунов-нехристей, тут и семя льняное сыплют, и иголки в подол, и ворожба. (У иных кони станут – ни с места, хоть убей!) А там, как косы переплетут по-женски, и повойник наденут, и в дом к молодому отвезут, отведут ли, коли рядом… Тут уж пир – всем пирам пир! И белых рыбников со стерлядью наготовят, и аржаных, и рыбное тут, и мясное из свежей убоины, и кисели, и каши… В хорошей-то свадьбе после первой каши, что молодым подают, тридцать-сорок перемен на столе! Ешь – не хочу! Тут и всякого нищего, сирого-убогого накормят, тут и песельницам надеют и шанег, и пирогов, и пряников, а побогаче кто – и серебром дает за хорошу-то песню, за «виноградие»! Тут уж и пиво всем подносят, кто ни набьется в избу, а что песен, песен!
А потом молодых ведут в холодну клеть, и уж тут сваха рубаху кажет али сам жених алу ленточку навяжет да вынесут… И назавтра еще гуляют гости! А всей-то свадьбы – неделя, то и две! Так вот у мужиков, у смердов. Ну а у боярина али князя – дак тут и пересказать не перескажешь всего-то! В котором городе княжеска свадьба, так, почитай, весь город кормят и поят в те-то поры!
Потому и завидуют, глядя вослед улетающему поезду, бабы. Так бы уж не постояли, сходили бы али съездили в Нижний-то, хоша песен послушать да у крыльца княжеского постоять!
Толкуют почасту, что свадьба великого князя Дмитрия затеивалась в Коломне ради норова суздальского князя Дмитрия Константиныча. Мол, не в Нижнем или Суздале, дак хоть и не в Москве! Вряд ли стесненный и утесненный суздальский князь, выдавший недавно старшую дочь за сына московского тысяцкого, получивший свой город только при деятельной помощи московита, мог бы так уж чваниться перед зятем, как-никак великим князем Владимирской земли и «старшим братом» по лестнице княжеских отношений! (Хоть по родству и приходил ему юный Дмитрий Иванович четвероюродным племянником.) Вряд ли! Споры тут ежели какие и были, то только того свойства, каких песельниц на свадьбу выбирать. Тут уже суздальцы никак не хотели уступать своего московитам, а те тоже уперлись, едва до брани дело не дошло. И коломенские бабы голос подняли: «У нас-де свадьба, дак!» Так три хора и набрали в конце концов, чтобы никого не обидеть, и уж песельницы разбиться готовы были, абы соперниц перепеть!
Но слишком еще печально выглядела выгоревшая целиком и едва-едва восстановленная Москва. Еще черными закоптелыми остовами высили каменные церкви в сиротливом обрамлении пожоги и груд только-только навезенных и едва ошкуренных бревен. Слишком не к свадьбе гляделась деловитая стукотня топоров, ряды саней и разъезженные, в навозе и черной угольной грязи улицы. И Кремник (Кремль, как называли его гости-сурожане, генуэзские фряги) еще весь был в развалах и осыпях рухнувшей испепеленной стены, в деловом кипении древоделей, что возводили пока амбары, житный двор, бертьяницы, конюшни и погреба, не трогая выгоревших теремов и двора митрополичьего. Словом, город рос, возникал, но не был еще готов к тому, чтобы править в нем княжескую свадьбу. Ну а во Владимире (стольном городе как-никак!) не захотели московские бояре, Вельяминовы, Бяконтовы, Акинфовы воспротивились, а за ними и вся дума. Так и выбрали ближнюю Коломну.
Пятнадцатилетний подросток, с первым еще юношеским томлением по ночам, еще ни разу не изведавший «этого», Дмитрий, ожидаючи нареченную свою, извелся совсем. Все уже стало неважно: и зависть к Ивану Вельяминову, спокойное превосходство которого приводило его то в отчаяние, то в неистовый гнев, и подогреваемая многими юношеская жажда повелевать, править, двигать полки (хотя он и доселе не мог бы сказать внятно, какие полки, куда и зачем), и успехи в верховой езде, в стрельбе из лука и рубке саблей, и отроческое упрямство перед учителем, когда нечего противопоставить взрослой мудрости наставника, а возражать хочется до зуда во всем теле, – упрямство, все чаще испытываемое им по отношению к Алексию (почему он и братьев митрополита, всех Бяконтовых начинал безотчетно сторониться и избегать), и ревность к двоюродному брату Владимиру, слегка лишь умеряемая возрастом – Володя был двумя годами младше и еще мальчик, – и многое, многое другое, чего и не пересказать, все отошло посторонь, отодвинулось, потеряло остроту и вкус, позабылось перед тем, что ожидало его теперь, ныне, вот уже в считанное количество дней. Свадьба должна была состояться на Масленой note 5Note5
18 января 1366 года.
[Закрыть].
Уже в Коломну съезжались многочисленные гости из Москвы, Рузы, Можая, Юрьева-Польского, Дмитрова, Костромы, Переяславля, Владимира, Ростова, Стародуба, Нижнего и Суздаля, даже из Рязани, уже три хора песельниц, ревниво гадающих, кто из них лучше, собрались в коломенских хоромах и вполголоса пробовали свое мастерство, уже пекли, варили и стряпали, а Дмитрий все еще не ведал облика невесты своей. Глядел на молодую жену Микулы и приходил в отчаяние. Княжна Марья была и строга и холодна на его мальчишечий погляд, и окажись он с такою вместе, не ведал бы, как и поступить.
Микула утешал молодого князя, как мог. Наедине как-то выспросил, сумеет ли тот не сплоховать с женою. Дмитрий, отчаянно, пятнами краснея, признался, пряча глаза, что не ведает точно, как это происходит, и Микула спокойно и внятно объяснил ему, в чем тут люди отличны от быков и коней, случки коих Дмитрию приходило наблюдать неоднократно.
Так вот оно и подходило и подкатывало, пока наконец не подошло и жениха не помчали в таком же облаке морозного сверкающего вихря с Воробьевых гор в Коломну, и дружки – молодая холостежь из виднейших боярских родов, перевязанные полотенцами, с гиканьем и свистом поскакали впереди и вослед кожаного красного расписного княжого возка, в котором бешеные выстоявшиеся кони несли к брачной постели надежду Москвы.
Перед самой Коломной жених потребовал гневно, чтобы его выпустили из возка и подали верхового коня. А то – словно девку везут! И лихо поскакал впереди своей разряженной молодой дружины. (Скакал и чаял: скакать и скакать бы еще, не то слезешь с седла – и оробеешь вдруг и сразу до стыдноты.) Но вот и коломенские рубленые городни, и толпы народа, и золото облачений духовенства, и клики. И – эх! – разгоряченные всадники врываются в город, в свалку раскидывают загату поперек пути, Дмитрий кидает серебро горстями – путь свободен! Они скачут к терему. Слезая с седла, он чуть было не падает, нога запуталась в стремени, но дружки подхватывают со сторон, едва не вносят, от лишнего усердия, на крыльцо. Федор Кошка с Иваном Родионовым Квашней первые понимают свою промашку, ставят князя на ноги, отпихивают других, и вот он подымается по ступеням, по венецейским сукнам, чеканя шаг, и краснеет, и бледнеет, и мурашки бегут по коже, и пот промочил уже всю нижнюю, хрусткого шелку рубаху на спине.
Дальнейшее – как в тумане. Громкие голоса, хор, «здравствование». Дружки стягивают с него дорожный опашень и зипун, кто-то соображает переменить князю рубаху, вытирают вином лицо, шею, спину и грудь. И вот свежая рубаха холодит плечи, и Федор Кошка на коленях хлопочет с тканым поясом, подносят зипун цареградской парчи, застегивают праздничный золотой с капторгами пояс, причесывают костяным новогородским гребнем непослушные, торчащие врозь волосы, ободряют, подмигивают, натягивают на ноги тонкие красные сапоги… За стеною, в столовой горнице, уже запевает хор:
А-ох, у нашей свахи, а-а, Золотой кокошник Головушку клонит, а-а, Жемчужныя серьги Уши обтянули, а-а, Бобровая шуба Плечи обломила, а-а…
Слышится рык свадебного тысяцкого, великого боярина Василия Окатьича. В горницу вступают Дмитрий Зерно и Андрей Иваныч Акинфов, кланяются, зовут князя ко столу. Он идет, мало что соображая и видя, его сажают, расчищая дорогу, гремит хор:
Налетали, налетали ясны сокола, Ой рано, ой рано, ой рано моё!
В горнице жарко от множества гостей, от целых пучков восковых изукрашенных свеч в шандалах. Близит вывод невесты к столу (чин кое в чем нарушен, в Нижнем уже было первое застолье, но – без жениха), и вот ведут, ведут! Его подталкивают, он встает, неживыми руками мнет бахрому расстеленного по краю стола полотенца.
Евдокия, четырнадцатилетняя суздальская княжна, уже развившаяся, с высокою грудью, огромными голубыми глазами, завешенная до бровей густою бахромой дорогой шелковой шали, отчего виднее становится нежный обвод круглящихся щек и белой шеи, охваченной бирюзовым наборочником, останавливается посреди горницы. Румянец вспыхивает у нее на лице, ходит волнами, и Дмитрий густо, облегченно и благодарно краснеет. Невеста куда проще Микулинской жены, проще и краше, на его погляд. Он видит близко-поблизку испуганно-любопытный взгляд, сочные губы, не ведая в сей миг, что любуется в девушке тем, что нравилось когда-то его прадеду и что будет принято на Москве и века спустя как первый признак истинной женской красоты ( о чем Иван Грозный когда-то напишет английской королеве, требуя найти ему невесту «попухлявее»).
Ничего такого не мыслит московский князь, он и вовсе ни о чем не в состоянии ныне путем помыслить, но невеста ему нравится – до сладкого жара в теле, до румянца, и он едва не роняет чару густого меду, которую подносит ему на серебряном подносе суздальская княжна, поддерживаемая со сторон двумя вывожальницами. И первый, через стол, поцелуй – не поцелуй, а лишь тронули губами друг друга… Оглушающе гремит хор коломенских песельниц, и вот она обернулась, уходит…
Там, в задней, когда ее разоболокают подруги, Овдотья, смеясь, крутит головой, говорит:
– Красный, красный какой! Как рак! Ой, подружки, не могу! И нос лаптем! – И закатывается счастливым, заливистым хохотом.
Закусок, которыми уставлен стол, почти никто не трогает, не до того. Все уже торопятся в сани.
Отец невесты, Дмитрий Константиныч, трясущимися руками благословляет ставших перед ним на колени на расстеленном тулупе московского князя и младшую дочерь, не столь понимая, сколь чувствуя, что с этим браком окончательно отрекается от великого стола владимирского и гордых надежд покойного родителя своего и теперь остается ему одна только услада – что его внуки от дочери и этого неуклюжего отрока наследуют все же вышнюю власть в Русской земле! А ему, ему хоть это вот утешение, подготовленное дальновидным Алексием, что он как-никак тесть, родич, а не боярин служилый в московской думе, каковыми становятся ныне все новые и новые мелкие удельные князья, и что было бы уже и вовсе соромно, прямо-таки непереносно ему, вчерашнему великому князю Залесской Руси! И потому еще дрожат сухие, утратившие властную силу руки князя и икона, которой он обносит троекратно головы жениха с невестою, вздрагивает у него в руках… Не кончены, далеко не кончены еще спор и злобы, и аж до царя Василия Шуйского, до смутного времени дотянется ниточка трудной борьбы служений и измен князей суздальских дому московских государей… Но сейчас здесь старый человек, благословляющий дочерь с женихом, навек отрекается высшей власти, и не потому ли еще так увлажнены его глаза и предательская слеза, нежданно проблеснув, прячется в долгой бороде Дмитрия Константиныча?
Невесту выводят закрытую. «Дети боярские» – оружие наголо – берегут путь. Гомон толпы. (Мор схлынул, и все уже будто забыли о нем!) Громкая самостийная «Слава». Только что в палатах московки пели «Разлилось, разлелеялось», а тут уже запевают свою, коломенскую, рязанскую «Славу».
Невесту усаживают в сани. Жених, как и прежде, взмывает в седло, раз и навсегда решив, что верхом ему ехать достойнее. И вот церковь, паперть, жарко пылающая свечным блеском внутренность храма. Тесаные стены отмыты до чистоты янтаря. Венчает молодых красивый рослый коломенский протопоп Дмитрий, Митяй. Митрополит Алексий говорит им напутное слово. И хотя до Дмитрия мало что доходит в сей час, но в церкви он опоминается, чуточку приходит в себя и уже к большому столу храбро решает не робеть. А потому, когда сват, скусив концы ржаных пирогов, снимает наконец шаль, открывая молодую уже с переплетенными косами и в повойнике, Дмитрий по зову всех гостей крепко и неумело берет ее за уши и прижимает, притискивает сочные губы девушки к своим губам. Оба задыхаются, не ведая, что делать дальше, и долго не садятся на расстеленную для них мехом наружу овчину.
Хоры песельниц поют по очереди, соревнуясь, и коломенские зычат всех громче, оглушая гостей.
Уже проникшие незнамо как в палату (Алексий был против потешников) скоморохи пляшут, дудят и выделывают головокружительные прыжки на том конце столов, уже молодые откормили друг друга кашей, уже полупьяны гости, а Дмитрий с Евдокией ждут, украдкой сцепив руки пальцами, – два почти ребенка, для которых сейчас, кроме любви, нет уже ничего на свете, и тотчас подымаются, заалев, когда их зовут вести в холодную горницу, на высокую постель из снопов.
Дмитрий – никогда не бывал серьезнее – запрыгивает на постель первый. Овдотья, наклонясь, стаскивает с него сапоги, собирает раскатившиеся иноземные золотые кругляши. Они раздеваются, не трогая друг друга, в скудном свете одной тоненькой свечи, наконец тушат и ее. Дмитрий ощупью находит девушку, затаскивает неловко через себя на постель, пугается, и это спасает его от грубости. Они долго лежат рядом под легким собольим одеялом, ласкаясь и привыкая друг к другу. Потом Овдотья ложится на спину
– верно, тоже подружки учили, – крепко прижмуривает глаза. Ей почти не больно и скоро становится легко. После они лежат, обнявшись и жарко дыша, ни тот ни другой еще ничего толком не понявши, но им хорошо и будет хорошо всю жизнь, двум детям, узнавшим любовь впервые и только после освятившего ее венца, в чем была (Дмитрий, конечно, ни днесь, ни после не задумывается об этом), помимо всех политических расчетов и интриг, житейская мудрость владыки Алексия.
Скоро придут швырять горшки в дверь, пир будет вестись своим побытом, будет здравствовать князя Дмитрия протопоп Митяй и до того придет юному князю по нраву, что будет позже князевым духовником и едва не станет – годы спустя, по князеву хотению – митрополитом всея Руси… Много чего еще будет на княжеской свадьбе и после нее!
А совершитель всего сего стоит сейчас на молитве в моленном покое своем и, отвлекаясь от священных слов, прикидывает, когда возможно сказать Дмитрию о сугубых надобностях государства, и первой из них – строительстве взамен сгоревшей крепости каменного Кремника. Ибо он ждет иных, грозных событий и хочет приуготовить к ним заранее новую столицу Руси.








