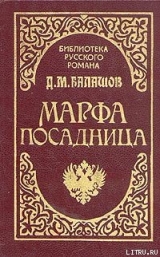
Текст книги "Марфа-посадница"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 34 страниц)
– Все пробовал… Парился… Ничего не помогает.
– Ничего?
– Ничего. Пережили мы с тобой, Марфа! Умереть бы в срок, как Григорий Кирилыч да Федор Яколич… Помнишь Григория Кирилыча-то? Хоть не видали бы этого сраму!
– Встанешь еще! – сказала она, сдерживая дрожь голоса. – Нужно собирать людей!
– И не встану, – ответил он хрипло. Помолчал, облизнул губы, добавил тише:
– Я уж ничего не могу…
Что-то жалкое показалось в лице у Офонаса, впервые за все те годы, что знала она его. Марфа обвела глазами горницу: иконы, лампадки во всех углах. Тоже новое – не был особенно богомолен Офонас!
Она подала ему напиться. Поддержала, пока пил, тяжелую бессильную голову. Офонас выпил, откинулся на взголовье. Из-под ворота рубахи, на сине-багровой толстой груди видна была белая шерсть. Большие бугристые руки в коричневых пятнах бессильно лежали на одеяле.
– Ты, Марфа, в страшный суд веришь? – помолчав, вопросил Офонас. Вот, конец света грядет?.. А я верю. Раньше-то не верил, не чуял ее…
Он вновь поглядел жалобно, и у Борецкой защемило сердце. Вспомнила, как еще перед Рождеством был у нее на обеде, как шутил, как со вкусом ел рыбу, долго прожевывая беззубыми твердыми челюстями, как он, не страшась, первый подписывал грамоты, как одним присутствием своим, тяжелой медлительной основательностью, даже глухотой вселял уверенность в других… А теперь – в срок умереть.
– Нет, нельзя! – сказала она ему громко на ухо, чтобы расслышал.
– Что ты, Марфа?
– Нельзя, говорю, умирать!
– Вота, нельзя! А можно.
Он трудно улыбнулся, и на миг показался прежним, всегда уверенным в себе Офонасом Грузом.
Тимофей, большой, костистый, боком протиснулся в горницу, стараясь, как видно, казаться меньше перед умирающим старшим братом. Так же, боком, поклонился Борецкой.
– Вот, Тимоша, – прохрипел Офонас (никогда так не называл брата на людях, как помнила), – вместе мы были. Ты теперь Ивановну не покидай… и прибавил сухим шепотом:
– Пропадает Новгород Великий!
***
Приближалась осень. Борецкая все так же строго вела хозяйство, принимала обозы. В часы отдыха нянчила внука Василия, Василька, рассказывала мальчику, какой у него был отец, мешая черты Федора и Дмитрия: большой, сильный, смелый…
Ездили к ней немногие. Построжевший после прошедших событий Савелков да еще пять-шесть друзей старых. Но однажды Олена застала мать за разговором с Окинфом Толстым и услышала еще из-за дверей прежний властный голос матери и сердитый голос Окинфа.
– …То и Казимир, а поклонами воли не добудешь!
Мать смолкла, едва Олена отворила двери, и дочь так и не поняла, о чем они говорили, – не то о Казимере, брате Якова Короба, не то вновь о литовском короле?
Мать была все та же. Смерть Федора не согнула ее.
Марфа Борецкая, по осени, стала почасту бывать у купцов. Ярославово управление во Пскове и их вразумило паче иных речей. Князь Ярослав Оболенский, ставленник Ивана Третьего, все больше свирепствовал во Пскове, облагая город поборами и отбивая смердов от городского вечевого управления. Второго сентября, пьяный, учинил драку на торгу. Один из его слуг потянул капусту с чьего-то воза. Возчик не дал, завязалась драка.
Посадским ярославовы холуи давно уже стали поперек глотки, сбежался народ.
Ярослав появился сам, в панцире, и начал стрелять, убил человека.
Безоружные вспятились, Ярослав же, зайдясь, угрожал поджечь город. Но тут на него пошли с оружием, осадив князя в Кроме, Детинце псковском. Всю ночь гремел набат, и вооруженные горожане стерегли князя. Посадникам с трудом удалось утишить город. Об этом уже через день судачили в Новгороде, предрекая и себе такую же участь от москвичей, ежели поддадутся великому князю. Вновь город заколебался, вспоминая о своих древних вечевых правах.
В это же время в Новгород тайно прибыл посол от короля Казимира, побывавший у многих бояр, и у Борецкой в том числе.
– Почто король не всел на конь, когда мы были в силе? – гневно отмолвила Марфа. – А теперь ему в городе и веры нет! Пущай других уговорит, тогда и я подумаю.
Она больше надеялась нынче на псковичей: может, опомнятце да к ним пристанут? Зато Иван Кузьмин, зять Овинов, ухватился за королевкого посла обеими руками. Он да иные из пруссов и неревлян имели с послом долгие беседы. Разговаривал посол и с Юрием Репеховым, наместником владыки Феофила. Но все это было лишь чадом на пепелище, бледным воспоминанием о былых погубленных надеждах.
В конце сентября Новгород горел. Осень стояла сухая, ветреная. Пожар начался у Николы на Розважи. Враз не могли унять, и вырвавшийся огонь пошел гулять по улицам и берегу, слизывая амбары, терема, лодьи, груды леса и добра. Казалось, огонь тщится пожрать все то, что еще не досталось великому князю Московскому.
Пожар добрался и до Марфина двора. В амбарах лопались мешки с солью, гулко, словно пушечные выстрелы, взметывая охваченные огнем сквозисто просвечивающие бревна. Мерцающие куски огненной драни вились в столбах горячего воздуха, душной гарью заволакивало улицы. От колебания ветра вся Великая враз наполнялась нестерпимым жаром, от которого сохла кожа на лице и шевелились, затлевая, одежды на людях. Горячие головни падали, как редкий сухой град, с шипом догорали на уличном настиле, выжигая в мостовой черные круги.
Из терема Борецкой выносили иконы, узорочье, серебро, волочили сундуки с добром, кули с мукой и житом, выкатывали бочонки. Марфа, стоя на улице, неотрывно глядела, как занимался, несмотря на все тщетные усилия дворни, угол великого терема, как чернели и жухли листья на яблонях сада, как по черным, с повисшими тряпочками листвы сучкам стали разбегаться огненные мураши, и вот уже долгие желтые языки принялись лизать погибающий сад, охватывая кусты и деревья. Длинным золотым змеем пробежав по забору, пламя вцепилось в него, извиваясь и корчась, вот оно кинулось на крышу дворницкой, а сзади двора водометом взметнулись искры выше терема, выше маковиц золоченой кровли, раз, другой… Упадая и вновь взметываясь к небесам, пламя охватило терем, и вот уже маленькие красные чертики побежали по золоченым черепицам, и вышка, черная в огненном пламени, вдруг вырыгнула изнутри длинный сноп огня и вся стала как пылающий факел. Терем погибал. Рушилось все, что было славой, гордостью и величием рода Борецких. Резные расписные грифоны исчезли в огне. Лопались, выметывая клубы огненного дыма, немецкие цветные стекла. На миг дивною красотою извилось пламя по прорезному узорочью опущенной кровли. Внизу голосили бабы, совались черные от копоти мужики, ржали испуганные кони, которых под уздцы выволакивали из объятых огнем конюшен. Не переставая сыпалась тлеющая сажа, а вверху, выше кровель, ярко плясало предсмертное пламя, уносясь в огненной метели былого счастья, гордости, удали и смеха сыновей, и рушились в ничто черные, просквоженные огнем венцы.
Ключник, отплевываясь, выскочил из ворот.
– Чего митусятце! – прикрикнула Марфа. – Поварню разобрать надоть, дале бы огонь не пошел!
Иев нырнул обратно в дымное море.
– И житницу размечите! – крикнула Марфа вслед. – Пожалеете, полгорода сгорит!
С потрясающим треском и шипом обрушилась главная кровля. Теперь все.
Оба сына допрежь и сейчас – родовой терем. Что еще оставалось от прошлого у старой женщины, знаменитой, властной и богатой, погибло в пламени.
Теперь у нее остался один только Новгород, и его нельзя было отдавать ни огню, ни Московскому великому князю.
Глава 27
Подступал и наступил октябрь. Строились наспех, из нового, плохо просушенного леса. Раньше бы и не позволила себе такое! Завозили запасы взамен потраченных пожаром: хлеб, холсты, лен и шерсть. Из волосток гнали новые обозы с добром в Новгород. Телеги вязли по ступицу в раскисающих от осенних дождей дорогах. Борецкая сама выезжала встречать и торопить возчиков. Терем сложили простой, на первое время. Где-то в душе Марфе и не хотелось лучшего – не для кого теперь!
Незаметно, в трудах и заботах, подошло Рождество, а за ним Святки со славщиками, ряжеными, гаданьем, а там уже и февраль не за горами. С концом февраля начинался новый год, последний (о чем смутно догадывались многие) год независимости Господина Великого Новгорода.
Дела были невеселые. Святки встречали без Офонаса. Старик скончался в канун Рождества. Вместо славщиков – гроб на белых полотенцах выносили из терема. Без Офонаса Людин и Загородский концы совсем отшатнулись.
Заправлять там стали Феофилат с Александром Самсоновым, а ни тот, ни другой не хотели явно спорить с Москвой. Плотничана тоже отложились. С Коробом и Казимером прохлада наступила уже давно. Борецкая оставалась одна. Город баламутили вялые пересылки с королем Казимиром, в которого никто уже не верил, да сгущающаяся угроза от великого князя Московского.
Все упорнее говорили о готовящихся выводах – насильственном переселении опальных в низовские города. Наместники великого князя делали, что хотели.
Уже все низовцы по суду не отвечали в городе, а шли на Городец отвечивать перед наместником, решавшим всякое дело в пользу москвичей. Купцы начинали разбегаться в Кострому, в Устюг, в Вологду, кто тайно, кто явно. Даже друзья отбывали, с кем думу думали, совет советовали.
Еще до Введенья уехал Строганый, с которым у Марфы были постоянные дела торговые. Соль она всю обычно продавала через него. Честно уехал.
Попрощался.
Марфа как раз отдыхала. Пиша зашла, замялась было.
– Чего тебе?
– Матушка государыня, Спиридон пришел!
Вышла на сени, думала – с делом каким, ан ошиблась, – прощаться.
Поклонился в пояс, бороду разгладил. Статен, широк. Сказал не кривясь, просто:
– Прощай, боярыня, проститьце пришел! Уезжаю.
– Совсем? – спросила Борецкая, уже поняв все и без ответа, по лицу Строганого.
– Совсем. Пока добро да терем продать можно!
– Думашь, погинет Новгород Великий?
– Погинет-то навряд, а не к добру колгота, и позвы не к добру. Не тот стал Господин Новгород!
И осрамить бы его, отмолвить сурово, а не сказала ничего, спросила только:
– Куда подаваиссе?
– На Каму-реку либо на Вычегду. Там места дикие, вольные, зверя красного, рыбы – несчитано, леса высокие, воды текучие!
– Еську, иконника, с собой не берешь?
Усмехнулся Спиридон:
– По первости мне там не до икон будет.
– Возьми! – осуровев лицом, сказала Марфа. – Друга не оставляй!
Строганый подумал, склонил голову.
– Оно бы – спустя время… А таки послушаю тебя, боярыня! Расхмылился купец:
– Я ведь тя, Марфа Ивановна, помню девкой ищо! И на Белом мори у нас тебя помню!
– А ты никак старее меня годами? («Сколько лет дело вела – ни разу не спросила о том!») – Старее! – ответил Строганый. Усмехнулся, сузив глаза. По мелким морщинкам у глаз увидела: не врет. А красный мужик, и седины не видать!
– Ты, Спиридон, молодечь еще!
– А не жалуюсь, благодаря Бога! Силы есть! Ты не гневай, Ивановна, допрежь молчал, а ныне спрошать хочу. Вот хоть ты, хоть наше братство Иваньское – почто бы то миром с Москвою не поладить? Верхнюю-то власть обчу устроить, а наши дела, домашние, градские, самим решать, по-прежнему?
Жили бы мы и с государем – не тужили! Немцев потеснить маленько надоть.
Гляди, сильнее бы и город стал, и нам, купечкому званию, легота! За то бы уж и заплатить можно. Все одно – тут люди живут, москвичи в Новгород не переедут!
– Не будет того. Князь Иван до веча добираитце.
– Не будет. Чую, что не будет, пото и бегу! Круто берет. Поди, и вовсе заморску торговлю в Новом Городи прикроет! Вас под корень, и нас под корень!
– Тряхнул волосами Спиридон, шутливо предложил:
– С нами, боярыня!
Бери своих молодцов, и айда!
Марфа шутки не приняла, отмолвила без улыбки:
– Берегись, купечь! Я – как огонь жгу. За мной князь войско пошлет, хоть за Камень, в Югру! Сгорю, и тебе со мной сгореть будет! Нет, беги один лучше! А я с Великим Новгородом остаюсь. Да уж и недолго истомы конечь видитце! Бог даст – отобьемся от Ивана, сама в монастырь уйду. К себе, на Белое море, в Неноксу. Для себя и строила, как Василий Степаныч, царство ему небесное! Мне теперь одной немного нать… Прощай. Еську возьми! Перед Богом ответишь за него! Постой ище… – Вынесла икону, вручила:
– Давно мы с тобой дела ведем. На вот, возьми. Когда и вспомнишь!
Ушел Спиридон. Вроде, и не обиделась даже. Зашел, простился. Не отай, как другие. Григорий Тучин, вон, лица не кажет. В чем-то честнее они, хоть и живут на барыш. А всего честнее, поди, черные люди. Ремесленники, крестьяне
– те за всех отвечают. В высоком терему прожила век, не видать было!
***
Гром грянул в январе. Великий князь вызывал новгородцев на суд к себе, в Москву. Всех – и того, кто не дождался разбора своих дел в тот приезд великого князя, и тех, чьи жалобы были поданы Городецкому наместнику и еще не рассмотрены. Вызывал истцов и ответчиков, и не только мелких людей, но и бояр великих – самого Захария Овина, Василия Никифорова Пенкова, Ивана Кузьмина. Такого еще не бывало. Многие и не верили даже.
Судиться у себя, в Новгороде, – это была святая святых граждан вольного города. Без разорительных дорожных расходов, без исправы московской, где обдерут и правого и виноватого, где попасть в яму – хуже, чем умереть. У себя в затворе сидеть – не в пример легче! Все из дому передадут лишний кус, да и сунут стражнику, чтоб не прижимал очень, дома и стены помога!
Захария Овин не любил рискованных дел. В его ненависти к Борецким, давнишней, прочной, было, кроме идущего из старины родового соперничества, кроме кончанской вражды и юношеских воспоминаний о погроме неревлянами дядиного терема (то же теперь и им устроили – поделом!), в этой давней ненависти было и постоянное раздражение на то, как неоправданно и, с его точки зрения, зря Борецкие лезли на рожон. Потеряв старшего сына, Марфа не изменилась. Это сбивало его с толку.
Овин понимал других через самого себя. От Олфера Гагина он отобрал четыре обжи хорошей земли под городом. Олфер сумел нажаловаться Московскому князю. Он и сам бы на месте Олфера поступил так же. Теперь приходилось судиться о той земле перед князем. Раскаянья он не чувствовал, разумеется. Земля есть земля – не зевай! Новгородское управление дотоль было хорошо, по мнению Захарии, доколь устраивало его самого. Он нравом пошел скорей в дядю, чем в отца, тот-то был и в Совете среди старейших, имел вкус и к власти, и к заботам городским. Овин же сторонился дел посадничьих. Раз только ездил послом в Москву с Ионою и с Иваном Лукиничем, да и то больше помалкивал, предоставляя Лукиничу вести посольское дело. Хозяйство – это он понимал. Не лез на Двину: «За чертом нужно с Москвой тягатьце! Свои волостки тута, их и обиходь!» Новины припахивал каждый год, да и прикупал, да и так прибирал к рукам немало, где только можно. И росла Овинова волость! Хоть и не размахивался, как Борецкие, а имел не меньше Марфиного. Во всем Новгороде один Богдан Есипов был богаче его. За то и уважал Захария Богдана, из-за него согласился и просить за поиманных – не за Федьку же, Марфиного дурня!
В рисковые дела Овин пихал других. Что получится, а там уже видно будет! Ругал зятя за бегство с борони, а сам послал на Шелонь брата вместо себя. И с королем Казимиром ждал: а вдруг выгорит дело? Тогда – мой зять в Литву ездил! Наша семья напереди!
И вот когда пришла главная труднота! Нынче самого пихают наперед – и не отпереться, и переждать нельзя, и прикрыться некем. Его, его! Захарию Григорьевича Овина князь Иван зовет в Москву на суд.
«От Рюрика того не знали!» – ворчал Овин.
Верно, от Рюрика! Как стоит Новгород – суд был у себя. Преже еще с наводкой придешь, кликни – вся улица за тебя. Высуди не по-твоему! Утеснил Иван. Умен. Не откажешь. Служат ему московские-то бояра. Вельяминовы, Оболенские, Кошкины. По струне ходят. Весной, вон, тверские бояра поехали на Москву, в службу. Охо-хо-хо! На Низ ведь пошлют. На татар. Его, Захарию. Или сына – тоже не легче… А волости отоймут – легче станет?! К Марфе Борецкой припишут во товарищи! Уж коли в самом Новгороде хватать стали, дак окончилась воля новгородская. Ну, а поедет он сейчас… Да еще как тут повернется? Шалым делом и голову снимут! И ехать нельзя, и не ехать нельзя. Обсудить нать, хош со своими, плотничанами. Ну, а скажут: не езди? А после, как на Шелони, в кусты? Надо ехать!
Решил твердо, а стало не легче от того. В гридне кончанской собрались все: и зять, мокрой курицей, и Яков Федоров, и Кузьма, брат, с сыном Василием, Михайло Берденев, тоже с сыном, житьи, почитай, ото всех улиц, с Гришкой Арзубьевым – в отца кочеток! Семьей бы собраться, ближним, одним боярам – куды ни шло. Ну, а тут колгота пошла враз: «Ты поедешь, дорогу протопчешь, а иным как?» Иным! У иных свои головы на плечах небось.
Обдумать еще, мол, надобно. Не сдержался:
– Думать что? Думать легко, коли не тебе позвы пришли!
Яков (он-то чего взъелся!) крикнул:
– Иуда!
Захарий тяжело встал, утвердился на ногах, на сапогах тимовых, на красных каблуках с серебряными подковками, как кабан, окруженный псами, повел головой, тяжко глянул на Якова, стал опоясываться. Борода вздрагивала от бешенства. Глухо сказал:
– Еду к Москвы, ко князю.
– Иуда! – повторил Григорий Арзубьев из толпы житьих.
Захария, покраснев шеей, прорычал:
– Кто из вас не Иуда?! И кто Христос, его же предаю есмь?!
– Родину предаешь, Искариот! – ответил Григорий.
– Вы, что ль, родина? Осрамились на Шелони, воины! – Уже от дверей Овин оборотился и предрек:
– Уеду – за мной побежите вослед!
Захария был осторожен, но не труслив. Прижатый в угол, лез, как медведь, вперед, напролом. Его не остановили.
***
Возок Овина выкатился из Рогатицких ворот и влился в череду просителей и ответчиков, что тоже тянулись в Москву, по приказу великого князя. И внове было, и чудно, что с подлым народом наравне ехать приходит.
Потертые колымаги, сани, возки, в разномастных упряжках, в грошовой сбруе.
Волоклись за сотни верст вдовы, обиженные родичами, чернецы и черницы мелких монастырей, житьи, купчишки, ремесленники, коих тогда сгоняли на Городец и нынче опять понадобились Ивану для какой-то своей надобности.
Захария, не обманываясь, чуял, что весь этот народец лишь личина, а что под нею? А под нею он – Захария! Овин нарочно обгонял обозы, чтобы оказаться впереди и не мешаться с прочею дрянью.
Почин Захарии сломил и других. Василий Никифоров Пенков погодя поехал тоже. Поехал за ним, как и предсказывал Овин, Иван Кузьмин. Теперь уже торопились обогнать друг друга.
У Василия Никифорова перед отъездом был трудный разговор с сыном Иваном. Впервые отец избегал смотреть ему в глаза. Сам думал с болью, что, вот, всегда был героем, дрался на Двине в первых рядах рати, четырежды смерть висела над головой, и вдруг – как трус, как предатель… Высказав самое трудное, посмотрел украдкой, ища укора в сыновьем взгляде, и не встретил. Иван глядел на отца и сам скорбно, потерянно. Вдруг Василий Никифоров понял, что и сын боится, боится, может, еще больше его самого этой давящей многолетней угрозы.
– Не осуждаешь?
– Нет, отец. Головы спасем. Да землю… Ничего уже не спасти боле!
Не таким был Иван Пенков шесть лет назад, когда еще живы были Дмитрий Борецкий с Селезневым! Отец с сыном обнялись крепко, и поехал воевода новгородский на позор, на поругание, на суд в Москву – вольный боярин вольного города, никому не кланявшегося с самых первых, изначальных времен.
Захария не ошибался. Не из-за четырех гагинских обжей земли звали его в Москву! И когда показались в серебряных от инея перелесках и путанице дорог сбегающие с мягких склонов деревни, что густели с каждой верстой, вытягиваясь рядами изб вдоль зимника, прерываясь все реже, они начинали превращаться в улицу, и вдали, над лесом, уже забрезжил белокаменный Детинец Московский, Кремль по-ихнему (язык сломаешь! У псковичей Кром, дак как-то и выговорить легше! Овин любил все круглое, крепкое, чтобы и дорого, да просто, – и в словах тоже), он плотнее запахнулся в бобровую шубу (шуба седых бобров – поищи такую на Москвы!), пошевелил ногами в медвежьей полости
– затекли от долгого пути – и невесело усмехнулся:
– Плетутьце тамо! На суд… Нужны… Я нужен!
И оттого, что нужен именно он, стало не то что веселее (поди, знай, чего потребуют), а крепче как-то.
Пока устраивались на монастырском подворьи, размещали припас, возы, коней, слуг – Овин приехал с небольшим обозом, меньше хоть зависеть от московлян, – пили и ели с пути, подъехал московский пристав. Захария был зван к великому князю назавтра, о-полден. Долго не держат, тоже то ли к хорошу, то ли к худу!
Выстояв и высидев положенное, – на Москву в иных делах не торопились, – Овин говорил с боярами Челядней и Китаем.
Будет ли он, Захарья Григорьев, бить челом в службу великому государю Московскому?
Овин ожидал этого вопроса, думал о нем всю дорогу. Бить челом государю – значило нарушить все новгородские законы и устои, отречься от своих… И надо было отрекаться!
Он прямо заявил, что почитает честью великой служить верой и правдой государю Московскому, но не мыслит только, как доложить о том Совету господ и Господину Новгороду?
После этого он опять ждал и наконец был допущен пред очи Ивана Третьего. Иван милостиво поздоровался с ним, показав, что помнит прием, устроенный ему Захарией.
– А что касаемо опаса твоего, – изрек Иван, – то мыслим попросить владыку Феофила, богомольца нашего, и прочих, дабы отчина наша, Новый Город, прислала послов к нам, господину своему, яко к государю, и служила бы нам честно и грозно, яко же и подобает служити государю своему!
Захария не сразу понял, чего хочет Иван. А тот, пристально глядя в глаза боярину, добавил:
– И мыслим мы, что ты, Захарий, возможешь нашу волю Господину Новгороду передать и предстательствовать о том пред отчиною нашей!
Когда он сообразил, что Иван хочет распоряжаться в Новгороде, как на Москве, и от него требует заявить об этом Совету господ и всему Новому Городу, Захару стало жарко под шубой. Так просто – всех под топор? А как же вече? А как же степенной посадник, и его долой? А Совет господ?! У боярина голова пошла кругом. Заслониться – кем? чем?! Спасительная мысль пришла в голову: меня ведь одного не послушают! Василий Никифоров, он тоже зван! И за тем же делом! Им заслониться! И владыка, пущай он решит, сам передаст Совету… Но отвечать надо было немедленно, и надо было отвечать самому, не спихивая на Совет. Он отнюдь не хотел угодить туда же, куда угодил Онаньин со своими ответами, что мне-де не наказывали, да со мной не посылывали… Накажут!
Надо было соглашаться на все. И Овин склонил толстую шею. В конце концов он хоть тут, а первый! Ежели что – ему зачтут эту первую его службу Московскому государю.
Василий Никифоров приехал на другой день. Его заставили подождать подольше. Захария пока выяснял у московских дьяков свои судебные дела, давал, закусив губу, направо и налево и только покряхтывал, видя, как опустошается кошель с серебром.
Но вот и Василий Никифоров в свой черед стал перед Иваном и тоже бил челом в службу государю. Иван Третий милостиво объявил, что наместникам княжьим о службе его и Овиновой Совету вятших мужей новгородских, посадникам, тысяцким и вечу пока долагать не велено. Что же касаемо государства, то тут Василий набрался духу и объявил, что сам он верой и правдой готов служить государю, а о том, что решит Господин Новгород, ему без Совета господ и приговора веча обещать не можно, хоть он и готов передать…
Иван долго пронзительно глядел в глаза Никифорову.
– С благословением владыки, я готов… – прошептал боярин.
Пенкова увели и вызвали погодя на говорку к думным боярам государевым. Тут ему прямо сказали, чтобы молчал о тех речах, но подумал и пораскинул умом – стоит ли ему отрекаться от службы государевой?
Перетрусив, растерянный воевода наконец сдался и обещал сделать все возможное, чтобы Новгород послал к великому князю посольство о государстве – прошать Ивана Третьего быти государем в Новгороде, как и на Москве. Его уже не приводили к Ивану, наказав обсудить дело с Захарией Овином.
Возвращаясь верхами с последнего побыва в Кремле, куда их вызвали вместе, и глядя в затылок Никифорову, Овин твердо решил, при малейшей замятне, предать его в руки новгородцев и тем спасти свою голову. «Дурак!
Упирался еще! А я все делай один? За всех! Я сделаю! А ты, голуба, ответишь!» – он заранее обрекал топору поникшую голову неревского боярина.
Да владыка пущай подумает! На Совет господ, конечно, не стоило полагаться, а уж на вече и тем более.
***
В Новгороде Захария первым делом наведался к Феофилату Захарьину.
Неважно, что тот не на степени. Он сейчас, после смерти Груза, первый у пруссов, а от Прусской улицы много зависит!
Но Феофилат не был на Москве, его не прижимали, от него пока ничего не требовали, да и вообще рисковать ему хотелось еще менее, чем Захарии.
Он сделал свой любимый извилистый жест рукой, посетовал:
– Ошибся ты маленько! Надоть было так! И не отказывать и не обещать очень-то!
– Сам побывай! Надоть! Кому говоришь! – взорвался Овин.
– Не гневай, Григорьич, – возразил Феофилат, улыбаясь и поглаживая жидкое, расползшееся брюхо. – Прикинь-ко, кому я скажу? Ну, степенному.
– Кирилла Голый…
– Да, то-то вот! Кирилла Голый ничего не может, пото и выбрали, сам знаешь! И етого тоже не сможет. Лука? Тимофей Остафьич? Самсонов? Да ни в жисть! Суди сам, Захар Григорьич! Ну, мы с тобой решим, а неревляна? Короб с Казимером? Яков осторожен, ему пожить охота еще! Савелкову и намекнуть опасно. Селезневы, Михайловы, Тучин, Окинф Толстой? А коли до Марфы дойдет?! Ну, славляне еще… Да и то! Своеземцев, Глухов не примут, и спрашивать неча. За своих-то ответишь? Ну, Кузьма твой, а Яков Федоров? И то скажу: Совет уговорим, Феофила – ну, тот сам готов! А вече? А житьи? Им чего? Им на Низ ездить – разоритьце! Съедят нас оне и костей не оставят! С архиепископом решить надоть… Через него. Да коли посылать о государстве, тайно чтоб! И я тебе тут не помощник. Слепитце – хорошо, нет – отвечивай сам уж! Пусть-ка Московский князь великий, коли так умен, сам и уговаривает мужиков!
– Мы с тобой, как злодеи, отай! – сдался Овин, вытирая платком вспотевшую шею («Вот увяз!»).
– Злодеи не злодеи, а без ума дело не делают! Иван-ить на земли заритце, тут прогадать – и нам с тобою дорого станет! Теперь пошлешь кого?
Ежели отай? Дьяка вечевого нать, это беспременно, чтобы законная власть, от веча чтоб!
– Вечевой-то дьяк, Захар, у меня в горсти, поедет! – сказал Овин.
– Еще кого ни-то нать из управы! Подвойского хоть, Онфимова или Назара!
– Без Совета? – переспросил Захарий, совсем растерявший свою спесь.
– Без Совета, – спокойно подтвердил Феофилат. – Сам-то поезди по людям! С Яковом Коробом надоть сговорить. Меня никому не поминай только!
Перед самим Спасом отрекусь!
От Никифорова помочи не было ни на грош. Как воротился в Новгород, так и сидел у себя, словно уже помирать собрался. Захарий напрасно объезжал бояр: кто отнекивался, кто спирал на вече. После бесполезного разговора с Яковом Овин выругался про себя. Все ведь, и Короб, и Казимер, и Самсонов, и этот Филат Скупой, Порочка, – он с удовольствием произнес обидное прозвище, – все ведь великому князю кланялись и на верность грамоту подписывали! А поди собери их нынче! Решать должен архиепископ, зачем выбирали?
К владыке Захария с Пенковым отправились вдвоем. Овин вытащил-таки воеводу из дому. Им пришлось дожидаться. Захария ворчал. Феофил, которого он привычно помнил робковатым и недалеким, нынче стал уж очень величаться.
Слуги ходили на цыпочках. «Владыка занят, владыка просит обождать!» В заискивающих тихих голосах было почтение неложное. Подивился Захария.
Знал, что Феофил укрепляет архиепископию, поставил часозвон во Пскове, в Снетогорском монастыре, прикупает земли, въедается в дела двинские, но чтобы так обломать своих софьян, – об Ионе и не вспомнит небось! – это Овину было внове. То-то Марфа теперича не заглядывает сюда, заказали путь!
«Ай да Феофил! Ай да ризничий! Поди, и в московских делах не заробеет!» подумал он с надеждой.
Но Феофил – это был уже не тот, преданный Москве душой и телом правитель, как когда-то. Хозяйственный и настырный глава Софийского дома был достаточно охлажден в своей любви к Ивану Третьему кровопусканием, устроенным владычной казне последним приездом великого князя. Разговоры о землях, которые якобы собирается отбирать князь Иван, доходили и до него.
Слишком ретиво помогать великому князю Московскому в этих условиях Феофилу отнюдь не хотелось. Он сухо принял великих бояр – как-никак косвенных виновников притязаний Московского государя на владычные доходы! Строгий, почти величественный в ореоле страха и подобострастия, которыми окружил себя за протекшие годы. Неприязненно выслушал Овина с Никифоровым и отмолвил им, что без Совета господ, духовной властью мирского дела такого значения он решить не может.
Теперь о требовании Ивана Третьего признать его государем, знали уже несколько человек господ бояр и даже владыка, но все молчали, и ни один из них не хотел брать на себя порушить вековой порядок вольного города. За этими, уже сломленными, но хитрыми, себе на уме, людьми стояла традиция, что была сильнее их самих, коснуться которой они не могли, и одна мысль о возможности такого святотатства внушала им ужас. Даже архиепископ отступал перед древними законами республики.
Овин с горем вспомнил Пимена – тот бы все смог, ежели захотел! А это – не человек, а трава. Как ни верти, посылать посольство Ивану Третьему приходилось отай, что и советовал с самого начала Феофилат Захарьин. И все сошлось на том, кого послать с вечевым дьяком Захаром? Онфимов казался подозрителен – еще предаст! Овин, мысленно перекрестясь, обратился к Назарию. Все сошлось на нем.
***
Человек, если он не вознесен родом, знатностью, властью, духовным саном в ряды тех, от кого зависит решать судьбы народные, – как капля воды в окияне. На нем не остановит взгляда строгий летописец, для коего он незаметен в толпе, хотя чело его и отмечено огненною красою. У него могут быть мысли, несхожие с мыслями большинства, и даже целый мир в голове, у него свои понятия о человечестве и задачах власти в стране, но сделать он не может ничего. Ветер гонит волны, разбивая о берег, и отдельные капли, неразличимые в толще воды, умирая, пятнают влажною кровью древние камни, не в силах задержаться, ни сойти с пути, ни даже свернуть немного в сторону, и тем хоть на миг продлить свое безразличие, незаметное существование.
Назар был далеко не простым горожанином. Житий, он имел землю, и не так уж мало, до тридцати обеж, не меньше, чем московские служилые дворяне.








