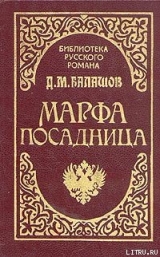
Текст книги "Марфа-посадница"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Вот как! Стало, у них там и жило, и все как у нас!
– А вот еще какой случай. Парня одного женили, – начал дед другорядную бывальщину. – А дело было по осени…
Опрося засыпала, проваливалась в дрему. Говорок деда долетал до нее глухо, словно издалека:
– И кажну ночь из реки голос раздаетце…
Наконец Опрося тоже как в воду ушла – заснула.
– Спите, мужики? – спросил, перебив сам себя, дед.
Из углов ему отвечал заливистый храп.
***
Проснулась Опрося от ударов по камню. Дед снаружи кресалом высекал огонь. Она поднялась, вышла. Над озером лежал плотный белый туман. Руку протянешь – руки не видать. Ни лодьи, ни деревьев, ничего.
– В воду не оступись, девка! – окликнул ее дед.
Опрося умылась и принялась помогать деду разводить костер. Скоро поднялись и мужики.
Позавтракав, ощупью – все еще было ничего не видать – начали заводить лодью в устье Мсты. Старшой, стоя на носу, следил выплывающие из поредевшего тумана вехи.
– Легче, легче, мужики! – то и дело окликал он. – Здесь на мель сести, нашу лодью и не спихнуть будет!
Началось долгое речное плаванье. Где гребли, где пихались, где волоком вели, где, ловя ветер, подымали парус.
Лес то подходит к берегу, наклоняясь над самой водой, справа и слева, как бесконечно раскрывающиеся ворота, то отступает, открывая поля, деревню, окруженную скирдами сжатого хлеба, и опять кусты сбегают к самой воде.
Опрося уже освоилась, стряпала ватажникам, и хотелось ей только одного, чтобы так и шло: река, неторопливые речи мужиков, встречные деревни, то маленькие, в два-три двора, то большие, на красе, на возвышенном месте, с храмами, боярскими дворами, где у пристаней толпились купеческие лодьи с товаром, а на берегу, под навесами, шла бойкая торговля. Миновали Ям и Бронницы. Дожди, наконец, пошли. За долгий день ватажники вымокали насквозь. Сушились в дымных избах, спали на полу, на соломе. Опрося часто просыпалась и слушала шорохи соломы, хлопотливое шнырянье мышей, вздохи телка в закуте и однообразный шорох дождя. Горе не таяло в ней, но как-то успокаивалось, становилось привычнее.
Тимоха Язь, еще два-три раза подбивавшийся было к Опросинье, теперь уже мало обращал на нее внимания. Да и недосуг было, сам работал наравне с другими и уставал до одурения. Тимофей был мужик простой, хоть иногда любил и прихвастнуть, что у самой Марфы Ивановны Борецкой во дворе служит, но не злой и не настырный. Попробовал, бывает, что и отломится с боярского стола кусок, тут уж не зевай! Но зря не лез, и видя, что не клюет, оставил девку в покое. Постепенно с него слезала городская развязность и охота прихвастнуть. Здесь это ни на кого не действовало, раза два его даже вышучивали, впрочем, незлобиво. Чем ближе подвигались к Кострице, тем все больше Язь думал о доме, о тетке, мечтал о бане своей, деревенской. С работы до поту да с ночевок в одежде, на соломе, все тело зудело у мужиков.
Но всему на свете наступает конец. Уже остались позади Боровичи и волость Березовец, родовое владение Борецкой. На рассвете дождливого субботнего дня лодья подошла к Дмитровскому – главному селу второй Марфиной волости, Кострицы. Накануне чуть не всю ночь пихались, старшой знал тут реку наизусть и торопился доправить лодью до места.
За излуком реки открывался обширный пойменный луг и за ним, на пологом холме, белая каменная церковь с зеленою черепичной маковицей и кровлями, окруженная боярским двором, избами, ригами, сараями, амбарами и банями, сбегающими к самой воде. С неба сеялось и сеялось на расстеленные под осенним дождем льны.
По раскисшей дороге они поднялись в гору. Опрося тоскливо озирала место своей будущей жизни. Подбежала мокрая собака, обнюхала всех и завиляла хвостом. Потом показалась баба, в коротком кожухе, с подоткнутым подолом и босая. Остановилась, любопытно разглядывая Опросинью. На вопрос старшого быстро закивала головой.
– Тута Демид Иваныч, туточки! Сейцас скличу!
Баба убежала, шлепая по лужам и раскидывая врозь пятки.
Демид встретил их на крыльце господского дома. Он не улыбался уже, как в Новгороде, был важен и деловит. Тотчас распорядился накормить прибывших и скликать народ, чтобы разгружали лодью. Чувствовалось, что здесь – он хозяин. Тимоха низко поклонился, подходя. Демид перевел глаза с него на Опросю, приказал:
– Девку Маланья примет, а ты отдохнешь, – скачи в Новгород.
– Демид Иваныч! – взмолился Тимоха. – Допусти своих проведать! Хошь до завтрева дня!
– Ну… – поколебался Демид, – беру грех на душу. Только запоздашь, сам пеняй!
Радостный, Тимофей живо сбегал за Опросиной укладкой, торопливо поел и, сердечно распростясь с нею и с лодейными мужиками, зашагал по знакомой дороге на Перевожу, откуда до родного Коняева было всего четыре версты.
Дождик перестал, и среди волглых серо-синих, низко бегущих облаков стало кое-где проглядывать небо. Тимофей, все набавляя и набавляя шаг, прошел лесом, миновал подросшую за время его отсутствия березовую рощицу, всю в пожухлом осеннем золоте, мимоходом подосадовав, что не успеет сходить по грибы, поднялся на угор, спустился в низинку и уже почти бежал, когда показалась поскотина и начались коняевские сенокосные пожни.
Втягивая ноздрями близкий запах дыма, он предвкушал баню. Суббота, тетка уж, поди, затопила! И вот – последний угор, за угором речка, за речкой, на берегу, знакомые крыши родной деревни. Лодка-перевозка была на месте.
Тимоха, натужась, спихнул ее в воду и с наслаждением влег в весла. Дома!
Баня, однако, была нетоплена. Тетка лежала, у нее болела голова, и даже не очень обрадовалась Тимофею. Не унывая, он нарубил дров, наносил воды. Тетка тогда уже поднялась, повязав голову, и затопила. Пока дотапливалась баня, она охая, отыскала для него чистые исподники и рубаху покойного мужа, слазала на подволоку за веником.
Наконец-то истомившийся Тимофей смог скинуть залубеневшие от грязи порты и выпариться. С острым удовольствием он хлестался веником, все поддавая и поддавая на каменку, так что пар начал обжигать ему пятки.
Немного ошалев, Язь вывалился из бани, со стоном окунулся в речку и, взбодренный, снова полез париться. Устал и, лежа на полке, почувствовал вдруг сирость, ровно Опраксея. Бахвалиться-то он бахвалится, а ни дома у него, ни семьи. Что он кому? Одна тетка, да и та хворая, не ровен час умрет! Тогда хоть на Двину подавайся… Тимофей принялся вновь, уже яростно, хлестать себя по бокам. Вышел, скинув усталость, снова бодрым, бывалым, городским. Тетке, что все жаловалась на боли в голове, подарил сбереженную гривну, кусок бухарской крашенины, что привез для нее из города, и лакомства: горсть изюму и кулек сорочинского пшена. Тетка смягчилась. Уже не жалуясь, живее захлопотала по хозяйству. Пока Язь уплетал щи с кашею, выполоскала в бане его лопотину, выжала и повесила прямь печи, просушить. Она еще возилась, а наевшийся Тимофей отдыхал на лавке, как забежала соседка:
– Архиповна! Лодья с товаром пришла!
Увидав Тимофея, всплеснула руками:
– Гость у тя! А я и не кумекаю!
Поздоровались. Тетка тут же похвасталась подарком. Потом обе засобирались:
– Нать поглядеть, что привез купечь!
У лодьи, у причала, где приезжий купец раскладывал товар, толпилась уже вся деревня: трое мужиков-хозяев – деревня считалась в три двора, старики, бабы, детвора: с лишком два десятка душ. Были тут и две бабы из Кикина, соседней, в версте, однодворной деревни. Тимофей кивнул бабам, степенно поздоровался с мужиками.
Купец, хожалый новгородец – тонкий нос с горбинкой, внимательные глаза, светлая бородка, сам среднего роста, подбористый, обходительный.
Наметанным глазом окидывая негустую толпу, он легко, но без лишней развязности, перешучивался с бабами, уважительно расспрашивал мужиков.
Помнил всех, походя тут же вызнавал, кто умер, женился. Язя он заметил сразу:
– Ктой-то новый у вас? Овдотьи сестрич? А, Тимофей, Кузьмы покойного сын! У Марфы Ивановны? Давно из Новгорода? Не слыхал, с Москвой чего?
Кажется, все на свете знал купец! Руки его за разговором почти не задерживались. Он давал, принимал, взвешивал, цепляя безменом. Принимал шкурки, овчину, кожи, коноплю, масло, холсты, яйца и сыр. Торговля шла больше меновая. Тут же купец развернул штуку глазастой хлопчатой ткани и отрез городского сукна. По рукам пошли цветные праздничные выступки.
– Кого уж, старуха! Молодым наряжатьце! – сожалительно толковали бабы, передавая алые изузоренные выступки одна другой.
В лодье было всего понемногу. Высокая тощая старуха, известная деревенская охальница и переводница, взяла кусок мыла и, развеселясь, выкрикнула:
– Ж… да голову вымыть!
– Ну, ты не лезь, Марья! – одергивали ее бабы.
Для мужиков купец привез рыболовные крючки, наконечники для охотничьих стрел и копий, медвежью рогатину, насадки к лопатам, гвозди, наральники и прочий железный товар. Мужики натащили ему шкурок хорьков, горносталей, зайцев, один приволок лису, другой – бобра. Купец за шкурки расплачивался солью, за бобра, без спора, выложил серебро. Серебром платил чаще он сам – Марфа брала часть оброка деньгами, и крестьяне старались поболе продать, чтобы выручить хоть малую толику оброчных денег. Купец, однако, серебром платил далеко не за все. Лису и ту долго вертел так и эдак, встряхивая пушистую шкуру.
– Зимняя! – успокаивал его охотник.
Бабы брали краску, иголки, ленты, цапахи – бить шерсть. В обмен нанесли своего вязанья: цветных носков, рукавиц, поясов. Купец, прищуриваясь, мгновенно оценивал, ладен ли узор, а рукою тут же выщупывал, плотна ли вязка, и или брал, или возвращал назад. Со стороны казалось, что он играет, балуется, перебрасываясь товаром.
– Льну не продаете, мужики? Серебром заплачу! – негромко спрашивал купец.
Те мялись, нерешительно поглядывая на Тимофея. Язь, чтобы не мешать торговле, отошел в сторону. Выделанный лен, по закону, должен был весь идти в оброк боярыне, и потому продавали его хоронясь, из-под полы.
– Чегой-то мало нынце у вас товару! – притворно журил купец, приканчивая торговлю.
– Редко ездишь! – кричали ему.
– Бывай чаще, мы все тебе нанесем, никому больше!
– Река обсохла, эко забрались, не всякий год и заедешь! – возражал купец.
Отоварившись, селяне дружно помогли ему спихнуть лодью с мелководья и еще кричали вслед, прощались и благодарили. И только уж когда купец скрылся за излуком берега, пошли сожалительные замечания:
– А поди, знай, сколь оно стоит!
– Уж себя не омманет!
Баба, купившая алые выступки, теперь вязалась к Тимофею:
– Тимофей, ты знаешь новгородские цены-ти, почем таки выступки в Новом Городи?
– Ладно, Таньша, не журись! – остановила ее подруга. – Ему ить провоз стоит, да без выгоды кто к нам сюда заберетце!
– Гости! – хлопнул Язя по плечу один из мужиков. – Поведай-ко, какие новости в Новом Городи!
Тимофей не стал отказываться. Он и тетка, и другие два хозяина, и бабы – почитай всей деревней – пошли к соседу. Заполнили всю избу. Хозяйка поставила на стол деревянное блюдо с калитками, огурцы, масло. Нацедила пива из глиняного горшка с носиком и затычкой. Дед Ондрей, до прихода мужиков вязавший сети, поздоровался, но за стол не сел, продолжал вязать, объясняя вполголоса внучонку:
– Вот едак клешицей продернешь и добро, а когда низом пустишь, не свяжетце!
Так же вот и Язь учился когда-то у этого самого деда. Он хотел было напомнить, но не успел.
– Тимоха, забыл, поди, как сети вязать? – сам напомнил дед.
Выпили. Закусили огурцом. Тимофей разломил горячую вкусную калитку с просяной кашей.
– Ну, чего, Тимоха, привез, сказывай! – подторопили его мужики.
– Как там Москва?
– Бают, воевать собралисе?
– С войной погодить надоть! – подала голос хозяйка от печи. – Репу еще не собрали. Репу соберем, тогда можно воевать!
– Врут ли, правду молвят, что литовскому королю хотят задаватьце?
– А нас в ляцкую веру крестить?
– Не, ето нет!
– Ну, нам все едино…
– Война-то пойдет, через наши места покатитце! Не разорили бы вдосталь!
– За болотами отсидимсе…
Спорили, пересуживали, а все казалось даже и самому Тимофею, будто понарошку это, так здесь далеко ото всех, – и от Москвы, и от Литвы. И разговоры скоро перешли на свое, домашнее. Каков урожай, резать ли быка, кто из баб больше собрал брусницы…
– Я шесть баранов забил, хватит ле на зиму? Сигов уловил, да…
– Окунь осенной пошел, в саки имать хорошо!
– Мы на озере окуней, да плотиц, да щук ловим.
Поясняли Тимофею, как постороннему. Хозяйка в очередной раз наливала пива. Дед запел несильным голосом с хрипотцой старину, продолжая плести сеть:
Eак во стольном городи, во Киеви, ?той у ласкова князя, у Владимера, Cаводилось пированьице – поцестен пир.
?той про всех князей-бояр толстобрюхиих, ?той про всех гостей-купцей богатыих, ?той про всех крестиян да православныих, ?той про сильныих, могучиих богатырей…
Oимофей за всеми этими хозяйственными разговорами почувствовал вновь, что он отрезанный ломоть, и, посидев еще немного и вспомнив, что завтра ему в дорогу: «Не проспишь зори вечерней, проспишь зорю утренну», собрался домой. Тетка ушла еще раньше и уже приготовила ему место на хозяйской деревянной кровати, застелив взбитый сенник чистым рядном и накрыв его сверху духовитой овчиной.
Тимофей спал и чувствовал себя мальцом. Так же в трубе жаловался ветер, так же стонал домовой, ворочалась корова в хлеву. Только он был ростом до стола и дальше Дмитровского с его каменной церковью, что казалось ему громадной, не ведал он мира, и некому было завидовать, не перед кем унижаться тогда.
Было темно и рано, но тетка уже затопила и осторожно побуживала Язя:
– Тимоша, пора! Демид прогневаетце!
Она и сама побаивалась Демида, так как по болезни мало напряла, и потому не хотела лишних покоров из-за племянника.
Чуть светлело небо и звезды начинали бледнеть, когда тетка перекрестила Тимофея и дала ему в руки кулек с теплыми подорожниками. В полдень он уже выехал из Дмитровского, спрятав за пазуху грамотки и затвердив поручения Демида, а утром третьего дня подъезжал к Новгороду.
– Приехал? – встретил его на пороге молодечной Коста Вяхирь. – Тут у нас такие дела! Весь Новгород в брани, одни за короля хотят, другие за Москву! Жри скорей! – промолвил он, отбирая Демидовы грамоты. – Нужен будешь. А то все в разгоне сейчас. Коня не расседлывай!
Тимоха, чаявший получить отгул, мысленно подосадовал на Вяхиря, но делать было нечего. Он еще понадеялся, что Вяхирь забудет, но не успел выхлебнуть щей, как его уже вызвали:
– Скачи в Плотники с берестом, грамотку передашь. Панфилу Селифонтовичу. Знашь его? Только самому, никому больше!
Тимоха вздохнул и полез в седло. Опять начиналась служба.
Глава 8
Панфил изругался. Артельным мужикам волю дай – готовы шкуру содрать.
«На диво осень стояла, да и то проволоклись! А нынче засиверило, дожди льют, а обозы не поспели, лес не вывезен, анбар хлебный опеть не сведен.
Закрывать-ить нать до дождей! И енти: ни стыда, ни совести! То литки справить, то разгонную, управы нет!
И на кой она, торговля! Земли накуплено, люди уважают, кажной год уличанским старостой кладут бессменно. Да и возраст почтенный, пора пожить для себя, для спокою. Сам давно в житьи записан, а сын. Марко, все в купечестве. В иваньские старосты ладитце, мало ему! Когда-то за отцом тянулся, а таперича – я за ним!»
Панфил отер рукавом мокрое лицо – дождило бесперечь. Мимо волочили, разбрызгивая грязь, матичное бревно. Панфил посторонился и тотчас поглядел на небо, по которому бежали упорные, тянутой чередою, серые волглые облака.
«Эх, Марко, Марко! Не ведал ты доброй поры, за Камень не хаживал! По Волге нонь торговлю Нижний держит, да Кострома, на Кафинский путь, на Сурож и не сунешься, москвичи-сурожане забивают. Устюг, и тот ладитце закамский ход перенять…
…Корабли нать свои! Опеть от Ганзы ходу нет. Может, и впрямь легче будет с Литвой дело иметь! Смоленским путем, по Днепру… Там опеть все налажать наново! Дворы заводить, анбары ставить, приказчиков сажать…
Охо-хо-хо-хо!
…Давеча Киприян Арзубьев баял, что затеяли совсем от Москвы отлагатьце. То дело круто забрали! На говорке Панфил согласился сразу, а теперь было неспокойно на сердце. Опеть Русу пограбят, как в ту войну, а у меня там товару… А поддатьце – земли отберут. Для спокою прикупал, для спокою в житьи писался. Вот он, спокой! Земли боле ста обеж. Ее обиходить нать, а теперь еще и оборонить! Целиком на землю бы осесть… И земля держит, и торговое дело держит. Ну, тут Марко поведет, а землю – надежна ли? Большие бояра тоже на землю зарятце!»
– Куда, куда! Держи! – заорал Панфил, усмотрев угрожающий крен готовой сорваться матицы. – Раззявы, тупари вислоухие, плехи, мать вашу!
Охрипнув, он метался внизу, грозил. Чуток не сронили склизкого бревна! Было бы им, да и ему… Полорукие!
Плотники, взъерошенные, мокрые до нитки и злые, скупо отругивались.
Сзади подошел приказчик:
– Панфил Селифонтыч, тебя сынок зачем-то просит, послал в поиски!
– А, Марко прибыл! – обрадовался Панфил. – Пригляди тута, Антипыч, построжи их! Таки мастеры – без хозяйского глазу ничто толком не сделают!
Панфил потрусил домой, отряхиваясь, словно мокрый пес, и еще оглянулся с поворота – идет ли работа?
Марк встретил отца довольный, щурил глаза, потирая руки, следил, как Панфил высвобождается из мокрого, с полосами грязи охабня.
– Замаялся, батя?
– Обозы где?! – надсадно простонал Панфил, сваливаясь на лавку.
– Идут, под городом уже! Меха нам Марфа Исакова дает. Смотрел давеча, меха – загляденье!
– Стало-то сколь?
– С полчетверти семнадцать рублев.
– Недешево.
– Дешево, товар погляди! Белка – одна к одной, бобры, соболи… И привоз у нее свой.
– С привозом, конечно…
– Да, батя, посыльный к тебе тута, от самой от Борецкой, сожидает.
– Погоди, передохну!
Панфил пил квас. Руки дрожали, словно сам бревно волочил. Обтер усы и бороду поданным рушником, вытер лоб. Под рукой ощутилась дряблая кожа лица. «Сын-то крепок! – подумал Панфил не без зависти. – Все ему сполагоря! А я уж изработался».
Марко, широкий, дебелый, любовно усмехаясь, глядел на родителя, поглаживая себя по коленям.
– Зови посыльного! – ворчливо приказал Панфил.
Марко, не вставая, мигнул слуге. Тот, стремглав, скрылся за дверью.
Тимоха Язь вошел, стреляя глазами по сторонам: крепко живут!
Поклонился с достоинством – от Борецких послан! Подал грамотку.
– Тамо пожди! – махнул рукой Панфил и сделал знак слуге. Тот сам знал обычай и тотчас увел Язя на поварню, отведывать хозяйского пива.
– Слыхал про Москву-то? – оборотился Панфил к сыну.
– Как не слыхать!
– Киприян и тебе говорил, что литовскому королю порешили задаватьце?
– Дак что? Не хитро еговых наместников на городище взеть! Боронил бы от московськой грозы!
– Я тут уже со всеми перемолвил. В братстви как?
– А что? Большие купцы все против Москвы. Поддадимсе, сурожане враз разорят. Да и двор немецкий закрыть могут али перевести куда.
– Я о том же думал…
– Ну, а мелочь, та за нами потенетце, куда мы, туда и они.
– Просто у тебя!
– Без опасу, конечно, никакого дела делать не след, – прищурился Марко. – Из Русы товар повывезти не мешает!
– Не веришь нашим воеводам? – вздохнул Панфил.
– Наши-то воеводы сами боле на рубль новгородской полагаютце, чем на мечи.
– То-то и оно!
– Трусишь, батько?
– Не трушу, а… Дело такое… Миром надо решать!
– Киприян и то собирает житьих.
– Слыхал я! Уже толки пошли. Кто бает: мне-ста полторы обжи оборонять, а Захару Овину полторы тысячи, дак цего я вперед полезу?
Великие бояра затеяли, пущай они напереди, а то, коли что, с нас же деньги собирать на окуп князю московскому! Ну, а земли терять тоже не хотят, волнуютце, словом. И суд-от на Городце пересуживают! Кто туда даетце.
Гагины, те воюют, их Берденевы с Овином утеснили с землей. Иван Лукинич в пользу Берденевых решил. Не знать, сумеет ли Киприян-то их в одну куцьку свести!
– Еще что вече скажет.
– Ну, до веча…
– Н-да, заварили Борецкие кашу! Теперь по всему городу, как круги по воде.
– Наш Плотницкий конец уже весь ходуном ходит!
– А Захария что? Овин?
– У Захара, чать, земель поболе Марфиного. Коли Москва одолеет, и его не помилуют. Еще, спроси, что черные люди скажут!
– Ну, их не спросят! – решительно возразил Марко.
Панфил оглядел сына, покачал головой, пожевал губами. Понурился, продолжая сжимать грамотку в руке.
– Что пишет боярыня? – полюбопытничал Марко.
– Зовет к себе беседовать! – со вздохом отозвался отец. – Видать, о московской войне! Покличь посыльника-то, не то до дому не доедет…
– Скажи, буду! – молвил он Тимофею строго. И, отпустив посла, добавил:
– Порешили мы с тобой, сын, дак нать не оглядыватьце!
Из Плотников воротился Тимофей, тотчас послали в Людин конец с иной грамотой.
– Я ить с пути! – взбунтовался было Язь.
– Ладно, свезешь, там ответа не нать! – утешил его Вяхирь.
Уразумев дело, Тимоха не торопился назад: не ровен час еще куда пошлют! А завернул к земляку, Конону Киприянову, мастеру-костерезу, не за делом, а так, чтоб только проволочь время.
Конон работал в окружении всего семейства: младших сыновей, двух дочек и четверых внуков, каждый из которых тоже не сидел без дела. Тут же Язь увидал знакомого грузчика Ивана, из тех, что наймовала Марфа. Иван сидел на лавке, отдыхал, свесив руки между колен, видно, тоже недавно пришел. Язь вспомнил тут, что Иван, кажись, зять Конона.
– Привет, мужики! Бог в помочь! – бодро поздоровался Тимофей и тоже присел на лавку. – В деревне был. Твои привет передают!
– Они бы с приветом маслица переслали! – отмолвил хозяин.
Конон резал костяную коробочку. Коробочка была уже готова, и Конон теперь малюсеньким коловоротом наносил кружковый узор на крышку. Тонкая, как нитки, белая стружка шла, закручиваясь, из-под резца. Ребята мастерили кто что. Один подтачивал снаряд, бережно откладывая точеные стамески на расстеленную мягкую тряпочку, чтобы не побить лезвий, двое полировали, дочка вертела мягкий круг, пропитанный толченым мелом, парни вручную доводили полировку до блеска. Один из внучат, востроглазый и вихрастый, сопя и высовывая язык от усердия, резал заплетенного крылатого и зубатого змея на костяной пряжке-запоне. Старший из сыновей, подымая белую едкую пыль, пилил на заготовки цевку – скотинную кость, груда которой была свалена в углу. Другой, подстелив тряпицу, очень мелкой пилкой осторожно разделывал на пластинки кусок драгоценного рыбьего зуба – моржового клыка.
Конон сверлил, морщась от сдержанного усилия, и одновременно успевал следить за всею своей костерезной дружиной. Был он взлыс, угрюм, взглядывал без улыбки, но не ругался, как иные, без толку, а только кивал или крутил головой, а иногда коротко давал дельное замечание. Семейные слушались мастера беспрекословно.
Иван сильно уставал эти дни. Платили сдельно, и грузила дружина от темна до темна. Но зато чаяли заработать погодней. Сегодня как раз довершили последнюю из тех лодей, что Марфа посылала на Север, кончили пораньше, получили плату, и Иван пришел рассчитаться с тестем, у которого займовал с полгода назад и до сей поры не мог отдать.
Теперь сидели за разговором. Вернее, сидел-то Иван, а Конон, не прерывая работы, бросал слово-два, а то и разражался короткой речью, все так же равномерно нажимая на коловорот и неотрывно следя за сбегающей костяной стружкой. Толковали о том же, о чем и все в городе, – о Москве.
– Тамо так не работают! – приговаривал Конон, придирчиво разглядывая законченную крышку.
– Грубая работа у их! – Он передал изузоренную пластинку дочери, для полировки. – Нашу работу куда хошь вези. Во, гляди!
Конон протянулся, открыл поставец, вынул оттуда берестяную плетеную коробку, прижав к груди, осторожно снял крышку и высыпал на стол сияющую груду костяных, ярко отполированных гребней и пряжек, которые тотчас с легким стуком веером раскатились по столешнице, наполнив рабочую, скудно обставленную горницу Конона изысканным богатством боярского терема.
Иван, робея, осторожно притронулся грубым пальцем к пряжке с хвостатою девой, что держала в руке крохотный костяной кубок. Его каждый раз изумляла Кононова работа и то, как тесть своими узловатыми большими твердыми руками создает такие крохотули, вытачивает тонкие писала с звериными головами, резные уховертки, костяные накладки и застежки к кожаным переплетам книг, покрывает затейливой плетенкой костяные навершия тростей и рукоятки дорогого оружия. Тимофей тоже протянулся поглядеть. В кои-то веки один гребешок укупишь в торгу, а здесь их не одна дюжина, и не только простые, вседневные, со сверленым кружковым узором, каких всюду полно, но и дорогие, нарочитые, с завитыми, ручной работы, краями, с выпуклыми узорами в срединной части: грифонами, девами-птицами, крылатыми змеями в переплетении сказочных трав.
Насладившись откровенным восхищением гостей, Конон неторопливо собрал все опять в берестяную коробью, задерживая взыскательный взгляд на том или ином изделии. Выбрал из грудки пряжку и протянул сыну, молча указав ногтем на недостаточно заполированный край, и тот также молча, принял, посмотрел и, кивнув, принялся кусочком лосиной замши наводить глянец.
– И кузнь наша лучше московськой! – прибавил Конон, убирая коробью. Возьми хоть что, хоть уклад, хоть брони, хоть серебряную, хоть золотую кузнь. У нас, вишь, на каждом дели свой мастер сидит. Сапоги, и те не по одину шьют. Есть мастера подошвенники, те какую хошь подошву, какой хошь каблук тебе стачают, тимовники, по красным кожам опеть свои мастера, узорят
– другие. И каждый с младых ногтей к своему делу приучен. А на Москвы один мастер и кует, и лудит, и узорит, уж как может, так и ломит.
На Москвы о сю пору чеботы на одну колодку шьют, что для правой, то и для левой ноги чисто валенцы! Такой сапог обуть – прежде надо вдвои подвертки из толстины навернуть. Пото московськи бояра все и ходят в новгородских сапогах! А уж каки там костерезы… Да вот, погляди, московська стросточка ко мне случаем попала. Из той же цевки!
Иван с Тимофеем по очереди подержали в руках набалдашник, исполненный с грубоватой лихостью, не очень задумывавшегося о качестве своего товара московского мастера.
– Талан есь, а прорезыват как? Как бог на душу положит! А уж полировка совсем никуда… Ну, не чиста работа! – заключил Конон, убирая навершие в коробью.
– Есь и там мастеров! – примолвил он погодя, принимаясь за новую пластинку. – Колокола тамо хорошо льют… Богаты, наймуют! Вот Кюпро, сосед, иконник, его уж звали на Москву! Не хочет: тамо кланяйсе кажному боярину до зени, был Трифоном, станешь Тришкой, не порадуют те и деньги, говорит. А Ферапонт, иконник, уехал, и Коста тоже, серебряник. Бают, в чести на Москвы! Тут как сказать? На Москву переехал – тамо ты Тришка, а здесь Трифон Иваныч, дак чего дороже… С какого бока посмотреть! Одно: коли ты Тришка, дак и деньги у тебя отобрать – не в труд, кому пожалуешься? Тришка ты и есть! Другое: коли жрать нецего станет, дак долго ли тебя Иванычем замогут звать? Немного в Трифонах-то находишь, не ровен час, и тута, в Новом Городи, Тришкой назовут! Так Тришка, и другояк Тришка, дак хоть пожить ладом! Нашу хоть работу возьми, и на Литвы ей почет, а как мастеры живут? Хоть меня возьми! Всею семьей бьемся, и все одно, кажное пуло на счету. Мне ученика взеть, и то не на что! Кажной год новы налоги налагают, и в торгу дороговь! Сче тако?
Жонка Конона, до того молча хозяйничавшая в печном углу, тут тоже вмешалась:
– Поросенка выкормила одного, дак что на таку семью! Нать баранов хоть трех… А как слухи о войне начались, и все подорожало, и барана не укупишь, и осенных поросят не укупишь, дороги нынче поросята-ти, и масла не укупишь!
Причитая, Конониха взмахивала руками и шлепала себя по бокам, как утка крыльями. Пожалившись, разом замолчала и полезла ухватом в печь.
Конон поглядел на жену вполглаза и продолжал ворчливо:
– Теперь рассудить, как поддатьце за короля? С Москвою, понимаешь, у нас все одинакое, а Литва – там иная вера, язык другой. Москве поддатьце тоже не метно! А, боярская печаль! Мы как ни решим, нас не послушают! Наши старосты только на вече слово скажут, а и там уже у них все без нас готово-оговорено… Было преже! При прадедах. Слушали и нас! Дак в те поры и налогами не давили так нашего брата, как ныне… А теперешны бояра, кто за Москву, кто за Литву, а уж нам, черным людям, все заедино – вороги!
Язь почел нужным выступить в защиту своей боярыни, но Конон слушал его рассеянно, вполуха, перебил вопросом:
– Ты, Тимоха, ездил куда ле?
– Девку одну отвозил, обрюхатела, верно, от кого из боярчонков. Не наше дело.
– Сам-то не пользовалсе?
– Молчи, старой! – прикрикнула Кононова жонка. – Волосы вылезли, а туда ж!
Походя, она торнула мужа в спину, слегка, для порядку.
– Ето ницего, не дерись, однако! – примирительно отозвался Конон.
– Ни, у нас с ентим строго! – отвечал Тимофей. – Сама узнат, будет лиха!
– Ты вот ездил, – подзудил опять Конон, – хоть чего бы привез! Хоть поросенка осенного! Там оны дешевше. Туды девку, назад свинью!
– С Москвой не заладитце, опять дороговь пойдет на снедный припас! подал голос старший из сыновей Конона, до сих пор только молча слушавший речи отца и Тимофея.
Не желая ввязываться в невыгодный для себя спор, Тимоха поднялся:
– Прощевайте, мужики!
Когда он вышел, Конон качнул головой и, прицеливаясь к новой пластине, поданной ему старшим сыном, заключил:
– Неплохой мужик, а – набалован! На боярском дворе, горюшка нет, посидел бы тута… Охо-хо-хо-хо!
– Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли! – вновь подал голос старший сын.
Иван, не желая ни бранить, ни защищать Борецких, промолчал.
– Цего у тя с домом? – напустился на него, погодя, Конон.
– Наум Трифоныч ладитце отобрать за долг.
– Говорил тогды дураку, не займуй! Перебились как ни то, приходил бы уж ко мне, цевку пилить, приработал чего… А теперича завязал петлю, и я не помогу, нечем! Дом отберут, куды с Нюркой денессе? Дочка растет, а ума не нажил… Нам с тобою только с Москвой и воевать!








