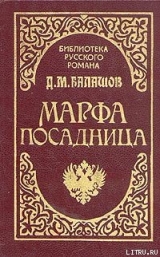
Текст книги "Марфа-посадница"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Будь вторым, но не первым, как Иосиф Прекрасный у фараона, как Даниил у Навуходоносора, и тогда прославишь себя и род свой!
По уходе Схарии загорелся спор. Схария был уже не впервые у Дениса.
По просьбе последнего, он даже приводил ученого раввина, Мосея Хануша, с которым Денис долго сидел над текстами Ветхого завета, – два философа двух враждующих религий, основывающих свои учения на одних и тех же ветхозаветных книгах, – проверял переводы священных текстов, а заодно свое знание древнееврейского, в котором был нетверд.
Гридя Клоч по уходе Схарии начал тут же, встряхивая косматою гривой, громогласно предостерегать Дениса от такой дружбы.
– Уже и так болтают, что ты в ихнюю веру перешел!
– К чистому нечистое не пристанет! – мягко возразил ему Денис. Христос входил в домы грешных и беседовал с фарисеями!
Как раз взошла попадья. Под стать мужу: сухощавая, с бледным строгим лицом и опущенными уголками губ. Поставила квас, положила лук и ржаной хлеб на стол.
– Слышишь, – улыбаясь, спросил ее наставник, – тебя теперь уже не Овдотьей, а Саррою величают?
– Слышала уже! Невегласи и глаголют непотребное! – сердито отозвалась попадья.
Григорий знал, что Денис тайно перекрещивает своих приверженцев в «истинную веру», что уже пахло ересью, ибо то же самое делали когда-то стригольники, последователи Карпа-проповедника, и подумал, что зря, пожалуй, так беспечно относится Денис к нелепому обвинению, из коего при желании можно сделать невесть что, вплоть до снятия сана, церковной епитимьи и заточения в монастырь.
– А мне эта мудрость, быть вторым при князе, стойно Иосифу Прекрасному, нравится! – возразил человек с темным одутловатым лицом, имени которого Григорий не знал до сих пор, поскольку все называли его просто «отцом дьяконом» или «братом». – Быть вторым при князе, его мыслью и рукою, и через него, именем князя воздействуя, просветить народ!
– То, брат, идея нам не гожа! – отмолвил рокочущим гласом Гридя Клоч, вздымая грубо вдохновенное чело. – Там они, на Волыни, особый народ среди русинов, да ляхов, да литвы. Им христиане – чернь! И князь их за мзду от черни защитить должен, а мы кто среди народа своего? Помысли!
– Но с кем тебе ближе говорить, – возразил темноликий, – с мудрецом иной земли или с этим и плотниками безмысленными, кои сейчас в личинах и харях пьяные по городу шатаются?
– Все одно! Мы – русские, и плотник тот – брат мой во Христе! Его же я и просветить должен светом истины, светом любви! А какая ж то любовь, когда возвеличат тебя над прочими, и какое ж братство, когда сам ты унизишь главу перед князем?
– Кого ты сделаешь избранным, вот что скажи? – вмешался Назарий. Гордость Иосифа в том, что он второй под фараоном. Но в своем-то народе он первый! И братьям что сказал? Все мы – един род. Бог меня послал спасти вас! Ну, а станешь на место Иосифа ты, русский над русскими? Это уже совсем другое! И для тебя: ты уже нигде не будешь первым, только вторым! И для народа…
– А кого ты приблизишь к себе, того отторгнешь от народа своего! поддержал Назария Гридя Клоч.
– Для всего народа должен быть один закон, для вятших и меньших! продолжал Назарий с пылом и блеском в очах. – И ежели даже достойнейших возвысить нарочито, то не они, дак дети их на недостойное обратятце, но прав своих паки не отдадут!
Вопреки своим прежним словам, юноша подвойский начал посещать беседы братьев, ввязываясь в спор каждый раз, когда вставал вопрос о том, что же делать, дабы распространить истинное учение. Ибо, хоть Денис и полагал, что только личное подвижничество и пример праведного жития да домашняя беседа со взыскующими истины могут споспешествовать распространению учения (о сроках он не заботился, полагая, что и тьма лет лишь краткий миг перед Господом), многие его приверженцы горели жаждою немедленных действий и всячески изыскивали пути стремительного продвижения в народ истинной веры.
Григорий, чтобы чем-то помочь духовным братьям, предложил оплатить покупку библейских книг у волынцев и, добившись, что Денис принял от него эти, довольно большие деньги, почувствовал себя немного в образе тех богомольцев, что дают вклады на помин души. Он от чего-то временно откупился, чего-то настоятельного, отнюдь не покупаемого за деньги, что требовали от него эти бедные мыслители, ничтожные числом и значением, затерянные в Великом Городе, сейчас полном святочною гульбой, но духом дерзающие решать судьбы народа, колебать престол церкви и доискиваться истинного смысла человеческого бытия.
***
Новгородское посольство воротилось из Литвы в конце Святок, когда пешали йордан, святили реку для будущего купанья в ледяной проруби, и жонки по всему городу выливали старую воду из кадей и ушатов, с приговоркою детям, хнычущим, что кончилось святочное веселье и боле нельзя рядиться кудесом:
– В той воде все хухляки потонули! Теперича до нового года жди!
Дмитрий приехал хмурый. Пока слуги внизу суетились, убирая коней, поднялся в верхний Марфин покой. Матери, заботливо и тревожно оглядывавшей обветренное, постаревшее лицо старшего сына, рассказал, оставшись с глазу на глаз, что Казимир был очень недоволен статьей, вставленной по настоянию Феофила:
– Мирить нас с князем Иваном ему вовсе ни к чему! Тож и от вельмож литовских слыхали. А еще бают, в Литве неурядицы, Рада враждует с королем, войско соберут ли еще, нет ли, не знать! А тогда мы ли за их спиной отсидимсе али они за нашей? Иван Кузьмин вызнавал: Казимир сына на угорский стол посадил, теперича угров замирить не может…
– Как ни то у них деетце, а в Новгороде пока Михайло Олелькович сидит! – отвечала Марфа, успокаивая его и себя. – И договор заключен тобою, сын! – Она любовно огладила склоненную голову Дмитрия. У самой сердце сладко колыхнулось: так соскучилась по нему. Оба посмотрели разом в глаза друг другу, Дмитрий устало, но твердо, Марфа уверенно и светло. – В эту зиму Иван всяко уж войны не начнет! – присовокупила Борецкая.
После Крещения Марфа отправилась объезжать свои вотчины. То же сделали и другие великие бояра, а также житьи, и с их дружинами весть об отложении от Москвы, еще не дошедшая до иных глухих углов, распространилась по всей обширной новгородской волости.
Февраль был вьюжный. Дороги перемело снегами. Кони бились в упряжи, проваливаясь по брюхо. Возок часто останавливался, и Марфа, неподвижная, закутанная в меха, сердито ждала, когда слуги дощатыми лопатами раскидают очередной занос и протопчут путь.
В Березовец приехали в потемнях. Старуха ключница, вглядевшись из-под ладони, всплеснула руками:
– Государыня ты наша светлая!
– Узнала, старая! – молвила Борецкая.
Старуха запричитала, бросилась к возку. Марфа ласково отвела ее рукой.
Нахолодавшийся господский дом еще не прогрелся, хоть его топили с утра. Было угарно, и Марфа велела подольше не закрывать вьюшек. Торопливо прибежал посельский.
– После, после! – отмахнулась Марфа. – С дороги каки дела!
Дом был родной, помнился с детства. Девочкой засыпала тут, в этой же горнице. Ссорилась с братом Иваном. Каталась на салазках с горок. Водила хороводы на Троицу. Ловила раков с мальчишками, скакала верхом… Много летов минуло с той поры!
С раннего утра осматривали хозяйство. Боярыня сама заходила в избы, расспрашивала мужиков, считала кули, холсты, кожи. На выбор открывала бочки с грибами и рыбой, пробовала мед. По локоть запускала руки в зерно не влажное ли? Осмотрев все, за одно похвалив, за другое выбранив, спросила:
– Хлеб когда повезешь?
– Думаю, весной! Как обычно, по реке сплавим… – переминаясь, отвечал посельский, не зная, к чему такой вопрос.
– Зимой вези! – жестко приказала Борецкая. – Не жди! И скору, и холсты. Ко мне, в Новгород. Оброк тоже нынце соберешь! Тута ницего не оставляй! – Она оглядела строгими глазами посад – стояли на высоком крыльце хлебного амбара, – показала кивком:
– Гляди, городня прохудилась!
Отправишь обозы, порозные пойдут – пусть везут камень и бревна. Снег обтает, начинай городить, поспеши!
– Отсеемся…
– До сева! Старостам накажи.
Посельский смятенно взглянул на боярыню, наконец-то уразумел неужто? (Слыхал уже, да о сю пору все не верилось!) Неужто… И удержал вопрос. Марфа строго свела брови:
– Умедлишь, на себя пеняй!
– Исполню, государыня!
Поклонился посельский, а сам аж взмок: жена, дочь… Пропадут ведь!
Неужто, неужто война с Москвой!
Назавтра санный поезд Борецкой тронулся дальше.
Как прежде, несмотря на розмирье, шли санные обозы на Москву, Тверь, Устюжну и Вологду. Как прежде торопились в Новгорд, к весеннему торгу, «низовские» и восточные купцы и, как прежде, как было уже не раз, новгородцы крепили Молвотицы, Стерж, Демон, Мореву. Но уже не распоряжались их наместники в Торжке, который лишь значился теперь за Великим Новгородом, и уже многие села и погосты под Торжком и Божецким Верхом, уступленные и проданные новгородцами, заводили на себя московские бояра. Но все еще это был Великий Новгород, охвативший своею волостью весь север страны, до Югорского Камня; одержащий десятки тысяч деревень, сел, рядков, крепостей и посадов, с сотнями тысячей черного народа – крестьян, купцов и ремесленников, с лесами, реками, озерами и морями; простершийся на многие дни пути во все стороны, властительный и богатый. Город, который хоть и не мог уже, как древле, ставить киевских князей на престол и сокрушать суздальские рати, но от решения которого – к Москве или к Литве присоединиться – и сейчас еще зависели, на столетия вперед, судьбы Руси Великой.
Глава 13
На Святках загорелось за Фроловскими воротами, под Кремлем, в ремесленной слободе. Пожар начался в исходе ночи. Огню не дали ходу, кинулись, не мешкая. У всех был памятен августовский пожар, слизнувший пол-Москвы. Сам великий князь явился с дворянами и тушил огонь своими руками. Быстро раскидали два обывательских дома, что уже начинали угрожающе дымиться, не глядя на плачущих баб с зареванными детьми, бестолково суетившихся под ногами, спасая тощие пожитки. Крючьями растаскивали пылающие бревна, цепью с ведрами выстроились от Москвы-реки, подавая воду, и пламя, поплясав и пометавшись, сникло, окуталось чадом, высылая там и сям разрозненные длинные языки. Их заливали, затаптывали сапогами, стараясь перед лицом великого князя выказать особое усердие.
Иван любил тушить пожары. Любил неопасную опасность жара, веселого пламени, горького дыма, искр, прожигающих платье, завораживающий блеск огня. Любил следить, как сникает пламя, как взметываются и опадают непокорные языки-лизуны и пчелиные рои светящихся искр – любил укрощать стихию. Сильными руками он ловко орудовал крюком, морщась от жара, бил мокрой метлой, не глядя на дворян, кидавшихся аж в огонь перед ним, чтобы защитить государя. Приятно было бить по огню. Искры летели врозь испуганным роем, змеиные головы пламени корчились, как от боли, и шипение черного дерева, окутанного паром, было словно шипение укрощаемого гада.
В этот раз Ивану даже показалось мало огня. Он не ощутил той приятной усталости, которой требовало его молодое, сухощаво-подбористое сильное тело с буграми мышц, вынужденное к долгой неподвижности великокняжеских приемов, званых трапез и многочасовых молебствий, усталости, от которой чувствуется тяжесть рук и просторность широких плеч и от коей прямее сидишь на коне.
Впрочем, для его деревянной Москвы безопаснее, чтобы вообще не было пожаров.
Пока возились с огнем, рассветало. Шафранно-желтою полосою по окоему неба означился близкий восход. Громче кричали галки, тучами реявшие над Кремлем, и воробьи, крылатые обитатели торга. Поднявшийся с зарею ветер нес от заречья тонкий запах хвои и сена, и казалось, что пахнет весной.
Ивану подали коня. Он безразлично миновал глазами радостно-угодливую рожу стремянного, с пятном сажи на щеке, неторопливо уселся в седло и еще раз оглянулся на дымящуюся черноту, которую смерды продолжали закидывать снегом, на море крыш Китай-города, с острыми верхушками шатровых бревенчатых храмов, возвышенными кровлями боярских хором и голыми прутьями садов над заборами, на заречные далекие красные боры, с резкой ясностью подумав о том, важнейшем, что предстояло решить сегодня («Новгород?») – и шагом тронул коня вверх по косогору, мимо просыпающегося, как потревоженный муравейник, московского торга, что широко раскинулся под стенами Кремля и по берегу Неглинной (и откуда уже бежали опоздавшие зеваки, торопясь поглядеть на государя), к белокаменным башням крепости.
Башни эти уже давно не блистали белизной. В мягкий, кое-где покрошившийся камень въелась несмываемая копоть пожарищ и сажи из труб ремесленной слободы. Полустертые черные смоляные потоки напоминали об осадах крепости Литвой и татарами, победах и поражениях, когда город сдавали и сплошной пожар бушевал не только вокруг, но и внутри кремлевских стен, черня и прожигая их белый известняк. Приречные каменные городни начинали заваливаться, и по башне около ворот тоже прошла большая трещина, лишь недавно замазанная по его приказу. Внутри этого каменного, построенного Дмитрием Донским, прадедом Ивана, скорее грязно-серого, чем белого Кремля, лепились, буро-черные под снегом, нагромождения деревянных бревенчатых хором и палат великокняжеских, митрополичьих, боярских, приказных, а также клетей, изб, караулен, амбаров, житниц, тюрем, поварен, погребов, медоварен, конюшен, соколен, псарен и прочих деловых и жилых сооружений, среди коих был и золотоордынский посольский двор. Иван все еще не выселил нежеланных гостей из Кремля, хотя распоряжаться, как встарь, они уже давно не смели. Массы народу, мирного и оружного, кишели и сновали среди этих построек с гульбищами, резными крыльцами и островерхими кровлями, либо приземистых с пудовыми замками на массивных тесаных дверях.
Среди бревенчатого моря кремлевского виднелись всего два-три скромных белокаменных храма. Небольшой одноглавый Успенский собор, выстроенный полтораста лет назад Иваном Калитой по просьбе митрополита Петра, и грозящий рухнуть, со сводами, подпертыми «древами толстыми», о перестройке которого велись неотступные разговоры с митрополитом. Княжеская Благовещенская церковь, в которую проходили прямо из палат великокняжеских, отстроенная дедом Ивана, но тоже уже обветшавшая. Храм Михаила архангела, выстроенный также еще Иваном Калитой, с гробницами князей великих и тоже зело ветхий. Вот почти вся каменная красота тогдашнего Кремля. На месте позднейшей величественной колокольни Ивана Великого стояла маленькая каменная церквушка Иоанна Лествичника, возведенная все тем же Калитой. Каменные палаты были только на митрополичьем дворе – строительство покойного митрополита Ионы, двадцатилетней давности, уже пострадавшие от пожара, с церковью Ризоположения при них.
Не было ни шатровых наверший, взлетающих над башнями, ни гордо плывущих золотых глав позднейших величавых соборов. Все это пышное строительство было еще впереди и в голове Ивана, который сейчас, озирая серые стены, привычно думал о том, что пора бы заменить обветшавшую крепость новой. Да и каменные палаты для себя пора соорудить! Город полнился добром. Амбары ломились овсом, рожью, пшеницей, мукой разного помола, крупами – гречей, пшеном, ячменем, толокном, солодом. Два житных двора, городовой и княжеский, вмещали кремлевские стены. Тысячами пудов исчислялись запасы соли, масла, кислых и сметанных сыров, сырого и вареного меда. Тысячами бочек – белужина, сиговина, щучина, стерлядь, мокрые осетрьи пупки, осетры шехонские и косячные, семужина, сельди, снетки, зернистая и паюсная икра. Десятками тысяч исчислялись меха: шкурки белок, горностаев, куниц, рысей, бобров, соболей, лис, волков и медведей.
А сколько казны, сукон, дорогого товару, седел, сбруи, оружия! Все чаще являлись в Москву послы из земель западных, где, передают, каменных палат в городах множество. Не слабнет и угроза ратная… Да и без того чуть не ежегодно выгорающая Москва требовала более прочных, не так легко обращающихся дымом строений. Митрополит Филипп молил воздвигнуть новый, приличествующий стольному граду храм Успения Богоматери. На храм нужны были деньги немалые… Так же ли митрополит Петр в свое время молил Ивана Калиту заложить вот этот, подпертый древием храм? Митрополит уже видит в мечте новую церковь, схожую со знаменитым Владимирским собором, строительством Андрея Боголюбского, Юрьевича, Мономашьего внука. Сам же Иван еще не знал, каким будет его Кремль. Не знал даже, белокаменным или иным, и видел привычно белокаменным. А Кремль, когда пришел срок отстраивать новые стены, стал краснокирпичным, и только в песнях упрямо продолжал зваться белокаменным, белокаменною Москвой. И уже в новом обличьи продолжала затем Москва расти в небеса и украшаться шатровыми завершениями башен, из крепости превращаясь в сказку, невиданную и неслыханную прежде. Но гусляры не замечали цвета кремлевских стен и башен.
Песня своевольна. Она забудет гордую славу полководца и запомнит безымянного добра молодца, погинувшего в степи. Новый Кремль стал окаменевшею волей самодержавия. В песнях остался прежний, что был выстроен на взлете народной мечты, воплощенной в ликах Андрея Рублева, при Донском, и простоял в бурях осад и нашествий до дней окончательной победы над Ордою, объединения страны и утверждения единовластия Ивана Третьего.
Воротясь, Иван умылся и переменил платье. К новгородским делам, как он собирался с утра, сразу приступить не удалось. Надо было принять и расспросить казанского посла. Царь Обреим, кажется, вновь грозил выйти из повиновения. Затем его просила быть у себя мать, Мария. И он, оставя все дела, тотчас отправился к ней.
К матери Иван относился с подчеркнутым, почтительным уважением.
Советовался о всем, хоть и решал дела своею волею. Никогда ни словом, ни жестом, ни хмуростью бровей не выказывал ей неудовольствия или ревности, когда она привечала и дарила, в ущерб ему, любимца своего, Андрея-меньшого, младшего из пяти сыновей покойного Василия Темного.
Скупой на земельные пожалования, не столько даривший, сколько прибиравший к рукам вотчины удельных князей, Иван матери своей делал крупные подарки землями. Впрочем, то были дары в одной семье, которые должны были воротиться когда-нибудь к нему же. С родными братьями уже был заключен ряд о престолонаследии и нераздельном праве старшего на великокняжеские земли. Не следовало допускать того, что произошло при деде: не добился крестоцелования от брата Юрия, и пошла резня. На всю жизнь запомнил Иван тогдашнее ночное бегство к Ряполовским из Троицкого монастыря, где Иван Можайский у гроба Сергия чудотворца схватил их отца, тогда же и ослепленного злодеями. Бегство ночное, непонятное, суматошное.
Ивану шел всего шестой год, и они с братом не понимали, ни почему, ни отчего бегут, ни где их отец, великий князь. Бежали под Юрьев, в вотчину Семена Ряполовского, сельцо Боярово. И запомнились тревожные дни потом, и странные лица холопов – с тех пор он никогда уже не видел таких лиц, лиц, рождающих смутный ужас. И когда впервые узрел слепого отца, сильного, большого, а тут исхудавшего, безглазого, жалко подымающего голову, прислушивающегося к шагам. Его быстрый гнев от бессилия сделать самому потребное. Как он руками ощупывал их и Иван сдерживал себя – хотелось убежать, спрятаться – отец убеждался, что это они, его дети. Потом привыкли понемногу. И Василий научился держаться слепым. Не спотыкался о пороги, спокойно шагал, когда вели под руки, величественно слушал в Думе, не волновался так от стыдных мелочей. Еще и за то Иван уважал мать, что она все делала, чтобы смягчить отцу тягостное его состояние.
Незадолго перед смертью (Иван ненароком подслушал этот разговор) отец спрашивал мать домашним своим голосом, не тем, которым говорил с боярами, а другим, тихим и беззащитным: «Как выгляжу? Остарел? Страшной, поди?» И мать отвечала: «Для меня ты всегда хорош!» – и добавила, с ласкою, любовно: «Старый мой!» И не пожалела ведь, не обманула, а нашла, как отмолвить лучше всего. Иван поскорей отошел от двери покоя… И за ту ласку душевную, подслушанную ненароком, уважал он ее больше всего.
У матери Иван пробыл долго. Решил, не откладывая, семейные дела, из которых мать и позвала его к себе (опять, как и думал, долги Андрея-меньшого!), трапезовал у матери, в ее личном покое, чем-то напоминающем келью. От матери и пахло нынче по-келейному, кипарисом и ладаном. Небольшая, чуть огрузневшая, с внимательным взглядом светлых, окруженных сеткою мелких морщинок глаз, Мария, вся в черном, – так ходила после смерти Василия, – неспешно распоряжалась за столом тихо сновавшею прислугой, сама плавными сухими руками наливала, подвигала старшему сыну блюда. Иван оглядывал изредка тесный материн покой, пристойно уставленный дорогой утварью – мать, его заботами, не должна была нуждаться ни в чем (даже свой полк со своим воеводою имела вдовствующая великая княгиня).
Поблагодарил мать за Брадатого. Ученый дьяк находился после смерти отца при дворе вдовствующей великой княгини и был лишь недавно уступлен ему матерью, нарочито ради новгородских дел.
– Степану верь! Он родителю твоему помогал противу Шемячичей! отмолвила Марья. – И Ряполовским верь! – прибавила она, погодя.
Иван промолчал. Ряполовские начали слишком возвеличивать себя в последние годы.
– Данило Холмской хочет в воеводы на Новгород! – сказал он, помедлив.
Холмский был принятой, из тверян. Впрочем, мать тоже из Твери родом!
Отталкивать принятых нельзя было, но и привечать в ущерб своим опасно.
Мария поняла с полуслова:
– А ты и его и Стригу пошли! Чать не зазрят!
Совет был разумным. Тем паче, что Стрига-Оболенский уже ходил на Новгород, при отце, пятнадцать лет назад.
Иван спрашивал, отвечал неспешно, но сам, как и в прежние посещения материнского терема, испытывал двойственное чувство. Тут он был сыном, хоть и старшим, тут, и только тут, с него слагалось на время бремя великое – бремя быть первым после Бога лицом в государстве русском. И вместе с тем именно тут он не мог, не вправе был забыть о своем великокняжеском достоинстве. Не мог из-за братьев, связанных договором, отдающим в его руки всю полноту власти, но равноправных с ним здесь, за сим столом, перед лицом этой старой, опрятной, строго-внимательной женщины, их общей матери.
И потому, принимая блюда, стесненно склоняя голову, взглядывая изредка в заботливые глаза Марии, Иван все не мог полностью распуститься, ослабиться, не мог даже здесь позволить себе побыть просто сыном, а не великим князем и государем Московским.
Едва Иван воротился к себе, его отвлек юный княжич, Иван Иваныч, прискакавший с двухдневной охоты со свитою осочников, стрельцов, трубников и выжлятников.
– Батя! А мы трех волков затравили! Матерых! А ты опять пожар тушил?!
– воскликнул княжич, подбегая к Ивану и с восхищением заглядывая ему в лицо.
Ясные серые материнские глаза покойной, тверянки Марии, разгоревшееся на холоде лицо. В его возрасте, двенадцати лет, Иван ходил походом в новгородские пределы, на Кокшенгу, с татарским царевичем Ягупом против войск Дмитрия Шемяки. Рослый сын, в отца. Стройный, красавец.
Еще и потому нравилось тушить пожары, что этим Иван, не любивший ратных трудов и никогда сам не кидавшийся в бой, как то делали отец и прадеды, все же казался храбрецом в глазах сына.
Пришлось выйти, посмотреть добычу. Волки были добрые, особенно один хорош: с седым загривком, толстыми лапами и оскаленной в смертном усилии пастью, способный враз перекусить руку. Пришлось и одарить, ради сына, охотников, разом поснимавших шапки перед государем.
Все это время Степан Брадатый ждал с готовым рукописанием. Ради такого дня он особенно гладко зачесал и умастил свои серебристые волосы и был в новом, застегнутом на все пуговицы терлике, над коим потрудилась вчера вкупе с прислугою сама Степаниха, Агафья Петровна, дебелая супруга Брадатого, гордая не менее его самого тем, что муж будет делать доклад государю. На досуге, чтобы не сидеть без дела, он продолжал сверять владимирский летописец с летописцем Великого Новгорода – работа, начатая им уже два месяца назад, – и подторапливал младших дьяков, переписывающих набело нужные для государя грамоты. Они уже дважды прерывались для трапезы, но и тогда были готовы ежеминутно схватиться за дела. Горница, где разместился Брадатый с подопечными, находилась в палатах самого великого князя, и Ивану достаточно было, не одеваясь, пройти висячими переходами, чтобы нежданно оказаться перед ними. Поэтому и трапезовали с береженьем. Степаниха, предвидя долгую отлучку мужа, послала с ним холодной севрюжины, туесок с медовым взваром, нарезала хлебцы, заранее намазав маслом, чтобы все легко было, разложив на полотенце, тут же, свернув, и спрятать назад, буде послышатся шаги государя. Младшие дьяки ели особо, разрывая зубами и запивая квасом сушеного леща, но также готовы были тотчас скрыть следы трапезы и, обтерев персты о волосы, принять вид достойный.
Тридцатилетний великий князь и государь Московский, Иван Васильевич, Иван Третий, правнук Дмитрия Донского, никогда не был в Новгороде. Не видал его изображений, которых в ту пору еще не существовало. Более всего он представлял себе Новгород по рассказам братьев и еще из грамот, летописей, посольских дел. Но такое знание зыбко, бесплотно, непредставимо и легче всего подвергается мысленным искажениям. Самым точным сведениям грамот всегда не хватает образной зримости. Новгород для Ивана был не столько живым городом, сколько целью, идеей, замыслом, ждущим своего разрешения.
Он прошел по крытым переходам. Дьяки, заслышав его шаги, встали и, стоя, низкими поклонами, приветствовали государя. Он ответил им легким наклонением головы и сел в прямое четвероугольное резное кресло, с удовольствием сдавив сильными пальцами гладкие навершия подлокотников, потребовал грамоты. Решенную войну с Новгородом мыслилось оправдать в глазах всех, кто имел власть и право участвовать в решении судеб государства. Также хотелось выяснить, наконец, почему во время похода на Новгород лета шесть тысяч шестьсот семьдесят седьмого были разбиты войска Андрея Юрьевича Боголюбского?
Степан Брадатый начал подавать ему списки, властно принимая их из рук младших дьяков, которые в присутствии великого князя совсем уничтожились, и с почтительным подобострастием передавая Ивану. Во-первых, Яжелбицкий договор Василия Васильевича, заключенный после победы над новгородцами в последней войне, где были красною чертою выделены великокняжеские требования, принятые новгородцами. Затем двинские грамоты за двести лет: соглашения о землях и промысловых угодьях Андрея Александровича, Ивана Калиты и Дмитрия Донского; уставная грамота Двинской земле Василия Дмитрича, деда. Эта была особенно важною. В ту пору двиняне передались великому князю, сами передались, и если бы не решительный и, к несчастью, победоносный поход новгородцев… Он потребовал список великоняжеских владений на Двине, уже известный ему почти наизусть, и судные списки двинских дел поземельных. Ясно было, что, например, Кевролу, а также Чаколу с прилежащими землями можно считать своей.
– Все ли «сказки» подали, кто из москвичей противу новгородцев по суду на землях и на водах искал?
Брадатый молча протянул следующую грамоту.
– Выписки из судной грамоты, что показуют неправду суда их… Брадатый протянул столбец, даже не дослушивая великого князя.
Тут – старина. Суд княжой был воистину утесняем противу прежних времен, когда княжеский наместник стоял выше посадника, и печать была при грамотах князей великих, а не одна новгородская, Великого Новгорода, как повелось у них нынче. В суде он волен требовать того, что принадлежит ему по старине, по по древнему праву. В конце концов можно даже и всех двинян рассматривать как подданных. Вернее, как изменников великому князю! Он задумался, и Брадатый с подопечными замерли на своих местах, не шевелясь.
Потом попросил договорную грамоту Дмитрия Донского с Новгородом и еще раз внимательно перечел место, где говорилось о союзе и совместной борьбе с общими врагами, Литвой и Тверью. В первую очередь с Литвой… Иван нахмурился: возможно ли считать новгородцев отступниками? Брадатый, как будто читая в мыслях, подал ему грамоту, оплаченную кровью серпуховских детей боярских (их били кнутьем, резали руки, ноги и носы, иным отсекали головы). Грамота та была соглашением Ивана Андреевича Можайского и Ивана Васильевича Серпуховского – заклятых ворогов Ивана, бежавших в Литву.
Восемь лет назад, при отце, был раскрыт заговор, изменники мыслили освободить из затвора князя Василия Ярославича. К счастью, Володю Давыдова, что вез грамоту, успели перехватить. Степан Брадатый, конечно, считает, что этой грамоты достаточно, чтобы обвинить в измене заодно и новгородцев. Если бы только и все так считали! Князь Василий Ярославич, троюродный дядя Ивана, что сидит пятнадцатый год в затворе, спасал отца после ослепления. Лучше не ворошить этого дела! Василий Ярославич жив и все еще не собирается умирать, и даже помочь ему в этом, как помогли Шемяке, опасно.
Он начал спрашивать, Брадатый отвечал. Иван внимательно смотрел на дьяка своим пристальным, пронзающим взглядом, взглядом, которого трепетали многие, а иные даже не могли вынести. Но тот, преданно взирая на государя, говорил ясно, спокойно, гладко и явно ничего не скрывал. Обратились к прошлому. Брадатый не мог понять, почему Иван так подробно расспрашивает, вновь и вновь к тому возвращаясь, про чудо с иконой «Знамение Богородицы», коему новгородские летописцы приписывали разгром суздальских войск.
Некоторых действий великого князя Брадатый вообще не понимал. Так, он был уверен, что боярское звание не заставит Дмитрия Борецкого отказаться от своих планов, и так оно и произошло. Но Иван не казался рассерженным или обманутым. Обычное спокойствие в делах не покидало государя.
Кое-кого из старых советников гневливого и скорого на решения покойного Василия Васильевича приводило в недоумение рытье молодого князя в архивах. Покойный отец Ивана не стал бы собирать грамоты, считывать тексты старых договоров, искать по летописям, правы или нет новгородцы, а просто еще этою зимой двинул войска на Новгород, вернул княжьих наместников на Городище и взял откуп с непокорного города.
Подобных недоумений у Брадатого, впрочем, не было. Законник и знаток летописей, он от своей нынешней работы испытывал подлинное наслаждение.
Ему хотелось бы только, чтобы государь больше полагался на его, Брадатого, таланты и усердие. Но Иван упорно собирал и перебирал грамоты, сам считывал летописи, не доверяя вполне и Брадатому, советовался с воеводами, никого не слушая полностью, а всех в какой-то мере, применяя их мнения к своим, никому не высказываемым мыслям.








