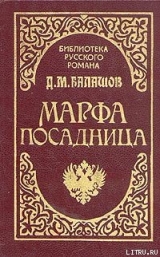
Текст книги "Марфа-посадница"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 34 страниц)
Неразбериха стояла полная, и тут одно слово легко могло решить все, и это слово пронеслось. Сполошный крик: «Татары!» – разом порушил рать.
Желтые татарские стяги стояли над лесом.
Пока передовые врубались в московский строй, тут кинулись назад, смешав своих же. Владычень полк целиком повернул на бег, оставив Еремея с несколькими верными ему ратниками. Те, что только утром кричали, требуя наступления, теперь круто осаживали коней, поворачивая к Новгороду.
Роковое месячное стояние без дела, насильственный набор ремесленников, рознь славлян с неревлянами, бояр с житьими, а житьих с черным народом, приказы Феофила – все тут сказалось разом.
Дмитрий Борецкий врубился во вражеские ряды и уже пробивался к Даниле Холмскому, когда страшный удар в плечо сбоку и сзади, прорубив кольчугу, чуть не сбросил его с седла. Правая рука, выронившая клинок, повисла плетью. Борецкий оглянулся, ища подмоги, но кругом были москвичи. Конь под Селезневым на его глазах повалился, Василий вскочил, чудом не запутавшись в стремени, но татарский аркан упал ему на плечи, и Василия, сбив с ног, поволокли по земле. Борецкий вырвался и, одолевая боль, поскакал воротить полки. Великие бояре на глазах бросали сабли, сдавались в плен.
«Часу не стояли!» – подумал он зло. Горсть боярской дружины, еще ощетиненной копьями, теряла строй. Под стрелами пятились кони. С горы к ним прорывался, натужно крича, Киприян Арзубьев с негустою толпой плотницких житьих. Борецкий левою рукой неумело махал шестопером, расшвыривая москвичей. Грянулся конь, и от удара о землю у Дмитрия затмилось в глазах. Он уже не видал, как взяли Арзубьева, как слагали оружие последние ратники окруженной боярской дружины.
Неревляне, двинувшиеся вслед передовому боярскому полку, были остановлены встречным натиском москвичей. Слишком тесные порядки и неумение ремесленников толком держаться в седлах не давали возможности развернуть полк к бою. Большая часть рати недвижно стояла под стрелами, с трудом удерживая бесившихся коней, которые уже от посвиста стрел прижимали уши и храпели, а будучи ранеными, взвивались или падали, увлекая седоков за собою. Кольчужные брони на конях были только у немногих бояр. Полк погибал, редко и неумело отстреливаясь.
Григорий Тучин, как только полк остановился, понял прежде прочих, что происходит. Но, пока он выпутывался из тесноты и выводил свою дружину, время было упущено. Московские ратники уже обошли полк и с той и с другой стороны.
Растерявшись (где-то внутри мгновенно похолодело) и разом озлясь на себя за эту растерянность, так что кровь прилила в голову, Григорий крикнул: «Вперед!» – и рванулся в гущу москвичей. Длинные просверки сабель зазмеились вокруг, посыпались удары по щиту, прямь и скользом. Он опять растерялся, на миг прикрыв глаза и шатнувшись назад. Скоп москвичей, рассыпаясь, пролетел мимо. Григорий снова ринулся, но жеребец резко остоялся, дернувшись и взоржав от удара шпор. Тучин в горячке не сразу понял, что стремянный держит за повод его коня.
– Отдай! На помочь! – В гневе он оглянулся на бледные лица дружины. За мной!
Пришпорив коня, с опущенным копьем Григорий поскакал туда, где, окруженная со всех сторон, гибла передовая рать. Ему наперерез летели легкоконные московские лучники. Дружина за спиной топотала вразброд. Он обернулся на скаку:
– За мной!
Ратники заспешили, неохотно подтягиваясь. Стрела ударила Григория в шелом, мало не в лицо. Зазвенело в голове. Москвич увернулся от удара копья. Тучин, не сумев повернуть, пронесся мимо. За спиной во вскриках рассыпался новгородский строй. На Тучина набросились сразу двое, один ловко отбил копье, обрубив наконечник. Григорий, бросив древко и обороняясь щитом от удара кривой татарской сабли, вырвал меч и рубанул вкось, клинок столкнулся с клинком, раз и два, и три. Кони плясали.
Перегнувшись, Тучин, остервенясь, хватил второго – и тотчас у самого потемнело в глазах от удара по шелому. Вздев за повод коня, он отбил второй удар (чуя, что дружина его уже повернула и он один среди москвичей), бросил коня вперед, яростно рубанул, и на этот раз в мягкое.
Вывернув коня, Тучин бросился было на второго, но туча стрел затмила ему свет – только панцирь спас. Раненый конь взвился на дыбы и пошел судорожным скоком. Бледное лицо слуги, вновь схватившего повод, оказалось рядом.
– Беда! – прокричал он в ухо Тучину. – Окружили!
Над головой просвистел аркан. Стремянный вовремя отдернул Григория.
Еще один ратник спешил им на переймы. В стыде за то, что приходится скакать назад (расквитаться хоть с одним!), он кинулся на москвича, но тот прянул в сторону, и, опять едва уйдя от аркана, Григорий понял, что те просто умеют драться, а они – и он тоже – нет.
Кругом бежали. Оглянувшись, он увидел только четверых из своей дружины, и у тех в глазах был ужас смертный. Следовало остановить бегущих, и Тучин попытался было это сделать, но его отбросили и чуть не сбили с коня. Морщась, кусая губы от бессилия, он глядел на этот позорный разгром и, оборотясь, обнаружил рядом только одного стремянного. Криво усмехнувшись, Тучин приказал ему:
– В Новгорорд!
Во втором часу дня уже никто не сопротивлялся. Бежали и сдавались, бросая оружие. Бояре обрезали брони – полосовали лезвиями кожаные завязки лат, скидывая тяжелое железо, чтобы облегчить коней. Ремесленный люд, доскакав до лесу, валился с седел, разбегаясь по кустам. Москвичи безжалостно рубили бегущих. Уже вели полоняников. Кое-где начинали обдирать доспехи с мертвецов.
Захваченные стяги торжественно проводили вдоль войска. Ратники, подъезжая, прикидывались к полотнищам, целовали святые лики новгородских знамен.
– Сам Бог за Москву!
Победа была полной. Вместе с обозом Холмскому достался и противень договорной грамоты Новгорода Великого с королем Казимиром, что для Ивана Третьего было самой ценной добычей.
Савелков поспел к третьему часу. Нападать было бессмысленно. Хоронясь за лесом, повел своих к городу, по пути собирая бегущих. Подобрали пешего окровавленного боярина, оказался Никита Есифов. От него узнали о том, что Кузьма Грузов и многие плотничане взяты в плен. Называли и убитых. Никита поведал, что Сергея прикончили на его глазах. Тот с криком кинулся на копья москвичей и был сражен наповал. Позже, на устье, не доезжая Голина, наткнулись на трех москвичей, осадивших одинокого новгородского ратника.
Увидев отряд Савелкова, москвичи пустились наутек. Ратник был весь черен от грязи и пыли и шатался вместе с конем. Только по панцирю Савелков признал Григория Тучина.
К вечеру москвичи прекратили погоню. По тропкам и по лесу, обочь дороги, шли, ковыляли, ползли, сторожко выбираясь из кустов, новгородские ратники. Многие в поисках спасения уходили из города, забивались в леса, пробирались к далеким глухим деревушкам – уже и в прочность новгородских стен не верилось.
Вечером Холмский послал великому князю донесение о победе с одним из особо отличившихся в бою боярских детей, Иваном Замятней. Гонца ждала почетная награда.
Стали станом. Напасть на Новгород малыми силами, с наворопа, Холмский не рисковал. К тому же дружинникам надо было дать, наконец, ополониться.
Коней, оружие, пленников, платье с убитых дорвавшиеся дворяне рвали друг у друга из рук. Впрочем, добра хватало. Мало кто остался без второго коня, одежды и дорогого оружия.
Даниил Холмский мог торжествовать. По сути он один выиграл всю войну.
Иван получил донесение Данилы Холмского на четвертый день, в Яжелбицах, и тотчас двинулся к Русе, куда приказал привести захваченных Холмским полоненных новгородских бояр.
***
…Гонец промчался в облаке пыли на запаленно-храпящем коне.
Промчался, клонясь к седельной луке, будто уходя от удара копья. Так никогда не скачут победители. У ворот всадник бросил несколько слов стороже и, не останавливаясь, полетел дальше, в Неревский конец, к терему Марфы Борецкой.
В город вошла беда. Еще никто ничего не ведал, еще воротная сторожа не успела оповестить и ближайших, а уже кучки народа начали собираться на улицах. Беда висела в воздухе струею неосевшей пыли, пронесшимся по мостовой тревожным одиноким топотом.
Борецкая заслышала шум во дворе и, еще не разобрав толком, по расширенным глазам ворвавшейся Пиши поняла: беда! Накинув плат, она стремительно сбежала по ступеням и, глянув на вестника, уже поняла все.
– Разбиты! («Господи, убиты, наверное!») Все сдвинулось и потекло в сторону, медленно опрокидываясь. Немеющими пальцами цепляясь за перила крыльца, она крепко зажмурила глаза и застонала негромко, не вынеся боли, схватившей сердце, будто переставшее биться, отчего стало зябко сразу и потом сразу горячо, и от слабости задрожали ноги.
– Баба Марфа! – крикнул уцепившийся за подол, неведомо как очутившийся на крыльце внучек, Ванятка, глядя со страхом на побелевшее лицо с закрытыми глазами.
Вот сейчас, сейчас, и… Марфа превозмогла обморок и вновь широко открыла глаза. Увидала: вот свой двор, бледные лица мужиков, запаленный конь у крыльца, тяжело, с храпом, поводящий боками, полосы грязи и кровь на лице и кольчуге гонца и растерянные молодшие, для которых сейчас единое ее слово решает судьбу города. И, проглотив комок, шедший к горлу, сурово и негромко, но властно, как допрежь, Борецкая приказала:
– Посады и монастыри жечь!
Она еще не знала, ни что с Дмитрием, ни что с Федором, но все словно замерло в ней, одеревенело, и только воля была, как огонь в каменной печи.
Скакали по ее приказам десятские, спешно укреплялись башенные костры, ополченцы перетаскивали пушки из Детинца на городские стены, усиленная сторожа занимала ворота. Нашлись воеводы по концам: кузнец, плотник и трое житьих. Иваньское купечество, вооружив всех молодших приказчиков, выставило новую рать. Передавали, что братия Николы на Мостище воспротивилась сожжению монастыря. Марфа послала дворского с наскоро собранной дружиной и двумя пищалями, приказав в случае сопротивления разнести монастырь в куски вместе с монахами, и смотрела со стены, пока столб дыма не возвестил ей, что приказ исполнен. Этого урока оказалось достаточно. Горожане разом вспомнили, что сто лет назад, при Донском, также жгли пригородные монастыри. Появились дружины добровольцев. В разных местах загорались пожары. Хоромы, кельи, подгородные слободы предавались огню. Жители пригородов потянулись с пожитками и скотом во все ворота, у коих уже стояла сторожа, проверявшая и направлявшая погорельцев по разным концам. Воротившихся невредимыми с поля ратников тут же посылали на стены.
Пока растерянные Яков Короб с Феофилатом осаждали архиепископа, моля «сделать что-нибудь», город к вечеру уже был готов к бою. Прискакавший в сумерках Савелков принял воеводство на Софийской стороне.
Продолжали прибывать беглецы. Савелков, разоставив дозоры, зашел с Никитой Есифовым к Марфе Ивановне. Перечислили убитых. Уже дошла весть, что Василий Казимер сам сдался московским дворянам, что схвачены оба Селезневы и Еремей Сухощек. Не знали достоверно, что с Иваном Кузьминым, жив ли Арзубьев. Тут только Марфа узнала, что Дмитрий взят в плен. Федора, черного лицом от устали (он прискакал ночью, без панциря, на чужом коне) Марфа встретила тяжелым взглядом:
– Что ж Митю… – не кончила, устыдилась собачьей виноватости в глазах сына. – Ступай! Онтонина весь день плачет, думает, убитый.
И только сдав управу мужикам, сделав все, что могла, и более, чем могла, убедясь, что город приготовлен к осаде и не падет от нежданного удара москвичей, Марфа поднялась к себе, бессильно останавливаясь на каждой ступени, передыхала, что-то как разбилось в сердце. Прошла в иконный покой и тяжело опустилась на колени, почти рухнула, внезапно ощутив наступившую с годами и неприметную до сих пор самой грузность тела.
Молилась о Мите, чтобы не погиб в плену, потом о всех убиенных по ряду.
Про Сергея ей тоже сказали. Вспомнила глаза его замученные, темными тенями обведенные, и как поцеловала в лоб. Не за то ли погиб? Нахмурила брови, строже вздохнула, негодуя на себя, стала бить земные поклоны, пока не успокоилось сердце.
Ночью багровые сполохи пламени опоясали Новгород. Как встарь, жители жгли монастыри и околья – чтобы негде было остановиться врагу. Город глухо гудел. Корились и судачили об изменах. Под утро поймали Упадыша, зелейного мастера, переветника, что с несколькими приятелями заколачивал пушки на кострах. Виновных с трудом довели до веча. Казнили всех без милости, не терпелось на ком-то сорвать сердце за разгром, за позор, за стыд. Обвиняли архиепископа, обвиняли Дмитрия Борецкого, Казимера… Сторонники извилистых мер, во главе с Феофилатом Захарьиным, сговаривались отай, как им лучше замириться с Москвой и откупиться от великого князя. И еще никто не знал, не ведал о двинских событиях.
Глава 17
Плотницкий посадник Иван Кузьмин, которого тщетно искали все, и соратники, спасшиеся от погрома, и Иван Третий, жаждавший изловить всех сторонников Дмитрия Борецкого, бежал с поля боя, обрезав на себе бронь.
Чудом успев выхватить сына Юрия из гущи побоища и кое-как собрав несколько человек из своей рассыпавшейся дружины, ключника да четырех ратных, он поскакал не в Новгород, а, взяв севернее, устремился за Видогощу, в Сутоцкий погост. Скакали всю ночь. Утром сделали короткий привал. Иван подумывал было, не остановиться ли в Троицком монастыре на Видогоще, но ключник отсоветовал – догонят. Снова ехали через леса и болота, за Тосну, где у Кузьмина было большое родовое село и боярский двор в нем. Но не успели расположиться, как на второй же день, в полдни, прискакали дозорные сказать, что в соседней деревне видели московские разъезды, и боярин в ужасе, что ищут его, заметая следы, поскакал далее. По совету ключника они направились в далекую деревушку за Сясью, настолько загороженную мхами, топями и густолесьем, что не только пришлые москвичи, но и сам боярин никогда не бывал там, а ключник добирался лишь раз в год, зимою, по санному пути.
Переправились через Волхов. Ехали, сторонясь больших деревень. Под конец уже и кони спотыкались от устали. Юрко, зеленый, едва держался в седле. Спасительные болота чуть не погубили путников. От последнего погоста, где остереглись брать провожатого, проехали уже двадцать верст, когда надо было сворачивать на зимник, сейчас, летом, совсем неразличимый в густых елях и зарослях ольхи. Ключник часа два путался, не мог найти дороги. Поехали было по одной из троп, но путь привел на маленькую сенокосную полянку, вокруг которой и за нею была сплошная топь. Едва выбрались назад. Шарили опять по кустам. Наконец, ключник нашел поваленный сгнивший крест и вспомнил, что дорога в деревню, кажется, и начиналась от этого креста. Семеро всадников углубились в чащобу. Тропка, еле видная, иногда пропадала совсем, и только по какой-нибудь растоптанной луже или обломку жердины можно было признать, что здесь ездили люди. Миновали моховое болото. Кони вязли, с трудом вытягивая ноги из коричневой каши.
Проехали взлобком в густых елях и вновь чуть не заблудились. Десятки тропинок, усеянных мурашами, разбегались в стороны, одинаково бесследно теряясь в окаймившем угор болоте. Смеркалось. В темноте стало плохо видать дорогу, нещадно жалил гнус, комары и слепни, накинувшиеся на лошадей.
Тропка превратилась в подобие болотного ручья, перекрытого старыми жердинами, что легко крошились под копытами коней. Породистый белоснежный жеребец боярина храпел, мелко дрожа атласной, искусанной до кровавых волдырей кожей, шел боком, неуверенно пробуя копытом гнилую гать. Ноги жеребца поочередно с чмоканьем уходили куда-то вглубь, меж скользких раскатывающихся бревешек. Вдруг он взоржал, провалившись сразу двумя задними ногами по брюхо, и продолжал погружаться, взбрызгивая бурую грязь.
Боярин соскочил с седла, сразу и сам утопнув выше тимовых зеленых сапог, тотчас наполнившихся болотной жижей. Коня кое-как вытащили. Весь дрожа жалко и дико кося глазом, он отказывался идти дальше. В лесу окончательно потемнело. Холопы саблями рубили ветви, мостили гать. Все так устали, что уже и устали не чуялось. Осатанело звенели комары. Ядовитые туманы, как руки лесовиков, тянулись по прогалинам. Ухала выпь, что-то трещало в чащобе. Наконец стало немного суше. Кони шли болотистой тропкой, сами находя дорогу. Встретилась сенная копна, огороженная, чтобы не потравили лоси. Ключник перекрестился – думал уже, что сбились с пути. В сумерках (короткая северная ночь уже переломилась к рассвету) показалась крохотная часовенка с покривившейся маковкой и посторонь очертания трех изб, с разбросанными вокруг них амбарами и банями. За деревней, в проеме леса, блестело озеро. Крохотные пашни, казалось, жались к воде и избам, теснимые густыми елями. Пока возились у поскотины, отодвигая заворы, залаяла собака, ей ответила другая. Мужик распояской показался на крыльце. Хрипло спросонь окликнул:
– Кто такие?
– Не боись, свои! Православные! Из Нова Города! – отвечал ключник.
Заскрипели двери сарая, развели коней. Боярин, наклонясь, пролез в дымную избу, где шевелились во тьме, вздыхали и храпели спящие. Хозяйка, в серой холщовой рубахе, раскосмаченная, вздувала лучину. Неровное пламя пятнами заметалось по стенам, выхватывая то грубый стол, то лавку, то печь. Взрослая девка дико спросонья глядела из-под овчинной шубы, уставясь на приезжих бессмысленными глазами, в которых отражалось пламя лучины.
Лохмы сажи свисали с потолка и с развешенных под матицею сетей.
Хозяева узнали ключника, а поняв, что перед ними сам боярин, засуетились:
– Еда-то наша!
Во всем доме был только горшок вчерашних щей. Мужик стянул мокрые сапоги с ног боярина, обтер ветошью, прищелкнул, оглядев ладную работу, точеный каблук – не попортить бы! Набил сеном, устроил сушить в вольном тепле.
Скоро уселись за стол. Хлебали чуть теплые щи. Меж тем как лучина дымила, догорая, хозяйка вставляла новую. Огарки с шипом падали в лохань с водой. Тараканы метались по столу, нежданно потревоженные в этот их тараканий час. Но от устали не было даже брезгливости. Кое-как поужинав, повалились кто где. Боярину хозяин отдал единственную в избе деревянную кровать, куда Иван Кузьмин лег вместе с сыном Юрием. Ключник и холопы устроились на полу на сене. Наконец, убрав со стола и погасив последнюю лучину, поворочавшись, улеглась и хозяйка, тоже на полу, у порога, рядом с хозяином.
В избе было душно, стойкий дух сажи, овчины, печеного хлеба, мужских и женских тел, запах конского пота от попон, еще какие-то запахи. Стало опять слышно, как в лесу что-то ухает и кричит протяжно.
– Вишь, он беспокоитце, – прошептал хозяин. – Гостей зачуял, не было бы худа!
Хозяйка что-то отвечала ему, боярин слышал неясно, проваливаясь в сон.
Утром Иван Кузьмин пробудился от запаха дыма. С дороги все тело ломило. Не вставая, он следил с кровати, как возится хозяйка у печи, низко пригибаясь, ворочая ухватом горшки. Дым сизой колеблющейся пеленой висел под потолком, наполняя горницу до крохотных волоковых окошек, трудно уходил в дымник. Ивану Кузьмичу не доводилось о сю пору жить в курной избе, и он с завистью вспомнил изразчатую печь в новгородском тереме своем, удобные лежанки, чистые горницы… Дым опустился до кровати.
Закашлявшись, боярин встал. Хозяйка, не переставая возиться, ласково пропела:
– Здорово ночевали, батюшко? А наши мужики ужотко косить ушли, скоро воротятце… Липа, слей на руки!
Девка, вынырнувшая откуда-то из дыма с берестяным ковшом, остановилась на пороге, сожидая боярина.
– Как вы живете так? – в сердцах попенял Кузьмин.
– А мы ничего, привыкши!
– Зимой-то?
– Зимой лучше тянет! – возразила хозяйка. – Сейчас дымно, вашим-то, городским не в привычку!
Кузьмин вышел на крыльцо. Девка поплескала на руки. Скоро выполз Юрко, тоже глаза слезились от дыма. Лошади стояли во дворе, поматывая головами. Ключник вышел откуда-то из-за угла с беремем свежей травы.
– Я ребят, Климца с Жирохом, косить послал, что даром хлеб-от ясть! А Дмитро неводить пошел с дедом, а Грикша ускакал в сторожу, да и вести какие…
– Добро! – кивнул боярин.
– Староста к вечеру приедет, сами послали за ним. Он тут на десять дворов. Тамо, на той стороны, еще две деревни, да за лесом четверта, он в той живет. Однако хозяин-от наш! Пишется в два двора, а ишь – третью избу зятю срубил! По-заглазью, дак и ладят, как обмануть!
– Пашни-то сколь?
– Пашни полтора обжи, дак и то домекаюсь, не все сказывают! Съездить надоть, за лесом у их, кажись, еще с обжу, да по-залесью…
– Ты погодь, чего еще в Новом Городи, узнать надоть! – остановил Кузьмин ретивого ключника. Сам уселся было на ступеньку, на вольный дух, да кровососы не дали посидеть спокойно. Хлопнув себя по шее в двадцатый раз, Кузьмин выругался в сердцах:
– У них тута и днем комарья!
– Мхи кругом-то! – отозвался ключник, обихоживавший коней.
– Надоть в избу пойти опять! – вздохнул боярин.
Печь дотапливалась. Хозяйка выгребла уголья в зольник, обмела под помелом из можжевеловых веток, стала класть хлебы. День был субботний, пекли на всю неделю. Девка, прибранная, как только можно, – причесалась, даже синенькие бусы надела на шею – помогала матери, взглядывая то и дело на Юрко, потрепанный наряд которого здесь казался верхом роскоши.
Возились щенки в углу, какие-то тряпки висели у печи, сохли детские пеленки, за ткацким станом были свалены грудой заготовленные копылья. На полице одиноко светился медный скобкарь, выглядевший князем среди деревянных, домашней выделки мисок и братин, глиняных закопченных латок и горшков. Пахло как в бане, пока еще не начали мыться, – сухим жаром. Уже начинал подыматься хлеб. Хозяйка задвинула устье печи дощатой подгоревшей заслонкой. Под столом заворочался и тоненько заблеял ягненок. Хозяйка пояснила:
– Бодат! Овца-то, бодат его! Объягнилась не в пору, да и не дават сосить, не признает, глупа, первый раз еще носит-то! Я уж прибрала в избу, а то забодат совсем. Да и дома сосить некак! С пальца уж! Да даю вот из своих рук овце! Ну, мой миленькой! Бросила тебя матка, да? Глень, и на ножки плохо встает уж!
Она унесла ягненка в хлев, кормила, потом занесла обратно в закут. Он тыкался мордочкой ей в передник.
Скоро сытный дух ржаного хлеба потек по избе. Хозяйка с дочерью пошли за водой. Юрко куда-то исчез. Маленькая качала зыбку, приговаривая:
Aю, аюшки, аши, Iо три денежки ерши, Aрши ма-аленькии.
Eостова-а-тенькии!
Aоярин усмехнулся, попробовал пошутить:
– Дороги больно ерши-то у тебя!
Девка потупилась, замолкла, не сказав ничего. Потом косо, пугливо взглянула на боярина, поправила пеленку, снова тоненько стала петь:
Aю, аюшки, аши-и, Iо три денежки ерши-и, Aрши ма-а-ленькии!
Eостова-атенькии!
– Дороги ерши-то у тебя! – вновь повторил боярин.
Девка мотнула головой, как отгоняя муху, заговорила с маленьким:
– Спи, спи, матка придет, молочка даст! А у нашего тяти есть еще и не таки сапоги… Вот! – протараторила она себе под нос и снова запела:
Aю, аюшки, аши, Iо три денежки ерши…
Iе зная, что еще сказать, боярин умолк. Девка пела свою нелепую песенку, уже не обращая на него никакого внимания, словно он не просто чужой, а какой-то совсем из другого мира.
К первой выти воротились мужики: хозяин с двумя сыновьями, да свои холопы, да ключник – обсели весь стол. Перед боярином хозяйка поставила, обтерев полотенцем, медную братину. (Дома он ел из серебряной…) Подала кашу, вяленых на солнце окуней, молока да пареную репу, что была накладена горкой прямо на стол. Хлеба отрезала понемногу, и соль хозяева брали с бережением.
– Мяса-то нынце нет, не обессудь, батюшко! Старо концилось, а новой никакой скотины не забивали.
– Не журись, – возразил хозяин. – Знают наше житье! – разломив окуня, он начал крепко жевать, сосредоточенно глядя в стол.
Кашу брали ложками по очереди. Насытив первый голод, хозяин откачнулся слегка, помотал головой, видя, что жонка взялась за крынку.
– Мне квасу налей! – Выпил, отер бороду, сказал:
– Медведи одолели, беда!
– Медведи?
– Овес травят. Даве в той деревенки корову задрал. Петро, пастух, сгонил его, а весь бок у коровы выеден. Хорошая корова была.
Не успели убрать со стола, как верхом, охлюпкой, прискакал десятидворский староста. С ним в избу зашли еще несколько мужиков, покрестились на икону, поздоровались, расселись по лавкам. Старосту и еще одного мужика хозяйка пригласила к столу, другие отказались. Староста жевал, приглядываясь к боярину, медля начать трудный разговор. Запил квасом, произнес наконец с расстановкой:
– Слыхали мы, разбили наших на Шелони!
Иван Кузьмин молча склонил голову. Мужики тотчас задвигались, поталкивая друг друга.
– Теперича как же? Великий князь Новгород зайдет, коли…
Вопросительные лица уставились на боярина.
– От нас тоже угнали двоих мужиков, а не слышно назад-то! – поддакнул хозяин.
– Как же быть? – спросил староста. – Князю черный бор беспременно платить, и свои налоги не сбавят, а лето ишь како! Где под лесом еще уродило, а на угорьях сгорело поцитай все.
Тут все мужики заговорили разом:
– Как же так, оборонить не замогли?
– Не нать тогда и воевать было!
Иван Кузьмин сопел, чувствуя в настырности мужиков сторожкую недоброту и не зная, как ответить.
– Что баяли, будто литовский король оборонит? Не замог? – спросил дед.
– Болтали еще, в латынскую веру загонять нас будут!
– Лжа! – возмутился Кузьмин. – Сам договор знаю! Не было того! И в договоре сказано, чтоб вера была своя, и князь православной на Городце!
Кто и баял непотребное?
– А захожий монашек тут один толковал… – нехотя ответил мужик.
– Дак что ж тогды с королем али не сговорили цего? – настырничал дед.
– Ему до нас дела нет! – подал голос другой мужик. И опять все, вопрошая, уставились на боярина, всерьез, без улыбок.
Опустив глаза, Иван Кузьмич увидел, что все миски хозяйка уже прибрала, осталась одна его, медная, и от того, что он один сидит над блестящей, дорогой для этой избы посудой, ему стало совсем неудобно. Что отвечать, он не знал. «Не возьмут Новгород – а зачем сам я тогда сюда прискакал? Поможет король – а что же не помог вовремя?» Да и поможет ли? И куда уйти от этих вопрошающих взглядов мужиков, которые сейчас смотрели хоть и без злобы, но так, как прежде не посмотрели бы: мол, нужен ли ты нам? – почти читалось в сосредоточенных, сожженных солнцем лицах.
Вековой порядок – мужик внизу, боярин наверху – был подорван давишним разгромом.
– Москва одолеет, Двина да и ваши земли московским боярам отойдут! трудно сказал Кузьмин.
– Мы-то не на Двины живем! – зашумели мужики.
– Дак и им тогда зорить без толку будет какая выгода? – возразил староста.
– А уж с нас, будь не во гнев, и ты возьмешь, не помилуешь. Год-то нынце тяжелый!
После, выйдя во двор, Иван Кузьмич подозвал ключника:
– Как думаешь: не выдадут?
– А пес их знает! Не должно бы, слыхал, сами боятце приезду москвичей. А выдать нас им на свою же голову.
(«А ты не выдашь ли? – вдруг подумалось Кузьмину. – Нет, и тебе без выгоды, пожалуй!») Юрко охаживал девку. Та вся светилась на Юрия. Никогда не видала таких: шелковая рубаха, сапоги, речь господская… Застав их вечером вдвоем у крыльца и поймав злой взгляд соседского парня, Кузьмин решил пристрожить сына:
– Подь сюды, кому говорю!
Юрко шало глянул на отца, лениво подошел.
– Намнут шею!
– Чего, эти-то? – удивился сын. – Да не посмеют, ни в жисть!
Глазом повел – девка послушно стрельнула за баню. Юрко развалисто двинулся туда же… Что поделаешь с дураком!
Жизнь шла вокруг своя, не задевая их ничем и не нуждаясь в них нисколько. И он был не нужен тут, со своими тимовыми сапогами, породистым, негодным для полевой работы жеребцом, шалопаем-сыном, что, уже забыв о шелонском погроме, скуки ради крутит голову деревенской девке, которую забудет через день, воротясь в Новгород. И правы мужики: по крайности оборонить их, и того не сумели!
Вечером пришел еще мужик, в рванине, с кнутом на плече и берестяной дудою в руках – пастух. Хозяйка, извинясь, пояснила:
– Он нынце у нас постоем!
(Пастух, один на три деревни, жил по очереди в каждой избе.) В то же время вполголоса она зло бранила девку, даже курвой назвала верно, из-за Юрия, подумал Иван Кузьмин.
Опять отдельно кормила его с Юрием, и вместе – всех остальных. Пастух был в подпитии, угостился на крестинах. Шумел, ликовал, потея от еды. Он ложкой хлебал простоквашу, накрошив в нее хлеба, похваливал:
– Знает, хозяюшка, знает, что люблю! Кислого молока мне еще, еще добавь! Эх, любая ты до меня, хозяюшка! Я ведь, а я же… Эх! Кабы не медведи… Он ить быка драть почал, бык ревит, землю роет, я к нему с кнутом! Один побег, а другой о ту пору уже на Машке сидит, уж бок ей рвет, а Машка-то молцит, дура! Поверишь, Онисимыч, сам плакал, слезами плакал!
Нет, веришь? – Пастух поворачивал потное лицо, с измазанною простоквашей бородой, то к одному, то к другому, и вправду заплакал вдруг, приговаривая:
– Я на его с кнутом, кнутом его меж глаз, Михайлу-то, Иваныча! А он ревит, кровь-то чует, не уходит! Насилу, насилу уж… Пастух положил голову на стол, всхлипнул, примолк. Успокоившись, вновь принялся за простоквашу. – Я ли не пасу?! – воскликнул он, погодя. Хозяйка, ты вот до меня добра! А Онуфриха ругатца, все ругатца она на меня! На Сенькины горки, грит, не гоняшь! А куда нонце гонять тамо?
Посохло все! Я по кустам, по чащобе – больше насбирают. Когды мои коровы без молока приходили?! Ты, говорит, лодырь, даром хлеб ешь! Онисимыч, Митревна! – выкрикнул он со слезой. – Рассудите! Вот при боярине! Обижат она меня! Ведь ни за что обижат!
– Она така и есть! – подтвердила хозяйка. – В черкву придет – первая, после попа!
«И тут своя Марфа!» – с внезапной, удивившей его самого неприязнью подумал Иван Кузьмин.
Ночью беспокоились кони, ключник не раз вставал, выходил успокаивать разшумевшегося жеребца. Хозяин бормотал спросонья:
– Хорь, должно! Нынце хори одолели, лезут и лезут, кур душат. Собака уж двух порвала…
Утром снова мужики ушли на покос, и снова боярин сидел без дела, не зная, куда себя ткнуть. Обидные речи сельского старосты все не шли у него из головы. И хозяин тоже смотрел, чуялось, как и староста: господа вы, а до часу – чья сила, тот и господин!
На третий или четвертый день он услышал ненароком, как мальчишки скачут по солнцепеку, дурашливо закликая отсутствующий дождь:
Aояро бежало, A… растоптало!
Aождик, дождик, перестань, ? поеду на Йордань…
– Это у их присловья такая! – пояснил невесть откуда взявшийся дед.
– Малые, цего с их взеть!
Круто поворотясь, Кузьмин поскорее убрался в избу.
Aояро бежало, A… растоптало! -
Eетел за ним ликующий голос мальчонки.








