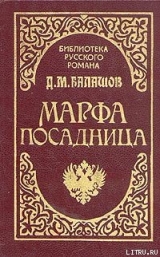
Текст книги "Марфа-посадница"
Автор книги: Дмитрий Балашов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Глава 22
Марфа Борецкая пробыла на севере, на Двине и в Поморье, почти два года. Приехала на Двину к головешкам. Боярщины разгромлены, люди разбежались или числили себя за великим князем. Все надо было начинать сызнова, сначала. И она начала сначала. И уже не так, как в молодости, не до красоты было, не до песен, не до пиров. Чуть что – звенели мечи. Сама усмиряла бунтующие деревни, казнила и вешала сама (в Золотице пришлось пойти и на такое). Скрестив руки, стояла при казни, смотрела, как дергаются повешенные тела, не отворачиваясь. В глазах был казненный Дмитрий.
Московский князь был далеко, занят делами ордынскими, женитьбой, строительством. Вятчане да устюжане, после победы, поусердствовали.
Грабили правого и виноватого,заставили призадуматься и двинян-перебежчиков. В своих боярщинах Марфа навела строгий порядок и, не считаясь, помогала всем, лишь бы работали. Рубила избы погорельцам, раздавала коней и коров из захваченных стад, оделяла солью под будущие когда поправятся – уловы семги, сельди, палтуса и трески. Показывала бабам, особенно из пришлых, как запаривать молодые еловые побеги скоту на корм, учила, как коров и овец подкармливать яголью, что собирают для оленей. Сумела, заставила, добилась: в первую же весну распахали всю землю, что было, хоть и не хватало рук, коней, сох, сбруи, семян.
Холопы-дружинники валились с ног от устали. Тут же паши, тут же, выпрягши и оседлав коня, скачи в набег, а с набега опять на пашню, не передохнув пахать, боронить, сеять. Но знали – за Марфой Ивановной не пропадет. Ела с холопами, с дружиной, сама во главе стола. Не сдерживая соленых шуток, подчас и усмехаясь смелому слову. Не видали, когда спала. Силы брались на удивление мужикам. И памятлива – вины не простит и выслуги не забудет.
Награждала так, что никто не был в обиде. И густели подымавшиеся деревни Борецкой, тучнели стада, начинали румяниться изголодавшиеся за зиму, осунувшиеся лица.
Не одна Борецкая, почитай, все «двиняне» – владельцы волосток на Двине – усердствовали в своих северных вотчинах. Это тем, у кого вотчины под боком – славлянам иным, или Захарье Овину, можно сидеть в Новом Городе. У него-то все волости не далее Бежецкой или Водской сотен. А тут потеряй Двину, Мезень да Вагу, откуда потекут меха, соль, рыба, хлеб, серебро? А серебра нынче надо немало! Выплаты тяжкие, да черный бор берут по волостям. И не возразишь, и не спихнешь, как бывало, княжьих черноборцев со своих земель. А Иван хочет и корову забить, и молоко доить: отобрав Двину, прежние дани-выходы брать с Господина Великого Новгорода!
Да ведь не из золотой горы черпаем, на торговле заморской да на землях северных, неоглядных, откуда и меха, и иное добро, стоит Новгород! Отбери одно да прикрой другое – и захиреет гордый город, уже не щитом порубежных земель, не серебряной рекой из замория, а бедной окраиной, что и оборонить нечем и незачем, да болотами непроходимыми, неродимыми обернется северная лесная земля. Но до того еще много дел, и еще долго времени, лет поболе ста. Правнуки да праправнуки, позабывшие славу прадедов своих, узрят тот сором. А пока и помыслить о нем нелепо. Еще могуч, еще богат Господин Великий Новгород!
Объезжая волостки, Борецкая то и дело уряживала спорные дела о мужиках, скоте и землях то с Онаньиным, то с молодым Своеземцевым, который раньше прочих уехал на Двину и быстрее поднял хозяйство. Из Марфиных деревень к нему было перешли люди, но Иван не стал спорить с Борецкой, воротил мужиков, а Марфа обещала вернуть через год деньгами, хлебом ли или иным припасом – в чем он потратился на ее крестьян. В иных случаях она и сама принимала даровую силу, а потом тоже возвращала, по требованию владельца. Бывали у бояр новгородских на Ваге, Кокшенге, да и в устье Двины и друг с другом стычки из-за людей, стад, рыбных ловель. Но улаживались обычно сами, без суда княжого, памятуя шелонский погром. Беда общая, а тянуться в Новгород на Городец, ко княжому наместнику, не велика благостыня!
Из разоренной Новгородчины прибывали обозы с людьми, чаявшими хоть какого угла, хоть какой защиты от голодной смерти. Разведенные по избам, они в свой черед начинали работать. Было бы дело, и был бы хозяин при деле, чтобы знал, кого куда поставить, на какую работу, с кого что спросить, чтобы и даром хлеба не ел да и талан в землю не зарывал тоже!
Хорошего кузнеца не пошлешь на пашню или рыбака – коней пасти, себе дороже станет! Это Марфа умела, видела людей. Старики у нее не надрывались на такой работе, что по силам мужикам, зато плели сети, корзины, мастерили телеги, сани, упряжь, чеботарили, сеяли. Старые руки слабже, да искуснее, навыку больше в них. Молодые мужики не стояли над работой с плеточкой, сами воротили. Сила есть – работать должон! Бабы ходили за скотиной, старухи – за птицей, пряли, вязали, ткали. Плотник у нее плотничал, кузнец ковал. По силам да по душе работа – боле от человека и прибыли. На вторую весну стало уже легче. Марфа больше не ночевала в курных избах, отстраивала боярские дворы в волостках, подымались шатровые верхи пожженных церквей. И уже не одни подковы да гвозди – узорные накладки на двери мастерили кузнецы, загибали рогами железное кружево, завивали раскаленные граненые пруты и из витого уже гнули кольца дверные, стоянцы, светцы. Морозом покрывали жестяные оковки к сундукам, медники узорными бляхами испестряли сбрую. Топор, тесло и долота в руках плотников начинали творить чудеса, густою перевитью узорочья со звериными и змеиными головами, хвостатыми девами и девами-птицами окутывались вереи, столбы, причелины, деревянные полотенца и балясины оперенных крылец.
Конечно, старого было не воротить. Что стало князево, того уж трогать стереглись. Потишела жизнь двинская, приумолкли скоморохи-игрецы. А все же хозяйство направлялось. Можно было уже дать роздых рукам и сердцу, что порою начинало заходиться, сложить на плечи ключников и посельских ношу мелких дел. Уже полные обозы с зерном, салом морского зверя, скорой, кожей, солью, рыбой потянулись горой и водой, – по рекам и посуху, – в Новый Город, на торг и в амбары. Уже, почитай, можно было и возвращаться назад, под сень златоверхого терема.
Вести из Новгорода были смутные. Встречаясь друг с другом, бояре зло отводили душу:
– За митрополита Григория литовского нас громил, а сам на ком женился? На униатке! Теперь везет латынского легатоса на Москву, никто ему не зазрит!
Пустая была злость, пустые речи. Хорошо, хоть занят, рук не хватает до Двины дотянуться. Ругались и на то, что Иван под себя Пермскую землю взял. А тоже, что Колопермь поминать, коли Двины оборонить не замогли!
На вторую зиму Иван поход на немцев затеял. Новгородская рать с Фомою Андреичем, со Славны, ходила на помочь. Опять ругались: и немцев не побили – в распуту угодили как раз, а волости Новгородской от прохожденья московского опять тяжко пришлось. Всем в городе, по слухам, заправляли славляне. Кто раньше сидел да ждал, как что повернется, стали у князя в чести. Пора было вмешаться, не то и без войны город продадут! Да и Федор сильно тревожил Борецкую – как еще управляет один?
За два года лишь однажды дала себе Марфа на час краткий роздых, когда ездила по делам к Ивану Своеземцеву. Вдруг, сама не чая с чего, отослала посельского и одна поднялась на приметный угор над речной излукой. Трудно узналось место. Церковь та, белоснежная, давно потемнела, да и огорела краем в нынешнюю войну. И дали были не те. Где вырубили и распахали новину, где не стало деревень или отстроились на ином месте. И все будто выцвело, потускнело. Разве плывущие по холодному небу белые облака не изменились с тех пор. Ах, она же была молода – не те глаза, сердце не то уже, не те краски! А все ж где то место? Должно, тут! Она помедлила на обрыве, отступила и – как почуяла, тут! Ели стали высокими, пото и не признала враз. Ящерка юркнула из-под ног и скрылась в вереске. Тут он и стоял, Василий Степаныч, и говорил, говорил, не глядя на нее, и сердце сжималось, не как сейчас, не от устали, а радостно, по-молодому. Что же теперь осталось от того дня, от часа того? Чужая могила старца Варлаама в Важском монастыре, чужой сын в боярском дому Своеземцевых. И не к кому прислониться на миг, закрыв глаза, некого вопросить с мольбою:
«Что же сталось с нами, Василий? Как нам подняться вновь?»
Внизу ждал слуга с конями. Марфа ездила не в возке, а в люльке, о-двуконь: конь впереди, конь сзади, так было способнее по тропам, по лесу. Когда надо, могла и по-мужски, верхом. Слуга ждал, ждал отосланный посельский. В селах стучали топоры, ладились сохи, конопатились и смолились лодьи, и все и вся ждало ее приказаний. И никто не ведал, что трудно, когда уже более полвека прожито, зачинать все это снова и опять. И холоп тот, внизу, не увидит лица боярыни, того, что видят сейчас облака, плывущие к югу, того, что так и не увидел тот, покойный, что говорил, не оборачиваясь к ней, на этом самом месте о судьбах страны, о Боге и бедах народных много, много лет тому назад!
За два года наладились двинские и важское хозяйства, и поморские села поднялись. И на Терьском берегу ладилось, куда, к счастью, москвичи не доходили, и на Летнем, и на Поморском, и на Выге, Суме, Нюхче, и в Обонежье. И уже можно было ворочаться в Новгород, строжить Федора, собирать друзей. После Святок Марфа воротилась домой.
Новгород почти отстроился. Кое-где лишь глаз подмечал: вон в том монастырьке церква была – шатровый верх, а теперь срублена клетью, на абы как. Там ограда стояла из тесовых плах, резная, а нонь плохонький частокол. Здесь, будто, терем был попышнее… В деревнях, по пути, гораздо хуже, иные и запустошены в конец. Подъехали с торговой стороны, от Рождества на Поле. Рогатицкими воротами. Мимо Святого Ипатия, вдоль по улице, к торгу, к Святому Ивану на Опоках. Все знакомое, а гляделось будто внове. Усмехалась своему, кутая лицо постаревшее (сама знала!), в морщинах в темный плат, озирала Марфа родной Новгород. Возок проминовал Славну, торг, кони вылетели на оснеженный Волхов, и уже впереди только и виделось одно – свой терем на горе. Как-то там?
Дом начинается с ворот. Вроде бы краска полупилась, потемнели резные вереи, или в глазах так, все темнит после севера? Снег выпахан не чисто…
Нет, чисто, ждали! Дворня толпилась, встречая. Много новых лиц, верно, Федор набрал или Иев сам постарался. Возок окружили с поклонами. Марфа поднялась к себе. Сын встречал на крыльце, шел следом теперь. Глаза воротил
– знает, что будет разговор. Потом! Огладила по голове Олену, поцеловала Онтонину. Пиша встретила в слезах, обрадовалась неложно. От того потеплело на душе.
К трапезе прискакал Олферий с Фоврой. Марфа ласкала внучонка, Василия – подрос! Давно ли пеленала! Мельком, внимательно, заглянула в глаза снохе:
– Федор не обижает?
Та заалела, потупилась, решительно помотала головой.
– Нет!
– Ин добро. С кем он там крутит на Славне, с рыжим, с Василием Максимовым? Нашел приятеля! На вот, гостинец тебе, со Терьской стороны!
Высыпала перед снохой горсть крупного северного жемчугу с редким розовым отливом. Та просияла. Маленькому гостинцы свои – морские раковины, расшитую цветными мехами лопарскую оболочинку-малицу и сапожки из оленьей шкуры да сушеные морские звезды. Олене бросила походя:
– Замуж пора! Фовра, смотри, детей носит, остареешь в девках! Иван Савелков все не женат? – спросила невзначай, знала сама, конечно. – Думай, девка, годы-ти идут! – сказала и не стала боле слушать ни смотреть: пусть сама решает.
За трапезой расспрашивала, кто помер, заболел, женился, кто у кого народился. Ненароком вызнала у Олферия, что делается на Славне.
Новое было лицо у Марфы. Уже не сказать, что красавица, что годы не берут
– то все ушло. Морщины легли, но от них лицо не одрябло, а стало сурово и решительно. Глаза – светлее, словно промытые северными снегами.
Резче сказывалась властность в движениях твердых рук, в голосе, словно все прочее выжгло теперь или отгорело само. Дел городских касалась слегка.
– Степенной Федор Глазоемец? – спросила, усмехнулась, а так, словно, не кончай в феврале славенский посадник свой срок, не усидеть бы ему и на степени.
«Ой ли, хватит ли сил нынче?» – подумал Олферий. Теща не помягчела и, видно, знать не хочет, кто нынь в силе в Новгороде. Или знает?
Легко так, между делом, сказала, взглянув на Федора:
– Березовец опять грабили москвичи? – И вновь усмехнулась недобро.
Удалясь после трапезы, позвала Пишу.
– Сказывай, старая, как тута без меня?
Вполуха выслушала мелкие дела, домашние заботы Пишины, перебила:
– Слыхала, и вы тут великого князя с молодой женой поздравляли?
Пиша в радостях, что боярыня полюбопытствовала о том, о чем лонись судачил весь Новгород, зарассказывала о византийской царевне:
– Красавица! Пышная вся, белая такая, уста алые, цто купциха московська, право!
– Ты-то цему рада? – с усмешкой осадила ее Марфа. Помолчала, выронила:
– Цареградску перину себе достал князь Иван! Теперь царем величать себя прикажет! Ну, говори, говори! Сбила я тебя, не обессудь…
Мылась в бане. Как прежде, мятой и богородской травой пахнул густой банный дух. Вечером приняла ключника. Слушала молча, пытливо разглядывая Иева. Грамотки приняла небрежно.
– Оставь, проверю. И погляжу сама, сколь цего в анбарах у тебя. Людей сам напринимал али Федор?
– Федор Исакович сам тем мало займуетце. Все в делах градских.
– Хорошо, иди!
Федора вызвала перед сном.
– Ну, сказывай! Со Славной повелся нонь?
Федор объяснял сбивчиво, горячась, словно оправдывался перед матерью, что без Славны силы не хватит, все одно. Нужно вместе, всем городом, пото он и дружит со славлянами! И вроде было не глупо, да ведь все одно ни с Глазоемцевыми, ни с Полинарьиными, ни с Фомой Курятником, ни с Исаком Семенычем, ни со Слизнем, ни с Норовом, ни с Кириллой Голым не сдружился.
А Василий Максимов – не велика благостыня… Да и все одно Максимов еще не Славна! А кто больше-то? Немир с Олферием? Дак те и были свои!
Тоже слушала молча, не прерывала, как и ключника. Вздохнула только под конец:
– С Савелковым бы тебе, с Никитой Есиповым. Эти не продадут! А рыжий-от, Василий Максимов твой, темный он какой-то! Смотри, не прогадай, Федор. Митя с им дела не имел… – Усмехнулась, видя налитое упрямством лицо младшего сына. – Губу дуешь? Один ты у меня, Федя, головы терять не след! Да и славлянам нынь верить… А вредит вам кто тамо? Назар, подвойский, говоришь? Что-то про его баяли мне. Он тоже к Денису ходит, надоть Гришу Тучина спросить об ем! Ну, иди. Помолись на ночь, со злобой день не кончай. Друзей надо наживать, Федор, а такие-то, как Василий Максимов твой, в беде помогут
– ой ли!
В горнице прохладно. Жары в изложнице не любила Марфа. От лампадного огонька чуть колеблется тьма. Спит боярыня Марфа Ивановна Борецкая под собольим одеялом. Иногда застонет впроснях. Верная Пиша подымется – нет, спит государыня Марфа, привиделось что, верно. Задремывает Пиша. С государыней Марфой сразу спокойнее стало. Есть кому приказать. Теперь и девки сенные поостерегутся на Пишины указы недовольничать. Не от себя, от Марфы Ивановны имени и выбранить способнее, и похвалить знатнее. Спит Марфа. Всего-то отдыху у боярыни одна ночь. Завтра дела, и свои, и городские, и московские. И все сама, одна, младший сын не помога. Иные смотрят, на нее опереться. Лишь ей одной не на кого. На Бога да на себя.
Капа должна бы в первый день пожаловать. Две улицы перейти, велик ли труд! Ради Дмитрия переломила себя Марфа, пошла назавтра сама, первая.
Понесла гостинцы. Доброй бабушкой ступила в терем Якова Короба. Яков залебезил – не ждал, не чаял, мол! Не чаял… Капа тоже низила глаза. Худо ли жилось у свекровы? Ваня, маленький, застеснялся было. До чего похож на Митю! Сердце защемило враз.
– Иди, Ванятка, сюда, баба Марфа станет сказку сказывать!
Подошел, не забыл все же.
– Каку тебе, стару, нову?
– Баран, золоты рога!
Вспомнил! Маленькому все говорила. Посадив на колени, Марфа начала:
– Жили-были дедо да баба. Детей у них не было никого. Вот и задумали: давай слепим из глины паренька! И слепили, и он заходил, засмотрел. Ходит и ходит. Вот раз дедко ушел в лес, дров сечцы, а бабка сидит, прядет, паренька глиняного послала за клубом. А Глиняшка етот входит: «Бабка, бабка, ты цто знаешь?» – «А цто мне знать?» – «А я съел клуб с веретешком, семь печей калачей, семь печей хлебов, семь печей мякушек, быка-третьяка и тебя, бабку с прялкой, съем!» – Хам! И съел. И пошел по дорожке. И идет дедко навстречу, с топорком…
Ванятка прыгал на коленях, подсказывал:
– И девку с ушатом съел!
– Да, и дедка и девку. И идет жонка с коромыслом. «Жонка, жонка, ты цто знаешь?» – «А цто мне-ка знать?» – «А я съел клуб с веретешком, семь печей калачей, семь печей хлебов, семь печей мякушек, быка-третьяка, бабку с прялкой, дедка с топорком, девку с ушатом, и тебя, жонка с коромыслом, съем!» – Хам! И съел.
– И идет баран, золоты рога! – торопил Ванятка.
– Погоди, не вдруг! И идут семь косцей с косами. Ну, говори сам!
– «Косцы, косцы, вы цего знаете? А я съел семь пецей калацей, семь пецей хлебов, семь пецей мякушек, быка-третьяка, бабку с прялкой, дедка с топорком, девку с ушатом, жонку с коромыслом, и вас, косцей с косами, съем!»
– Хам! И съел! – закричал Ванятка, ликуя. – И теперь баран!
– Да, всех поел, как великий князь Московский! – отозвалась Марфа. И идет навстречу ему баран, золоты рога. А баран-то и говорит: «Как ты меня будешь исть? Ты стань под горку, а я на горку. Рот-от открой, а глаза закрой. Я разбежусь да тебе прямо в рот и заскочу». Глиняшка стал, а баран разбежался, да в брюхо-то ему и ударил, рогами-то. Глиняшка и рассыпался…
– И все побежали! – воскликнул Ванятка. Глазенки блестят, нравилось, что спаслись, и не пропал ни который.
– Да, и все выбежали, и все запели:
Nпасибо те, баран, золотые рога!
Nпасибо те, баран, золотые рога!
Aосказав сказку, Марфа ласково поерошила Ванятке волосы. От внука не хотелось уходить. Снохе сказала просто:
– Приходи, Капа! Завсегда рады, не обижай!
Ванятка тут же уцепился за подол – не отпускать. Капа осторожно обняла сына, отводя ручонки:
– Ты пусти бабу, ты скажи: баба Марфа, к нам гости!
– Баба Марфа, гости к нам! – закричал Ванятка.
– Ладно, малыш. – Марфа расчувствовалась, расстроилась даже.
К самому Коробу, на его половину, зашла уже не такая. Будто просто навестить. Не была давно, сказал бы, что деется. Про московские дела выслушала молча, покивала головой. Глядя в мягкие, осторожные Коробовы глаза, спросила:
– Ну и как? Сдружились? Слыхала, совсем суд забирают городищенские у вас?!
Короб смешался.
– Марфа Ивановна, давно ты не была в Новом Городе! Времена-ить уже не те. Многие и обижены, и откачнулись после Шелони-то…
– Видала. Знаю. Дмитрия на борони потеряла, где Василий твой рать новгородскую… Прости, может, не то слово, не так молвила, а все мы в обиде, и все в ответе! И твое дело, и Казимерово – не сторона. Ну, прощай.
Капу-то отпущай иногда. Мити нет – на внука поглядеть!
После сама себя укоряла, что не сдержалась. Да и то сказать, о чем думают только? Перед Пишей, наедине, изливала душу:
– Слыхала я, как служат князю Московскому! И страшно, и грозно, а боле того страшно! Не знать – пожалуют, не знать – казнят! Это теперь он еще ликуется с ними, а всю волость под себя заберет – ужо и им, что нам, будет! Пока сила есть, – отбитьце, а силы нет, – и золото не помога!
Марфа с того посещенья словно бы ушла в дела хозяйственные. Но как-то побывала у Офонаса. Посидели мирно, двое стариков, помолчали о прошлом.
Ненароком лишь спросила, кого с февраля степенным думают выбирать.
– Фому Андреича? Курятника? – переспросила она с чуть приметною насмешкой.
– Да уж, курятник он и есть, хорь-курятник! – ворчливо отозвался Офонас Груз.
– За то, что отличился перед князем Иваном, рать ко Пскову водил… раздумчиво протянула Марфа. – Лучше бы уж Луку вашего!
– Лука…
– Или Феофилата!
Офонас повел глазом, пожевал, подумал:
– А ты, Марфа, хитра-мудра по-прежнему. Почто бы?! Феофилат извилист, а все нашей стороны!
Были и еще разговоры, споры, речи и пересылки, жалобы аж до Москвы, а вышло по-Марфиному, выбрали степенным Феофилата Захарьинича, Филата Скупого, Порочку – как прозывали все прижимистого, хитроглазого загородского посадника.
Будто не заботилась о том, а дом опять стал наполняться. Зачастил Савелков. Григорий Тучин появился было, сочувствие выразить, и так просто, по-матерински встретила его Марфа Ивановна, так невзначай напомнила о совместных делах двинских, что и еще пришел, и еще, и еще.
Об убитом Борецкая не напоминала. Не было в ней такого, что печалит и отпугивает молодежь. И смех зазвучал в доме, и быстрая речь, и замыслы пошли новые, нешуточные. Да и то сказать! Повзрослели вчерашние юноши.
Кого и состарила Шелонь!
Пришли бояра, а за ними потянулись и житьи, что были вчерашними сотоварищами Дмитрия Борецкого. Обрастал людьми златоверхий терем на горе.
Вновь собирались «у Марфы», или «у Борецких». Как-то так умела сделать она, что и без Дмитрия не опустел дом, не стало страшно взойти, как бывает: года идут, а словно гроб с покойным стоит в соседней горнице. И тут сумела, и тут смогла переломить себя. Даже платье черное, вдовье, сменила на другое. Не ярко, как встарь, но богато и для глаза не печально: по темно-синему просверкнет серебро, на густом, почти черном винно-красном бархате – золотые парчовые цветы. Плат и темный, но – далекой Индийской земли узорочья, черный повойник – в голубых жемчугах.
И старики вновь запоезжали к Марфе Борецкой. Богдан обрадовал. Как встретились после Двины, так словно и не расставались вовсе. Все тот же был Богдан, не сломило его ничто, не состарило. И словно даже ближе стал как-то.
Раз наедине, из-под мохнатых бровей своих глядючи остро, примолвил:
– Теперь мы с тобою, Марфа, вроде, крестники! Мой-то тоже от московских князей… Под Русой тогда…
Потупился. Семнадцать лет прошло, как погиб в бою под Русой Офонас Богданович, а для старика – все вчера еще. Перемолчали оба. Богдан поднял глаза, улыбнулся, сморщил нос:
– Внуки-то растут? Видал Ванятку твоего, был у Короба, шустрый, видал!
И больше о том речи не было, а почуяли оба: друг с другом – до конца.
От Богдана Марфа вызнал и о делах Федора. Расспрашивала при Богдане тоже ненароком, сидел вместе за столом, – Григория Тучина. Спросила и про Назария. Тучин нахмурился, подумал – рассказать ли? Он продолжал встречаться с Назарием у попа Дениса, и нет-нет, тот рассказывал ему свои убеждения, почерпнутые им из древних летописей и из наблюдений за рубежом – о единстве всего языка русского. На вопросы Марфы Тучин медлил отвечать.
Думал, не предаст ли он подвойского? А тут выручил Богдан, рассказал то, чего и не знал Тучин, а знай – не придал бы, верно, значения. По себе считал, что личное в делах больших для мужика не так важно, чтобы от того убежденья ли, поступки менять. Богдан же всегда знал все про всех.
– Он к дочке Норовых подсватывался, – объяснил Богдан. – Да и то сказать, росли вместях! Парень-то видный, и умен, бывал в чужих землях, а – не родовит. Родион ее за Василья Максимова сына давал. Девке двадцать два, тому
– шестнадцать лет, молоко на губах! Ну, заупрямилась, тоже с норовом, видать. В монастырь ушла. А теперь Назар Василию Максимову враг первый. Да и то промолвить: рыжий-то, Максимов, увертлив больно, скользок, что налим, чего у него на уме, не поймешь! А Назар со зла тоже на все пойти может.
Марфа приняла рассказ к сведению, более не спрашивала ничего. И Григорий был рад, хоть и чувствовал, что в чем-то обманул Борецкую.
Ладно, пускай! Думала Марфа про Василия Максимова. Брезговать не время. Славлянин, дак пригодится. Тысяцкий к тому ж. А купцов беспременно к себе надо привлечь. А Назар… Назара улестить как ни-то надоть. Может, женить. Та девка не так помниться будет!
С Онфимьей Горошковой дружили по-прежнему. Да ведь и не расставались, считай. В Обонежье встречались не раз, одна другой дела поручали. Иван Есифов, Офимьин сын, возмужал. Полюбил конную скачку. Гневался или говорил когда – загляденье. Онфимья гордилась сыном. То было за другими тянулся, тут сам стал – Горошков, Есифа Андреяновича сын! Он да Савелков. Два Ивана, да Никита Есифов и верховодили. На Прусской улице поговаривали, что на первое же освободившееся место посадничье его изберут. Оксинью, жену Никиты Есифовича, Марфа с Онфимьей приняли как равную, учили хозяйствовать.
Не удавалось сойтись с Настасьей. Борецкая не по раз бывала у нее, в богатом тереме на Городце. Ширококостная, властная, – годы, как вышла из молодок, словно перестали трогать, не поймешь, сорок ли, шестьдесят ли, гордившаяся тем, что звали за глаза славной вдовой Настасьей, она глухо ревновала к славе Борецкой. Баловала старшего сына, красавца Юрия, приговаривала: «Чудом ушел тогда с Шелони!» (Чуда-то не было, просто первый ударился в бег.) Водилась со славлянами, принимала у себя княжьих бояр московских… Так и не сговорились вдовы. Настасья и добра была до Марфы, и звала гостить, а будто говорила: у тебя – свое, у меня – свое. А тоже земли были на Двине, и потеряла немало за князем Московским. И людей имела оружных
– дружины – немало! Так и разошлись, каждая осталась во своем.
Феофилат на степени хитрил и со Славной, и с неревлянами, и с московским наместником на Городце, но пока то только и надобно было. А у Московского князя, будто с Марфина наговора, то то, то другое стало спотыкаться. Не удался тогда псковский поход. Холмский воротился, а немцы вскоре опять пакостить стали. Холмский тем часом поссорился с великим князем. Говорили, хотел в Литву уйти. Иван имал его, посадил в затворы. В мае церква пала на Москвы, новая. Успенская, – толковали, по божью запрещению. До Новгорода слухи доходили один другого диковинней. Уверяли, что и вовсе бояр оттолкнул от себя великий князь, греков навез. Ожидали, что едва Софья родит дитя, Иван рассорится с сыном, будет замятня великая… Много чего говорили, да выходило все опять по государеву хотенью. С Холмским Иван помирился. Софья родила дочерь, спорить стало не из чего. А за зодчим в папскую землю послал великий князь. Иван был упорен, задуманного добивался.
Только в Новгороде дела шли не по воле государевой. Великий князь требовал, через наместника, чтобы степенным избрали славенского посадника, угодившего ему, Фому Андреича Курятника. Но степень занял увертливый Феофилат. Осенью степень обновлялась. Иван опять настаивал, чтобы избрали Курятника. Но осенью противники великого князя избрали на степень неревлянина, Михаила Чапиногу, свояка Казимера. Это было не совсем то, чего хотела Борецкая, и совсем не то, чего хотел Иван. Марфа недовольничала: все Казимеровы свойственники наперед, тем и берет, что родни много! Ну, хоть свои, неревляна…
А Иван ждал. Не любил на шумных пирах, в блеске огней, в кругу дружины решать судьбы государства. А в полутьме тесных особных покоев, с малым числом верных или даже один, втайне от молвы и слуха людского, обдумывал он замыслы, потрясавшие затем народы и земли. Только его наместники без конца пересылались с новгородскими боярами и архиепископом.
Новгородский владыка Феофил жаловался на своего наместника, Юрия Репехова, прилыгал, что тот сносится с королем. Доносил митрополиту, что в Новгороде умножились еретицы, с коими не боролся покойный Иона, яко древлии стригольницы учением своим соблазн сеют в великих и малых, против святыя соборныя церкви учения дерзают и богоотметные речи глаголют: хулят монастыри и мнихов за владение землею со крестьяны. О землях Феофил писал неосторожно. Великий князь читал его доносы митрополиту и запомнил про себя: земель у новгородской церкви было очень много, и земли эти были нужны, очень нужны для дворян. Следовало узнать ближе, что сии священнослужители – еретицы, не может ли от них польза проистечь государю?
Запоминая, Иван ждал. Через своих бояр и наместников он льстил одним, угрожал другим.
Новгород бурлил. Зимою новгородские молодцы в отместье за старые обиды сделали набег на псковское Гостятино. Были отбиты с уроном. Он ждал.
В феврале должны были выбрать степенным, наконец, славенского воеводу, Фому Андреича. Новгородцы избрали Богдана Есипова.
Степан Брадатый и некоторые из воевод подсказывали новый поход. Для войны, однако, было не время. Война могла сплотить новгородских бояр, а следовало разделить их, поссорить друг с другом. У Ивана был свой замысел.
***
Через полгода по возвращении Борецкая вновь почувствовала силу.
Вновь, по ее наущению, стали собираться житьи, купцы. Зашумели вечевые сходки по концам, по улицам. Что Федор Борецкий плел с одним-двумя сотоварищами, то Марфа умела поднять с целым городом. Расшевелила житьих, купцов, черный народ. Сама не по раз бывала в вощинном братстве купеческом, пугала Москвой. Тут и сами знали, что Москвы опасаться надобно, но Шелонь крепко помнилась, не давала прежней веры в успех. И речи велись такие:
– Теперь, етто, ежели гостебное москвичи станут брать, мытное они же с немецкого двора, дак тогда тебе товар не позволят самому в Любек возить, без московских приставов! Оставят ли старост еще, а уж тиунской печати лишиться придет!
– Сурожана задавят тогды!
– Немецкий двор, бают, совсем закрыть у нас ладятце. На Москвы чтоб все было, в одном мести.
– Неуж закроют немецкий двор?!
– Поди знай! А к тому идет! И так наместник тысяцкого суд ладит себе забрать!
– Закроют двор в Новом Городе, думашь, на Москвы наладят? Как не так!
Не пойдет у их немецка торговля ни в жисть!
– В едином мести как можно все собрать! Хоть бы и у нас, в Новом Городи! Кафинску торговлю мы бы беспременно потеряли.
– Мы-то?!
– Да хоть и мы! Повезешь ты из-за ста земель? По Дону, да по Волге, да посуху? Скорей через немец, варяжским морем приплавить фряжский товар!
Хоть и втридорога, а дешевше станет! Мы на немецкой торговле век стоим, все их ходы-выходы знаем, а вот дай мне Сурожский путь чист! Мне-ста как?
На Москву али еще куда к теплым странам перебиратьце! Опять возьми Нижний, Кострому…
– Мешат твоя Кострома!
– Мешать-то мешат, а и громили ее, и жгли – стоит. Ты туда не едешь, я тоже. Во всяком мести должон быть свой купечь!
– Ишь ты, куда завернул! А передерутце?
– Дак на то бы и власть едина! Хочь московська, хоть кака, по справедливости чтоб.
– Подь объясни государю Московскому! Покажут тебе на Москвы справедливость!
– Пото и ропщу. Сила есть у их, а головы не хватат. Все забрать не хитро, а сделать нать, чтобы во всяком мести дело шло!








