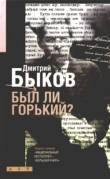Текст книги "Горький"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
15
К 1902 году авторитет Горького среди литераторов был столь высок, что его – после всего шести лет литературной деятельности – избрали почетным академиком Академии российской словесности, но Николай II не утвердил этого назначения, начертав резолюцию: «Более чем оригинально». В знак протеста из состава академии немедленно вышли Чехов и Короленко. Солидаризироваться с Горьким, дружить с ним, заступаться за него стало престижно – к нему потянулась вся молодая литература: Елеонов, Юшкевич, Скиталец, Гусев-Оренбургский, Куприн, посвятивший ему «Поединок», и десятки других, чьих имен сегодня никто не вспомнит. Их иронически называли «подмаксимками», словцо это пошло с шаржа Кока (Фидели), опубликованного в сатирической «Искре» в 1903 году. И они в самом деле подражали Горькому во всем – в манере носить усы, длинные волосы, широкие шляпы, в резкости и подчеркнутой грубоватости манер, даже в волжском оканье, которое и у Горького смотрелось довольно искусственно. Однако более модного течения, чем социальный реализм, и более популярного издательства, чем «Знание», в девятисотые годы в самом деле не было: понадобилась неудача первой русской революции, чтобы в литературе пышно расцвел декаданс, а социальный реализм несколько потеснился. Но и тогда «знаньевцы» не сдавали позиций, неизменно привлекая читательский интерес.
Горький читал, правил, доводил до издания сотни рукописей, проявив себя недюжинным организатором литературного процесса: в это время началась его титаническая редакторская работа, сопровождавшаяся написанием десятков писем-рецензий в день. Можно сказать, что это было следствием некоего собственного творческого кризиса – мол, оказался в тупике и занялся устройством чужих судеб, – но неверно и это: в 1903–1905 годах он пишет не меньше, чем раньше. Удивительно, что голова у него не закружилась, самомнения не прибавилось – разве что в статье «Заметки о мещанстве» 1905 года он позволил себе резкий отзыв о Достоевском и Толстом, приписав им болезненный интерес к страданию и неспособность изменить мир, и его основательно высекли за это либеральные публицисты, – но он ведь и раньше позволял себе спорить с Толстым лично и никогда не отличался преклонением перед авторитетами.
По-настоящему в его жизни изменилось одно: он сошелся с Марией Федоровной Андреевой, ведущей актрисой МХТ, и расстался с первой женой, с которой сохранил самые дружеские отношения. Андреева (в девичестве Юрковская, по мужу Желябужская) была признанной красавицей и, что немаловажно, убежденной марксисткой: у тогдашних красавиц это было модно. Но увлечения Андреевой далеко заходили за пределы обычной моды: для нее партийная работа была, пожалуй, еще и поважнее сценической. Залучить Горького в свои ряды мечтали многие – особенно после 1905 года, когда в России появились легальные партии; но РСДРП расстаралась раньше других. Любовь к Андреевой была, конечно, не главным, но важным фактором в его эволюции: в 1904–1905 годах он все отчетливее дрейфует в сторону партии Ленина, хотя до личного знакомства дело пока не доходит. В эти годы он одну за другой пишет прославившие его пьесы: «Дачники», «Дети солнца», «Враги». Задушевнейшим его другом становится Шаляпин – оба много смеются тому, что жили на Волге в юности бок о бок, да так и не познакомились. Более того: в один день и час ходили наниматься в хор Казанского оперного театра. Горького приняли, Шаляпина – нет. Между Горьким и Шаляпиным существовала особенно безоблачная дружба – они-то друг другу никак не были конкурентами.
Что до отношений Горького с Андреевой, они с самого начала были непросты – здесь у него было многовато соперников, он не привык к этой ситуации. Бытовали даже версии, будто Андреева сошлась с Горьким по партийному поручению, – глупость, каких мало; в романе ведущей актрисы с модным драматургом нет ничего необычного, но роман этот с самого начала сопровождался сплетнями и кривотолками, да вдобавок в Андрееву был страстно влюблен богатейший купец Савва Морозов, из тех купцов, о которых так долго мечтала русская интеллигенция. В нем не было ничего от широкого, звероватого волгаря с его сытостью, жестокостью и благочестием: Морозов был стремительный, резкий, необыкновенно умный и жадный до нового знания человек, страдавший, однако, продолжительными депрессиями, одна из которых и привела его к самоубийству. С Горьким они были знакомы еще по Всероссийской выставке.
Впоследствии, когда Морозов был коммерческим директором МХТ и со всей страстью мецената обустраивал этот лучший в России театр, они встречались регулярно – Горького поражала в Морозове его самоубийственная и, во всяком случае, нелогичная страсть к революционным теориям, уверенность, что только революция способна пробудить Россию и европеизировать ее. Сам он был далеко не столь радикален. Морозов много жертвовал на партию. Горький хотя и располагал куда меньшими средствами, помогал РСДРП столь же регулярно.
16
Первая русская революция, грянувшая в 1905 году, окончательно превратила Горького в писателя политического и, более того, партийного. Как ни грустно, именно это оказалось причиной его будущей катастрофы, первые предвестия которой он ощутил уже в десятые годы, когда слава его резко пошла на убыль. Он впервые почувствовал лихорадку сегодняшнего, сиюминутного, живого делания жизни, участия в рискованной и непредсказуемой борьбе – об этом он подробно рассказал в очерке «9 января». Это лихорадочное возбуждение причастности к мировым судьбам чувствуется там необыкновенно остро – и всякому интеллигенту, пережившему в России 1991 и 1993 годы, оно прекрасно известно. Горький был хорошо знаком с Гапоном, о его провокаторстве, естественно, не догадывался и даже в страшном сне не представлял, что мирная демонстрация закончится расстрелом. Рабочие шли к Зимнему с весьма умеренной петицией, сводившейся к экономическим требованиям, – с 3 января бастовал Путиловский завод, началась всеобщая стачка, пошел слух о ее вооруженном подавлении. На улицах появились войска. Министр внутренних дел Витте принял общественную депутацию, Горький был в ней и предупредил министра, что если на улицах прольется кровь, правительство за это дорого заплатит. Он мог себе позволить такое заявление, несмотря на всю жесткость Витте: за этой жесткостью он слышал неуверенность, ту самую «усталость грома», о которой писал в «Буревестнике». В том-то и дело, что моральной правоты, необходимой для масштабных репрессий, российская власть за собой не чувствовала: сила еще была, уверенности уже никакой. И потому, когда 9 января мирная демонстрация была расстреляна (а Николай II, отдавший приказ стрелять, даже отдаленно не представлял себе последствий), революция в России началась немедленно – при полном одобрении европейского общественного мнения: XX век еще не успел приучить людей к силовым подавлениям и публичным расправам.
Горький сам едва не погиб 9 января: впервые на его глазах расстреливали людей. Весь день он метался по городу, а вечером написал «Обращение» – от имени комитета, ходившего на встречу к Витте; там он призвал к открытой и непримиримой борьбе с самодержавием. Жене в Нижний он отписал об этом так: «Итак – началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые – да не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью». Сразу после расстрела демонстрации, немедленно названного в народе Кровавым воскресеньем, он выезжает в Ригу, где опасно болела Андреева (у нее случился на гастролях перитонит). Характерно, что в том же письме он сообщает об этом бывшей жене и добавляет нечто весьма странное, даже и бесчеловечное: «Это грозит смертью… Но теперь все личные горести и неудачи не могут уже иметь значения, ибо – мы живем во дни пробуждения России». Каков пассаж! У самого Ленина, неизменно озабоченного здоровьем жены, мы не найдем ничего подобного.
Воззвание Горького распространилось по Петербургу стремительно, полиция сработала оперативно, в Риге его арестовали и этапировали обратно в Питер. В отдельной камере Трубецкого бастиона он пробыл месяц, пока не был выпущен под десятитысячный, гигантский по тем временам залог без права покидать столицу. Весь этот месяц шла беспрецедентная борьба за его освобождение: каждое представление его пьесы сопровождалось разбрасыванием листовок, каждый литератор считал долгом написать личное или подписать коллективное воззвание в его защиту. В заключении Горький написал пьесу «Дети солнца» – о преображении революционизированной интеллигенции. Он и не думал бежать от суда – напротив, требовал его, хотел, чтобы этот суд видела вся Европа. Дело было прекращено осенью 1905 года, во время небывалых политических послаблений.
Этой же осенью, сразу после Манифеста 17 октября, даровавшего свободу печати, слова и собраний, в Россию вернулся политэмигрант Ленин и озаботился созданием революционной газеты; уже 27 октября вышел первый номер «Новой жизни», созданной при ближайшем участии Горького. Газета была зарегистрирована на имя декадента Минского, в эти дни сильно «порозовевшего» и даже сочинявшего стихи с рефреном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» А 27 ноября Ленин и Горький встретились впервые на горьковской квартире. Эту встречу Горький запомнил плохо – у него был жар, вдобавок ему пришлось много говорить, рассказывать о похоронах Баумана, массовой демонстрации, в которую они переросли, и об уличных столкновениях; Ленин слушал с напряженным вниманием.
2 декабря «Новую жизнь» закрыли за явную и демонстративную нелояльность – манифестной свободы слова едва хватило на пять недель. Издание, впрочем, и так было обречено – в одну телегу впрячь не можно Ленина и Тэффи, однако тогдашней интеллигенции временный союз с радикалами еще казался возможным.
7 декабря Горький вернулся в Москву – и застал там полноценную всеобщую забастовку, сопровождавшуюся настоящими баррикадными уличными боями. «Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине – идет бой. Хороший бой! Гремят пушки – это началось вчера с трех часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня… Рабочие ведут себя изумительно. Вообще – идет бой по всей Москве!» – пишет он в письме редактору «Знания» К. П. Пятницкому.
Восторг его понятен: он, вечно сетовавший на всеобщую пассивность, увидел наконец живую, действующую, активную массу! Его бесят все, кто еще не выбрал, на какую сторону встать: памфлет «О Сером» – как раз о мещанине, не могущем выбрать между Красным и Черным. Горький так горит борьбой, что любой нейтралитет представляется ему гнусной трусостью. Одновременно он добывает деньги, оружие, хранит у себя на квартире бомбы и винтовки – революция захватила его всерьез. Ленин в восторге от его бурной деятельности и, как истинный политик, отлично понимает риск, которому Горький подвергается: после разгрома Московского восстания его арест казался неизбежным и партия здраво рассудила, что Горькому лучше уехать. Так началось его долгое заграничное странствие – он вернулся в Россию только в 1913 году. Всю так называемую эпоху реакции, целых семь лет, ему предстояло провести вдали от родины – привычная участь для странника, но серьезное испытание для писателя, не владевшего вдобавок ни одним иностранным языком.
17
Сначала Горького отправили в Америку для пропаганды идей русской революции и, само собой, для сбора средств на нее. Горький обрадовался предстоящему литературному турне: они поехали туда вместе с Андреевой и приданным им для сопровождения большевиком Николаем Бурениным, их давним знакомцем и частым гостем. Поездка сопровождалась оглушительным скандалом – это о нем Горький рассказывал Ленину в 1907 году при встрече в Лондоне, вызвав его оглушительный, захлебывающийся хохот. «Это хорошо, что вы умеете иронически относиться к неудачам», – сказал Ленин, и правду сказать – ситуация в самом деле была трагифарсовая. Сначала Горького встретили в Америке триумфально, восторгались его героизмом и талантом, Андреева выступала переводчицей на пресс-конференциях, и все шло отлично. Он встретился с Марком Твеном, на которого был во многом похож – особенно в ранних самарских фельетонах; они с Твеном друг другу чрезвычайно понравились.
Но потом весть о том, что Горький с Андреевой не обвенчаны, просочилась в прессу и началась первостатейная травля двух развратников, путешествующих по Америке во грехе и блуде. По предположению Буренина, информацию слил кто-то из эсеров, недовольных, что Горький собирает средства для большевиков; это мог быть Николай Чайковский. По другой версии, Чайковский просто знал о предстоящем «сливе», но Горького не предупредил. В результате хозяйка нью-йоркского отеля, где остановился Горький с гражданской женой, выставила их вон в три часа ночи: пока они были на очередном митинге, где Горький выступал перед рабочими, их вещи были собраны, кое-как разложены по чемоданам, а чемоданы – раскрытые, с торчащими концертными платьями Андреевой – выставлены в холл. Входить в этот холл им запретили, дабы не осквернять грехом дом добродетели: тащить чемоданы пришлось Буренину. Пять дней Горький перекантовался в писательском общежитии в центре Нью-Йорка, а потом Андреева получила прочувствованное письмо от богатой землевладелицы Престонии Мартин, которая – истинная американка! – не в силах была видеть, как огромная страна травит хрупкую молодую женщину.
Благородная Мартин предложила Горькому с супругой – или, точнее, супруге с Горьким – пожить у нее в поместье, в двадцати пяти милях от ближайшего жилья, в усадьбе «Летний ручей». Там и была написана «Мать» – самая навязываемая при советской власти и самая забытая сегодня книга Горького. Горький и Андреева научили супругов Мартин русским выражениям – «черт побери», «спасибо» и «до свидания». Они прозвали хозяев «Престония Ивановна» и «Иван Иванович» – хозяева переняли эти обращения. По вечерам все сходились к камину, Буренин играл Грига – Горький полюбил этого композитора на всю жизнь. Иногда в гости заходили бывшие миссионеры, недавно вернувшиеся из Японии, – мистер и миссис Нойз. Они были в чем-то сродни Горькому – миссионеру, проповедовавшему в Америке идеи русской революции, – и прониклись к нему безоговорочным доверием. Миссис Нойз умела всякие штуки – ловко изображала эквилибристку на проволоке. Мистер Нойз тоже много чего умел – показывал человека-скелета под ритмичную дребезжащую музыку. Горький одобрительно приговаривал: «Ритм – душа музыки». Вообще-то пословица утверждает, что душа музыки – мелодия, и эта горьковская поправка весьма символична: в его собственных текстах ритм важнее мелодии, композиция оригинальнее словесной ткани.
Слова могут быть и случайны, и избыточны, и даже пошлы, но железное, точно выверенное построение спасает вещь от банальности. Так было и с романом «Мать» – написанным высокопарно и водянисто, но в конце достигающим нужного впечатления. Ниловна органично вошла в круг великих бунтарок русской литературы, от Катерины Островского до Любови Яровой Тренева. Многим бунт ее казался немотивированным, надуманным (хотя Горький клялся, что дословно описал историю матери сормовца Петра Заломова, и собирался описать его последующую каторжную одиссею в романе «Сын») – но как раз необразованная, забитая, не привыкшая думать о себе Ниловна и была внутренне готова к этому бунту: только из темной бездны, в которой она жила, свет революционной проповеди мог показаться ослепительным. Много написано о библейской стилистике романа, о попытке Горького написать пролетарское евангелие – это отчасти верно: то, что Горького не увлекал марксизм, но увлекала мечта о новом человеке и новом Боге, – кажется очевидным. Да и смешно требовать, чтобы поэт вдохновлялся марксизмом. Главная идея «Матери» – идея нового мира, и символично, что место Бога-Отца в нем занимает Мать. С Богом-Отцом Горький никогда не мог договориться, всегда спорил с его жесткими установлениями; то что у истока нового мира стоит Мать, сразу говорит о том, что этот мир воздвигнется любовью. Сцены собраний рабочего кружка выдержаны в той же квазибиблейской стилистике: они напоминают тайные встречи апостолов. Разумеется, новый мир определяется не тем, что там будут хорошо платить за работу, сытно кормить и бесплатно развлекать. В этом мире между людьми начнутся наконец человеческие отношения – те отношения, которые существуют между Власовым, Наташей, Андреем Находкой… Это люди, которым есть дело друг до друга, – это-то и поражает Ниловну, это и воскрешает ее душу; вообще в романе есть все, чтобы тронуть рабочего и сельского читателя, но при этом и заставить интеллигента задуматься – там ли он ищет Бога? Кстати, наиболее непримиримые отзывы на «Мать» пришли именно от философской интеллигенции – Гиппиус, Мережковского, Философова; русская критика вообще недолюбливала эту книгу, изданную по-русски с огромными цензурными изъятиями. Зарубежные издания на русском языке появились в 1907 году, когда Горький жил уже в Европе.
20 октября 1906 года он прибыл на остров Капри, которому предстояло теперь навеки добавить к своей славе «острова сирен» и «острова Тиберия» славу горьковской резиденции. И в Неаполе, и на Капри, где он поселился поначалу в отеле «Квисисана», Горького встретили триумфально. Италию он полюбил страстно – она стала для него чем-то вроде улучшенной России, с более веселым и дружелюбным народом, более мягким климатом и, как ни странно, куда более умеренными ценами. Ныне Капри – одно из самых дорогих мест в мире, но в те времена остров славился дешевизной.
Горький выезжал отсюда редко и неохотно – разве что на лондонский съезд РСДРП, на котором ему случилось поговорить с Лениным уже по-настоящему, обстоятельно и заинтересованно. Ленин был для Горького на протяжении многих лет образцом того самого нового человека, о котором он страстно мечтал и которого почти не встречал в реальности; и надо сказать, основания для такого отношения у него были. Абсолютное бескорыстие, столь же абсолютная преданность делу, юмор, неизменный при всем догматизме, и полное отсутствие рисовки – все это было непривычно; Плеханов, которого Горький хорошо знал по журналу «Жизнь», вел себя совершенно иначе. Трудно сказать, действительно ли подслушал Горький слова рабочего-делегата: «Плеханов – наш учитель, наш барин», но сам он воспринимал его именно так. В Ленине его завораживали оптимизм и готовность к активному действию, европейская работоспособность и отсутствие азиатской пассивной мудрости – словом, этот человек соответствовал своей репутации. В первый момент, правда, он разочаровывал – так ли должен выглядеть вождь? – но вскоре становилось ясно, что только так и должен: логичен, ясен, заразительно энергичен. Разумеется, в очерке Горького о Ленине много елея, много и смешных, двусмысленных деталей – чего стоит сцена, в которой Ильич щупает, сухие ли у Горького простыни; но за всем этим проступает на редкость привлекательный образ – особенно заметна феноменальная ленинская наивность: он в самом деле полагал, что может использовать историю, повелевать ею… На деле все обстоит ровно наоборот – история воспользовалась им для разрушения и восстановления империи, для того, на что у династии Романовых не хватало сил; но это выяснилось куда позже. Пока же Горький заряжался от Ленина оптимизмом – сильно поубавившимся после поражения русской революции.
А поражение было серьезное: в России воцарился Столыпин – помещичий премьер, доныне служащий кумиром консерваторов и националистов. Выдвинут был тезис о великой России, которая нужна Столыпину и его единомышленникам, а великие потрясения, стало быть, не нужны. Увы – консерваторам всегда невдомек, что без великих потрясений великой России не бывает; но в стране наступила полновесная реакция, и чуткая к переменам интеллигенция, только что носившая красные банты и восторженно приветствовавшая свободу слова, интенсивно занялась проблемой пола и мистическими исканиями. Горький вспоминал об этом времени как о мрачнейшем – может быть, это его счастье, что угрюмый этот период ему довелось провести в прекрасной Италии. Российская слава Горького переживала в это время серьезный упадок: он окончательно и бесповоротно вышел из моды. О нем помнили, его печатали – но подражать ему уже не хотели; авторов «Знания» переманил «Шиповник»; Андреев писал мистические драмы, Куприн – эротические стилизации, Горький неистово ругал их, но прежнего влияния уже не имел.
В это-то грустное время он вместе с несколькими единомышленниками и задумал создать на Капри партийную школу для рабочих-эмигрантов, а заодно придумать русскому большевизму чуть более человеческое лицо. Он решительно не понимал, почему его прекрасные друзья Ленин, Луначарский и Богданов все время ссорятся; на его взгляд, это были ссоры из-за догмы и буквы, а социализм ведь живое, веселое, человеческое дело, и делать его надо без инквизиторства! Так возникла идея каприйской школы – едва ли не самая перспективная ересь в истории русской революции. Уже в 1907 году Горький сочинил «Исповедь», которая, по мнению Гиппиус, сильно повысила его акции в среде интеллигенции. Конец девятисотых годов прошел у сорокалетнего Горького под знаком богостроительства – идеи, от которой он так никогда и не отказался вполне.