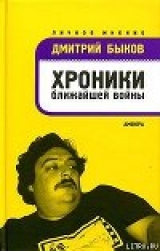
Текст книги "Хроники ближайшей войны"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц)
Письмо шестое
опыт о самосохранении
Установка на второсортность, которая наблюдается сегодня во всем, от литературы до власти, от журналистики до менеджмента, является в некотором отношении благотворной – если понимать под благом ужас без конца, который для многих предпочтительнее, чем ужасный конец.
Три года назад одной из главных коллизий «Орфографии» для меня была гаршинская история про пальму и травку, или, иными словами, трагедия интеллектуала, который разрушает темницу (теплицу) власти и первым гибнет на морозе. Ять в своей статье о гаршинской сказке утверждал, что в силу специфических российских условий общество неизбежно расслаивается на «пальмы» и «травку», что и служит залогом его гибели: пальмы самовоспроизводятся и обречены ломать теплицу, а теплица обречена восстанавливаться и создавать условия для роста пальм. В самом деле, Attalea princeps – чрезвычайно удачная метафора. Очень может быть, что российские революции – то есть радикальные упрощения – потому только и происходят, что в какой-то момент интеллектуальный ресурс страны становится избыточен для ее политической системы. Беда этой политической системы именно в том, что она приводит к перепроизводству интеллектуалов – которые, как мы знаем, в условиях имперской несвободы плодятся как грибы. Отчасти это происходит потому, что империя традиционно уделяет много внимания образованию, отчасти же потому, что во власти востребованы главным образом дураки и всем более-менее приличным людям ход туда закрыт. Им остается лишь интеллектуальная деятельность и умеренная оппозиционность. О том, почему во власти концентрируются идиоты и почему вообще власть в России формируется по принципу отрицательной селекции, мы много говорили раньше: в захваченных странах начальник – всегда надсмотрщик, у раба нет стимула, кроме страха, а потому руководитель обязан быть глупее, трусливее и подлее подчиненного. Стало быть, умным остается бунт. Поскольку во власти сидят дураки, а наукой, культурой и философией занимаются умные, рано или поздно интеллектуальная жизнь страны становится избыточно сложна и интенсивна для ее политической системы, вследствие чего и разражается кризис этой последней – с немедленным уничтожением ее интеллектуального ресурса. Так было в семнадцатом, а потом – в восемьдесят пятом.
В семнадцатом этот важный урок не был учтен: сразу после уничтожения прежней интеллектуальной элиты началось формирование новой. Идеологами разрушения империи стали именно дети комиссаров – шестидесятники. Сталин, вероятно, не понимал, но звериным своим чутьем угадывал, что делает,– когда выбивал это поколение всеми возможными способами; может, потому и войну вели максимально травматичным образом, мостя путь к победе миллионами трупов,– чтобы от умного, активного и честного поколения 1918-1925 годов уцелели единицы. Они, однако, уцелели – и для обрушения советской власти Александр Солженицын (1918 г.р.), Андрей Синявский (1925), Булат Окуджава (1924), Василь Быков (1924), Юрий Трифонов (1925) и другие сделали очень многое: просто потому, что у этих людей были иные критерии отсчета, нежели у советской системы в целом. Они начали писать настолько хорошо (или, если угодно, настолько иначе), что в советскую систему ценностей это уже не укладывалось. А поскольку останавливать прогресс в науке и искусстве – дело безнадежное, рухнула система ценностей. Если угодно, ранняя проза Солженицына была в этом смысле гораздо продуктивнее его же публицистики или диссидентской деятельности – просто потому, что «В круге первом», «Раковый корпус» и «Матренин двор» написаны на порядок лучше, чем вся новомирская проза шестидесятых годов. Да и Синявскому его процесс только помешал – «Гололедица» и «Пхенц» гораздо опаснее для советской власти одним своим существованием, чем любые «Белые книги», при всем благородстве их создателей.
Сегодняшняя российская установка на второсортность – результат учета именно этого опыта. Не думаю, что Владимир Путин настолько умен (насчет В.Суркова у меня тоже серьезные сомнения, особенно после создания «Наших»),– но думаю, что системе присущ звериный инстинкт самосохранения, коллективный разум, которого никто еще не перехитрил. В этом смысле система все делает правильно: она создает условия для того, чтобы в стране не осталось ничего хорошего. Слишком хорошего, имею я в виду. В сегодняшней России господствует установка на «травку». Пальмы искореняются в зародыше – да сегодня, пожалуй, и нет условий для того, чтобы какая-нибудь травка вымахала вдруг в пальму, как это сплошь и рядом случалось в советские времена.
Можно сколько угодно сетовать на кризис российского образования, но сегодняшней России совершенно не нужны образованные люди. Их и так слишком много. Более того – нынешняя Россия делает все возможное, чтобы выпускники как можно быстрее валили на Запад и оставались там. Это нормально, поскольку слишком большой интеллектуальный ресурс рано или поздно разрастется в уродливый зоб – если помните, Блок называл мозг избыточно огромным, непомерно разросшимся органом вроде зоба, и Горький с интересом записал это. Россия всегда располагала только двумя ресурсами – сырьем и интеллектом; сырье оказалось стратегически выгоднее, потому что от интеллекта одни неприятности. Всякая российская власть есть в некотором смысле власть оккупационная, а оккупанту совершенно не нужно, чтобы завоеванное племя получало образование, работу и хорошую литературу.
Замечу в скобках, что я действительно не могу однозначно ответить на вопрос, кто кого завоевал. История наша искажена, и старая мысль М.В.Розановой о том, что «в России два народа», нуждается в конкретизации. Типологически складывается полная иллюзия захваченной страны, что и подтверждается общим стойким ощущением, что она – не своя; масла в огонь подливают последние либералы, продолжающие утверждать, что власть обязана быть нанятым менеджментом, не более,– тогда как именно от нанятого менеджмента и проистекают все российские беды. Менеджер способен эффективно управлять там, где люди от рождения, априори «мотивированы», то есть ориентированы на успех; в России есть истинно армейская установка на деструкцию, на скорейший дембель, потому что вся страна работает на дядю, будучи немедленно отчуждаема от результатов своего труда. Примем пока гипотезу о «захваченном народе», не уточняя, кто и когда его захватил; все социальные реформы путинского времени, все преобразования образования, простите за дурной каламбур, а также отъемы льгот и прочие художества имеют единственную цель: окончательное приведение населения к «травчатому» состоянию.
Все это наводит на единственную мысль о гениальном инстинкте самосохранения системы – а именно о том, что установка на посредственность позволит стране просуществовать еще какое-то время без больших катаклизмов. Ибо люди с умом и совестью, разумеется, нипочем не стали бы терпеть такое положение дел. Всех, у кого есть совесть, надо обвинить в фашизме и затравить,– и в результате сегодня в России попросту не осталось интеллигенции, как констатировал в недавнем интервью Сергей Юрский. Эта интеллигенция смирилась с тем, чего терпеть нельзя по определению,– и даже приветствовала это; такого тотального единомыслия в ее среде не наблюдалось даже в двадцатые, когда некоторая ее часть охотно предавала себя, идя с большевиками. Но большевики по крайней мере не выдвигали лозунга всеобщей дебилизации – интеллигенту было на что купиться, и в этом смысле «Кремлевские куранты» не так уж и врут. Сегодняшний интеллигент с самого начала видел, куда заворачивает, и аплодировал своему уничтожению. Что ж теперь жаловаться?
Здесь и возникает главный вопрос: следует ли смириться с таким положением дел – или немного посопротивляться ему, хотя бы для порядку? Этот вопрос я решал для себя в «Эвакуаторе» – точней, там он ставится перед героиней, которая понимает вдруг, что раздающиеся вокруг взрывы никак не есть следствие чеченского террора. Во всем виновата она и ее возлюбленный – они любят друг друга так сильно и вместе им так хорошо, что износившийся, просвечивающий мир уже не выдерживает этой первосортности. Связи рвутся, дома падают, гибнут ни в чем не повинные сограждане,– единственным выходом остается добровольное жертвоприношение, убийство любви, потому что иначе всем кранты. Сюжет, конечно, не исчерпывается этой версией – автор сам не уверен, что «Любовь одна виновата»,– но что любая попытка установить в России твердый критерий качества приведет к обрушению всей системы, для меня сегодня несомненно. Сходные мысли – и это сходство меня радует – артикулированы в новом талантливом романе Гарроса и Евдокимова «Серая слизь». Книга эта мне представляется куда большей удачей, чем веселая и крутая «Головоломка»: Гаррос с Евдокимовым существенно переосмыслили старую идею Стругацких из «Миллиарда лет». В «Миллиарде» так называемое гомеостатическое мироздание принималось лупить по тем, кто посягал на его тайны. В «Серой слизи» героям противостоит не какое-то там мироздание (что было бы еще красиво и даже романтично), но абсолютное и всеобщее ничтожество – потому что мир, в котором живет это ничтожество, не выдерживает ничего хорошего. Уничтожается все, что хоть сколько-то «выше среднего».
Вопрос о том, как вести себя порядочному человеку при столкновении с логикой истории, был, в сущности, главным вопросом XX века. Понадобился весь опыт Пастернака, чтобы написать «Доктора Живаго» – более радикальную и последовательную версию «Шмидта»: к истории неприменим моральный критерий, она – лес, растительное царство, не знающее ни добра, ни зла. Забота порядочного человека должна быть о том, чтобы сохранить лицо. Но сегодняшнее состояние России ставит перед нами куда более страшный вопрос: что делать, если сохранение лица отдельных сохранившихся порядочных людей способно обрушить все наше государство как таковое? Сегодня Россия попросту не вынесет ни большого количества умных, ни даже небольшого количества честных. Станет очевидным все, что стыдливо замалчивается. Кончится летаргия. Разбудят умирающего мистера Вольдемара. Ведь, положа руку на сердце, пора признать, что русский проект в его нынешнем виде – закончился. Если обидно за русских – назовите его византийским. Страна с подобной системой управления, страна, захватившая в заложники всех своих граждан, страна без твердой веры или без строго проработанного закона – в современном мире нежизнеспособна, и никакая нефть не отсрочит ее распада. Проект под названием «Российская империя» отошел в прошлое. Этой стране не нужны не только умные либералы, но и умные патриоты. Терпеть ли это болото? Или – шире – сопротивляться ли логике истории? Ведь людей жалко. А люди неизбежно погибнут, если умные и честные российские жители будут своими трудами и размышлениями ускорять неизбежное.
Лично я для себя на этот вопрос отвечаю просто. Во-первых, гибель в болоте ничем не предпочтительнее гибели от взрыва. А во-вторых, уже написана «Улитка на склоне». Почему Кандид идет со скальпелем на мертвяков, которые все равно по определению победят? Может, чтобы ускорить неизбежное. А может, чтобы не соглашаться с энтропией. Потому что соглашаться с ней – последнее дело. Я так ненавижу «либералов» (закавычиваю это слово, ибо российский либерализм специфичен) именно потому, что они выбирают сильнейшего противника и перебегают на его сторону. Весьма вероятно, что по логике исторического развития Россия действительно должна превратиться в страну идиотов, если она хочет выжить как таковая. Но я не могу соглашаться с этой логикой, как и вообще не могу поддерживать тех, кто перебегает на сторону больших батальонов. Эта тактика представляется мне подлой. Мне противны те, кто подхлопывает и подсвистывает победителю. Даже если сторонники полной капитуляции России перед всеми нынешними вызовами исходят из наигуманнейших соображений («Так спасутся люди!»), я не готов поддерживать их – и продолжаю думать, что надо иногда вставать поперек потока. Правда, стихи об этом у меня уже были ни много ни мало в 1991 году:
Зане всеобщей этой лаже -
Распад, безумие, порок,-
Любой способствует. И даже
Любой, кто встанет поперек.
Но в нынешних обстоятельствах, думается мне, вставать поперек, разрушая стабильность идиотизма, все же благотворнее. Появляется шанс, что кто-то из нынешних граждан России минует стадию гниения и доживет до начала нового проекта, в котором сограждане уже не будут делиться на рабов и надсмотрщиков, левых и правых, пальму и травку… и перейдут наконец из уродливой теплицы на опасный, тревожный, но вольный воздух.
Дмитрий Быков
Письмо седьмое
об одном фантоме
Триумф энтропии под маской свободы, осуществляющийся сейчас на пространствах бывшего СНГ, заставил меня перечитать раннего Аксенова – так больная собака, не объясняя причин, кидается на целебную траву. Взгляд мой упал на «Коллег» – произведение бесконечно наивное, но именно этим качеством и ценное. Там Аксенов проговорился о главном своем враге – а именно о блатных и блатной субкультуре. Федька Кругов – прообраз всех будущих аксеновских злодеев, в том числе и чекистов, которые будут в «Ожоге» издеваться над маленьким фон Штейнбоком. Все персонажи этого автора непременно дерутся со шпаной, ибо все положительные герои в его мире – мальчики из хороших семей (включая Лучникова). Не в аристократическом, а в гуманитарном, общеобразовательном смысле. Аксенов – прямой наследник тех зэков, которые ненавидели блатных. Разумеется, им пришлось повариться в блатной субкультуре, и по возвращении они – как и большая часть России, хоть как-то да посидевшей,– этими словечками и соответствующим фольклором порой щеголяли. Но в душе ничего сильней не боялись и не презирали, чем вышеупомянутую субкультуру: блатота была им ненавистна, и не случайно Шаламов посвятил ей отдельный цикл очерков, венчающийся словами «Блатной мир должен быть уничтожен!».
Интеллигентов у нас любили отождествлять с блатными – так сказать, «замастить»; интеллигенция и сама много для этого сделала – см. «Интеллигенция поет блатные песни». На самом деле нет ничего более враждебного блатному, чем интеллигент: эти двое чувствуют друг друга за версту. Блатота – апофеоз цинизма, стремящегося навязать противнику правила игры и при этом сыграть без правил. Блатота – триумф беспринципности: «Умри ты сегодня, а я завтра». Блатота обожает любоваться собой, умиляться себе, проливать слезы над своей судьбиной. И при этом высшая ценность для блатного (который нравственных ценностей не признает, ибо он, разумеется, выше их),– свобода.
О свободе мечтают, к ней стремятся, ее ласково называют свободкой, как больницу – больничкой. «Ты начальничек, ключик-чайничек, отпусти на волю – может, скурвилась, может, ссучилась на свободке дроля». Т.е. на воле надо побывать, чтобы проинспектировать дролю, спасти ее душу для блатного мира, а то вдруг она скурвилась, сука, ссучилась, курва… Свободка существует для того, чтобы поехать в город Сочи, эту блатную мекку, которая в годы блатного триумфа стала еще и культурной: Кинотавр-шминотавр, с шашлычками, с пляжными фотосессиями… Шикарнейшая жизнь. Сочи – место, где жизнь шикарна. «Короче, я звоню из Сочи». Никакого другого содержания в цитируемой песне нет, как нет никакого смысла в знаменитом блатном жесте, называемом пальцовкой. Правда, на языке глухонемых это означает букву Ы. Блатные стоят друг перед другом и пальцуют, восторгаясь собой: «Ы, ы, ыыы!» Я звоню из Сочи! Это само по себе уже музыка. Мир блатной субкультуры – в его фольклорном отражении – состоит из двух полюсов: на севере – запретка, снега, срока огромные, а на юге – Сочи, сочный город, в котором «ч» надо произносить с особо влажной смачностью. С особым цинизмом. Свобода в этом мире – то, что позволяет поехать в Сочи, а потом опять что-нибудь украсть, кого-нибудь убить… Свободка – мечта того, у кого ее нет. Когда блатные стали править шестой частью суши, они воцарили на ней свою систему ценностей, а на трон посадили свободу.
Конечно, она нравилась и остальным великим утопистам – люди, придумавшие триаду «Свобода, равенство, братство», в советских лагерях не сидели. Однако Марина Цветаева все равно их заклеймила за «тройную ложь свободы, равенства и братства»: действительно ложь и действительно тройная. О том, что у человека мыслящего и тем более творческого не может быть никакой свободы, подробно писал Синявский в «Мыслях врасплох»: несвободен поэт. Несвободен влюбленный. Эту же мысль любил повторять Пастернак – Мандельштаму он так и сказал: «Вам нужна свобода, а мне – несвобода». Это вовсе не значит, что Пастернаку был необходим государственный патронаж. Это говорит лишь о его пристрастии к «хору затверженных движений», к творческой самодисциплине, труду – и о ненависти к абсолютизации такого понятия, как свобода. Абсолютизировать ее – значит превращать в цель. А она – средство.
В этом и разница между, допустим, маратовско-робеспьеровским пониманием свободы – и ее же версией в девяностые, в России, а потом и в СНГ. Свобода сделалась самодельна, отменила дисциплину и само понятие ценностей, а восторжествовав – принялась рушить все, что было построено при подлой, проклятой советской власти. Блатные умеют и любят переводить стрелки – и вот уже в истинной приблатненности стали обвинять эту самую советскую власть, которая, мол, была одним сплошным ГУЛАГом, где вертухаи-начальнички угнетали народ, сами будучи заблатненными с головы до ног… Советская власть стала восприниматься как блатная – тогда как блатные манеры демонстрировали как раз ее враги. Один диссидент, посидевший при Андропове, на полном серьезе объяснял мне, что блатной закон лучше, гуманнее произвола администрации – точно так же, как любой рынок лучше государственного диктата. А государство – это и есть диктат. Глубоко, глубоко угнездился ты, Фуко!
У меня о советской власти другое представление. Я вообще долго не мог понять – что определяет разницу в убеждениях людей, часто сходных, практически неотличимых по возрасту, опыту, темпераменту? Все одинаково, и вместе с тем один любит либералов, а другой отворотясь не наплюётся, слыша их звонкие раннеперестроечные имена. Проблема, думаю, все в том же проклятом марксистском социальном детерминизме, в непобедимом происхождении. По происхождению я типичный разночинец, презираемый аристократами и принцами крови. Я из средней советской интеллигенции, а не из маршальских деток, не из пролетариата и не из художественной богемы. Если отбросить все приспособления для мимикрии и ползучего выживания, я обычный книжный ботаник, вечно обреченный стыдиться этого статуса. Именно такие домашние дети больше всего ненавидят блатных и больше всего ненавидимы ими – потому что у них есть принципы, а блатные над принципами издеваются остроумно и изобретательно. Еще такие дети любят работу, а для блатных работа – несмываемый позор, клеймо, за это могут разжаловать из воров в мужики. Главное же – советская власть в мои школьные годы представлялась мне чем-то вроде недалекой, но добродушной старой учительницы, которая силится защитить ученика от блатной компании завсегдатаев «Камчатки», поджидающих его после школы для бесцельных, разнообразных и утонченных измывательств. Учительница, конечно, ничего не сделает, и вообще она скоро уйдет на пенсию, и стыдно прибегать к ее защите – не будет же она вечно вмешиваться. А эти люди рано или поздно возьмут верх везде, и тогда придется противостоять им по-настоящему. Так что надо набраться храбрости и выйти из школы – вечно в ней отсиживаться не будешь.
Потом подпочвенные воды хлынули наружу:
И в долгожданный миг свободы
Доселе скрытое дерьмо,
Вдруг поощренное, само
Всплывает пред лице природы…
В этой старой (1970) поэме «Монумент» Нонна Слепакова точно предсказала ситуацию: во время наводнения, когда упомянутое дерьмо вырывается наружу, интеллигент-диссидент ищет спасения… на памятнике Ленину у Финляндского вокзала! «О государства истукан», ты и не догадывался, что именно ты – столь ненавидимый вчера – сегодня для многих станешь последней надеждой. Стихия бунта уже тогда мыслилась умными людьми прежде всего как волна ликующего, победительного дерьма – мы, свидетели революции девяностых, имели случай убедиться в их правоте. Миром стали править самые омерзительные инстинкты, которые полагалось приветствовать, и самые гнусные персонажи, которым предлагалось поклониться. Было отменено само понятие дисциплины, любое насилие над собой – страна сдалась на милость энтропии, признав единственно благотворным то, что делается само. Работать стало постыдно, помогать ближнему – смешно. Интеллигент поучаствовал в тотальном бунте против лагерной администрации, понадеявшись, что при новой власти ему будет полегче,– но ему быстро указали на место под нарами: тискай романы, мразь! Собственно, все уже было предсказано: написал же Юрий Грунин свой роман «Спина земли» о кенгирском восстании 1954 года, где первое, что сделали зэки, захватив власть,– учредили свой карцер! Нечто подобное случилось в России девяностых, где под лозунгами свободы блатные действительно взяли власть и с тем победительным цинизмом, которому абсолютно ничего нельзя противопоставить, разрушили все, до чего дотянулись. Я вовсе не утверждаю, что все тогдашние властители были преступны: они были хуже. Для меня «блатота» – синоним не криминальности, а крайнего, торжествующего примитивизма. Свобода и простота – страшные сестры, одному Босху было бы под силу изобразить эту пару сифилитичек. «Свобода – это рак»,– писал Александр Мелихов еще в середине девяностых, в «Горбатых атлантах»; рак бывает и у плохого человека, но это не повод становиться на сторону рака.
Девяностые годы – что-то новое в советской истории: если советский «проект» был все-таки плоть от плоти русского, его крайнее проявление, доведение до логического абсурда,– то проект постсоветский уже не имел к русскому никакого отношения. Блатные ополчились на все, что мешало их свободке, а культурку согласились терпеть ровно в тех пределах, в каких она помещалась в их блатной обиход. Об этом весьма точно сказано в романе Татьяны Москвиной «Смерть – это все мужчины» (2005):
«В это время опять заиграли «Владимирский централ». Танцпол имени Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина сызнова начал выделывать торжественно-скорбные па. Когда мы с косым заявились на танцевальный пятачок, пришла пора «Телогреечке». Наш плясовой коллектив был разнообразен и где-то далее символичен. Ритуальный танец исполняли главные энергетические ресурсы Отечества: свиноподобные и быкообразные мужики с пригорками животов, девчонки в одежде, облипающей их скудный, но вызывающий рельеф, дамочки нескончаемых средних лет, готовые на все и сразу, два дохлых юноши третьего пола и маленькая кудрявая девочка. (Замечательный портрет тогдашнего общества; юноши среднего пола – стилисты, теоретики моды, а дамочки бесконечных средних лет, готовые на все, подозрительно напоминают мне губернаторшу одной северной территории…– Д.Б.) «Мой номер двести сорок пять! На телогреечке печать! А раньше жил я на Таганке – учил салагу воровать!» Мы рьяно сталкивались животами и спинами, задевали друг друга, весело кивали и продолжали молотить воздух руками и ногами, вырабатывая горячее тело Родины».
Свободка – главное условие функционирования воров. Именно поэтому они так держатся за либералов – либералы, предавшие свой статус интеллигентов и интеллектуалов, вырабатывают для воров концепции, жертвуют репутациями, пишут научные труды о необходимости свободы. Воры за это кормят либералов. Художники «тискают романы», за это им тоже перепадает. Ворам теперь нужно идеологическое обеспечение. Таким идеологическим обеспечением занималась вся русская либеральная публицистика девяностых и за это получала крохи со стола, а когда до нее кое-что доходило и она начинала осторожно роптать – ей грозили нарами. То есть все той же зоной. Беда в том, что в России сажали не только воров, но и инакомыслящих,– поэтому каждый здешний житель прямо или опосредованно сталкивался с тюремной психологией, часто выступал ее носителем и пропагандистом. Почти каждый интеллигент живет в генетическом страхе ареста, поэтому слово «свобода» значит для него так много. Хотя – человек книги и научной дисциплины – он отлично знает, что у интеллектуала никакой свободы нет. Разве что право печататься.
Отвратительный фетиш свободы послужил оправданием сразу нескольким бурным проявлениям энтропии – подальше от России и поближе к ней. Сейчас таких же проявлений ждут в Белоруссии, а там наконец и у нас – причем не в Москве, не перед Кремлем, а в Уфе или Ингушетии. Весь монолит по-блатному сплоченных революционеров, которым мало двух бархатных побед и одной арматурной, в Бишкеке,– готовится к очередному идеологическому натиску: противника замастить, руки не подавать, клеймить наследником Сталина, атукать и улюлюкать, переходить на личности, выдумывать компромат… Они это умеют. И манеры у них при этом самые блатные: бьют и сами же кричат: «Не надо его бить! Что вы делаете! Он же хороший!» – и ласково улыбаются жертве.
Помимо простоты, у свободы есть еще один, не менее омерзительный спутник – самодовольство. Полагаю, что это и есть истинный источник всех пороков. Легко обнаружить именно его в первооснове большинства современных интеллектуальных спекуляций и почти всех текстов современной русской литературы. Есть мировоззрения, целые философские системы, которые позволяют дурным людям подчеркнуть и закрепить свое превосходство над миром,– таковы все системы, основанные на употреблении птичьего языка, волапюка для посвященных. Таковы каббалистические тартуские построения, такова бессмысленная грамматология Деррида, таковы же и теории современного искусства, которыми жонглируют искусствоведы в диапазоне от Деготь до Рыклина. Однако основой положительной самоидентификации для миллионов, главным поводом к самоуважению всех отчаянных борцов за торжество энтропии становится именно идея свободы – она позволяет оправдывать все и вся. Пора отнять этот фиговый лист у людей, борющихся на самом деле исключительно за свое право пользоваться трудами остатков своего народа и при этом смачно, по-блатному презирать это жалкое быдло. Пора сказать хамам, что они хамы. Я сделаю сейчас признание, которое, конечно, не ухудшит моей репутации в их глазах – думаю, она была безвозвратно погублена во дни, когда я отказался защищать их свободное НТВ. Так вот: Владимир Путин, сколь бы омерзителен он ни был, мне бесконечно симпатичнее того, что они готовят ему на смену. Государство, какое оно ни есть, мне бесконечно милее торжества блатоты, которая с кольями и пиками идет громить лагерную администрацию. Впрочем, ведь об этом еще Гершензон в «Творческом самосознании»… в несчастных «Вехах», так никем и не понятых тогда… про то, что благословлять мы должны эту власть, ограждающую нас своими штыками от ярости народной! Благословлять, а не валить! Это все тот же блатной кодекс навязал нам идею о том, что нормальный интеллигент якобы обязан быть в оппозиции к власти. Они хотят уничтожить власть только для того, чтобы в ее отсутствие вернее грабить нас! И даже когда нам кажется, что власть в чем-то права,– мы не имеем права, не смеем говорить об этом! Ибо это – нестатусно! А страна, в которой лояльность является преступлением, вряд ли имеет шанс выбраться из ямы. Вот и сейчас кто-нибудь наверняка уже строчит мысленный комментарий насчет продажности, насчет манипулирующего мною Суркова, насчет моей трусости, наконец… Разумеется, с блатной точки зрения трусом является любой, кто боится беспредела. А своим считается только тот, для кого этот самый беспредел – родная среда.
Главная беда интеллигенции – сострадание к блатным и попытка жить по их законам. Нам ведь не нужно все то, что так дорого блатняку. Нам не нужны ни сочный Сочи, ни нефтепромыслы, ни дорогие телки, которые, если захотим, и так наши, потому что мы «убалтывать умеем». Нам нужно, чтобы давали работать,– и только. А поскольку власть с упорством, достойным лучшего применения, как раз работать-то нам и не дает,– мы оказываемся вынужденными союзниками тех, кто понимает свободу как беспредел. В последнее время они изобрели новый вид беспредела – бархатный. Но энтропия есть энтропия в любом варианте.
Кстати, и в 1993 году я полагал, что власть вправе защитить себя. Потому что у тех, кто выступил тогда против этой власти,– принципов было еще меньше. И если, не дай Бог, в России все-таки осуществится лелеемый столь многими бархатно-беспредельный проект с его мирными демонстрациями и иными формами самого мерзкого шантажа,– я буду от всей души желать ему поражения, потому что знаю, в чем заключается «их» свобода. С точки зрения историософской, может быть, революция и станет благом для России – потому что добьет ее быстрей. Но люди остаются людьми, и их жалко. А главное – я не хочу, чтобы мерзавцы в очередной раз брали верх. Устал я уже от их торжества во всех сферах жизни.
Я отлично понимаю, сколь уязвима моя позиция. В конфликте лагерной администрации и блатного мира нельзя, по-хорошему, быть ни на чьей стороне. Самое лучшее для нормального человека – не попадать в тюрьму. Но если он уж в ней родился… А это так, потому что первый признак тюрьмы – именно антагонистический, непримиримый конфликт между народом и властью, война на уничтожение, без всяких там демократических процедур, когда нет другого инструментария, кроме бунта… Так вот, раз уж человек в такой тюрьме родился, лучше для него все-таки посильно протестовать против ее совмещения с борделем. Чистоты жанра никто не отменял. И если разъяренная блатота, больше всего на свете ненавидящая закон и порядок, идет крушить тюрьму, распевая «Марсельезу»,– можно не сомневаться, что построит она на руинах именно новую тюрьму, а не дворец культуры и даже не порядочный трактир.
Только потолки будут пониже да пайки поменьше – воры в законе делиться не умеют.
Так что продавать свою тайную свободу сочинять за чужую явную свободу беспредельничать лично я больше не собираюсь. Я уже знаю, какие темные ночи в городе Сочи.
2004-2005 гг.
Дмитрий Быков







