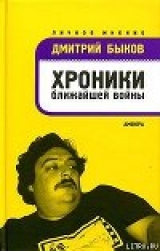
Текст книги "Хроники ближайшей войны"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
Духовидец
Если бы Царапкин жил в Штатах, он был бы национальной гордостью. Картины его украшали бы офисы первых лиц государства и альбомы репродукций вручались бы почетным гостям. И американцы, гордящиеся каждым достижением соотечественника, как собственным,– подмигивали бы приезжим: вон как, у нас-то! Нигде в мире такого быть не может, а у нас – запросто. Чтобы безногие плясали – было, чтобы глухие музыку писали – тоже. Но чтобы слепой рисовал – это только у нас.
Но вот как раз у них-то ничего подобного нет, а потому единственный в мире слепой художник живет себе близ метро «Автозаводская» в Москве и продает свои работы – исполненные на больших листах технической бумаги с перфорацией – по пятьсот рублей. Ну, если поторговаться, то по четыреста. Была у него одна маленькая выставка, но скоро, может, сделают большую, в Центральном доме работников искусств. И иногда я думаю даже, что это царапкинская удача – родиться в России. За границей его бы, конечно, раскрутили по-страшному, зато и напоминали бы на каждом шагу: инвалид, инвалид! Все мы знаем эту политкорректную практику: на каждом шагу стараются внушить инвалиду, что он такой же, как все, что все его любят, такого полноправного члена общества… и всем этим фарисейством постоянно дают понять: да нет же, ты не такой, это просто мы такие прекрасные! А так – живет себе здоровый мужик Сергей Царапкин, 39 лет от роду, зарабатывает массажем, играет в театре главные роли, по специальности является историком, рисует пейзажи и портреты, потихоньку их продает постоянным клиентам по массажу. Начинается даже в московских артистических кругах некоторая на него мода, потому что техника уж очень своеобразная. Особенной популярностью пользуются его эротические рисунки и скульптуры. Одну из них, не очень приличную, он не продает, а показывает только после долгих уговоров. Называется «Леший и русалка»: выдолблена из огромного цельного пня. Апофеоз жизнерадостного язычества. У русалки вот такие, у лешего вот такой.
В свободное время он в походы ходит. Когда вы читаете этот номер газеты, он уже на Селигере. Отбирает там интересные древесные корни для новых работ и купается. Никаких тебе грантов, дотаций и программ государственного вспомоществования. Расслабляться особо некогда. Никто и ничто не напоминает ему, что у него зрения по 0,02 процента на каждом глазу, что он инвалид первой группы и видит вокруг себя не фигуры, не лица, не буквы, а размытые пятна разной величины. Цветов он не различает вовсе.
О Царапкине я узнал из «Времечка». Сюжет про него снял наш корреспондент Роман Побединский. Я не поверил и пошел выводить Побединского на чистую воду.
– Нет, друг мой, вы уж признайтесь, что это мухлеж.
– Клянусь чем хотите.
– Я понимаю, конечно: сенсация и все такое…
– Ну, сходите к нему сами,– обиделся Побединский.
Царапкин оказался жутко занятым человеком. С утра у него был сеанс массажа (клиентов он принимает на дому), потом очередная репетиция (Боярский в «Закате» Бабеля, трудная характерная роль), вечером спектакль в том же театре (Сатин в «На дне»), а назавтра он идет в кружок бального танца. Так что принять он меня может в строго определенное время, хотя очень будет рад познакомиться.
Точно мухлеж, понял я. Инвалид… танцы бальные! Сатин… там одного текста страниц на двадцать! И я пошел разоблачать Побединского.
Мне открыла помощница Царапкина. Сам он ждал в кабинете. Решительно направился ко мне и внимательно меня оглядел зелеными глазами. Уверенно протянул руку. На диване заранее разложены были лучшие работы – все на тех же огромных листах с перфорацией («Это мне отец с работы приносит – у него много. Они большие, удобные»).
– Ладно, Сережа,– сказал я как можно мягче.– Скажите честно: вы ведь видите!
– Конечно вижу!– радостно кивнул Царапкин.– Две сотых процента. Крупные предметы вполне угадываю.
– Ну, вот я стою. Что вы видите?
– Пузо вижу!
– Гм. Пожалуй, вы действительно… не очень хорошо видите. Где же здесь пузо. Разве это пузо. Это так…
– Ну конечно!– снова кивнул Царапкин.– Я же говорю: только очень большие предметы…
Вообще ему чрезвычайно льстит, когда гости не верят. Потому что Царапкин легко и хорошо готовит, отлично ориентируется у себя в комнате, отличается большой физической силой, активно интересуется женщинами и пользуется у них успехом. Его руками изготовлена в доме масса полезных вещей – вешалки, подставочки, полочки; около кровати стоит огромная деревянная абстрактная скульптура.
– Это комель был, валялся на огороде. Я только гниль выдолбил. Посмотрите, как закручен, какая фактура дерева: лучший образ движения!
Зрение он начал терять в третьем классе, врачи так и не поняли, что послужило первопричиной атрофии зрительного нерва: сначала маленький Царапкин сильно ударил себя по лбу молотком (неудачно замахнулся), потом перенес тяжелый грипп с осложнениями. К четвертому классу он не видел уже почти ничего. Сейчас видит только то, что подносит к самым глазам. Не различает лиц. Не может читать, кроме как по Брайлю. Рисовать начал семь лет назад.
– Я никогда раньше не пробовал, все вообще очень странно вышло. В 1988 году, если помните, было тысячелетие крещения Руси. Настоящий бум церковный. А я вообще ездить очень люблю – решил поехать в один из северных русских монастырей, пожить немножко, посмотреть, что это вообще такое. Поехал, избушку снял. Там много художников тогда жило, я с ними разговаривал… И это действительно было потрясение, но как-то оно странно на меня подействовало: каждого ведь в свою сторону пробивает. Один фанатиком веры становится, другой паломничать уходит, а я вдруг почувствовал желание рисовать и лепить. Начал с глины: ее ведь пальцами чувствуешь. Потом перешел на дерево, хотя макет первоначальный всегда делаю все равно в пластилине. А дальше почувствовал, что – как бы сказать – вижу руками. И, значит, могу рисовать.
– Но вы же цветов не различаете!
– Поначалу только графика была. Я иногда рисовал пейзаж – весь одним цветом,– но брал, допустим, красный мелок. По ошибке. И получался красный лес, красный мост через ручей… Говорят – это даже интересней, сразу какая-то тревожность добавляется. Я могу иногда для воды взять лиловый, для неба – желтый, и есть ценители, которым это и нравится. Получается фантастический такой вечер.
И действительно – в царапкинских пейзажах с коричневыми избами и розовым небом есть особенная нежность и тревога. Его зеленые и красные реки среди синих лесов заставляют вообразить рассвет в пустынной, никем не виданной местности. Работает он по преимуществу пастельными мелками:
– Для меня идеально было бы рисовать – сразу пальцами. Чем ближе контакт между рукой и бумагой, тем лучше. Вот кисть – она мне уже неудобна, слишком далеко от линии. Мне надо, чтобы я линию чувствовал, вел ее сам: вот видите – работа моя маслом? Это так пальцами и сделано. Но я в этой технике с тех пор не работал – перемазался весь.
– Это автопортрет?
– Ну… да. Я себя так представляю.
– Похоже представляете.
– А мелок – он чем удобен: продолжение руки. И потом, их разложить можно в определенном порядке. Мне так и раскладывают: здесь красный, здесь желтый. Так что я теперь не путаюсь уже. Вот с утра нарисовал сегодня маску египетскую: какого она цвета?
– Кирпичного.
– А! Ну, значит, все правильно. А фон?
– Серый, со штриховкой.
– Да, я так и хотел.
Царапкин с детства интересовался историей и окончил истфак педагогического института, но в специальную московскую школу для слепых и слабовидящих (где и учатся, и преподают инвалиды) устроиться не смог. Там огромный конкурс, и ему попросту не хватило места. Почему-то среди слепых больше всего именно историков. И я даже догадываюсь, почему. Во-первых, у них исключительная память на даты и цифры – качество, для историка не лишнее. А во-вторых, они умеют различать главное, не отвлекаясь на пестрые мелочи: слабовидящие видят только очень крупные вещи. Слепой социолог Ракитов с поразительной точностью предсказал в начале девяностых все, что случилось в последующие десять лет.
Не сумев устроиться на должность учителя истории, Царапкин не огорчился и окончил двухгодичные курсы массажа, специально для слепых. Для многих это стало спасением – слепые массажисты ценятся исключительно высоко. Специалисты утверждают, что ни у кого нет таких чутких рук.
– Массаж – это трудно. Это труднее, чем по дереву работать. Дерево – оно, конечно, твердое, семь потов сойдет, пока лишнее уберешь… я потому и не продаю деревянные скульптуры, что мне каждая слишком трудно дается. Это как ребенка родить. Но массаж – тут ведь не только сила нужна. Главное – чтобы он для клиента был в удовольствие. Если синяк оставишь или вообще боль причинишь – это все, провал, низкая квалификация. А ведь надо не гладить, а силу прилагать, на точки воздействовать…
– И какой массаж вы делаете? В смысле – от чего он помогает?
– От всего практически. От гипертонии. От переутомления. От мышечной слабости. От искривления позвоночника.
– Извините за личный вопрос – а жена зрячая у вас?
– Зрячая. И первая тоже зрячая была. Хотя я ваш вопрос понимаю – у слепых чаще всего браки между собой. Некоторым кажется – так проще. Но нынешняя моя жена – это второй режиссер в нашем театре. Вот она, на стене…
– Да… Довольно откровенно.
– Да нет же, куда вы смотрите! Ниже, где фотография. Вот.
– А сверху – это что у вас? (Расположение работ на своих стенах Царапкин помнит идеально.)
– Сверху – это просто рисунок, натура обнаженная. Я таких женщин не очень люблю, худых. Мне нравится, чтобы женщина была похожа на женщину.
– А это… с натуры?
– Да как же я могу обнаженную с натуры писать? На ощупь? Это все из головы. И вот эта тоже… и эта…
– Я гляжу, эта тема в вашем творчестве занимает серьезное место.
– Ну… она и в жизни занимает…
Жена у Царапкина – красавица, он это знает и тихо гордится. Хранит в отдельном альбоме ее фотопробы на разные костюмные роли – снимки довольно эффектные. Есть у него и фотографии, где они с женой на море. Она стоит у берега, а он довольно далеко заплыл.
– Работа в театре вам приносит какие-то деньги?
– Да нет, очень редко. Разве на гастроли куда-нибудь поедем… Театр – это для души, я недавно стал этим заниматься, но очень увлекся. У нас театр хороший, мобильный. Потому что и слепые играют, и зрячие. Мы можем в любое помещение поехать и там выступить: вот в театре «Шалом» недавно сыграли «Дневник Анны Франк». Мне больше всего нравится Островского играть…
– Николая?
– Да нет, Александра Николаевича… Купцы у меня, говорят, хорошо выходят.
Так что и играет он все больше здоровых, крепких и самоуверенных малых. Хотя рассказывает о своей театральной карьере с чрезвычайной застенчивостью – как о хобби, которого стыдится. Серьезный человек, а тут игрушки.
Другое его хобби – музеи. Он очень любит туда ходить и смотреть живопись. Чтобы увидеть хоть что-то, ему приходится буквально упираться в картину носом.
– Вы б еще руками потрогали!– говорят ему смотрители.
– С удовольствием бы,– честно признается Царапкин.– Я руками-то лучше вижу…
– Ну, а теперь порисую. Я вам хочу на память картину сделать. Вот вы ко мне приехали, и вам сейчас на работу, да? А я через три часа на Селигер еду, у нас там сборная группа – тоже и слепые, и зрячие, все на равных. У озера будем жить. Вот чтобы вам не так обидно было, я вам нарисую пейзаж.
– Поснимать можно?– спрашивает фотограф.
– Да пожалуйста.
Фотограф щелкает вспышкой. Царапкину она не мешает – он ее не видит. Даже не жмурится. Только тут я убеждаюсь окончательно: слепой. Потому что среди портретов его работы поверить в это совершенно невозможно – но он ведь рисует не с натуры. Он рисует, как представляет человека по голосу и характеру. Иногда, если клиент заказывает портрет,– просит самую крупную фотографию и долго, по сантиметру, с огромной лупой изучает ее. Но это редко. Обычно клиенты больше ценят такие портреты – написанные по слуху.
Описать, как рисует Царапкин,– трудно. Но это одно из самых захватывающих зрелищ, которые я видел в жизни. Вообще меня больше всего занимает преодоление, способность человека прыгнуть выше головы. Когда-то я писал о художнице Татьяне Лебель, молодой питерской красавице, потерявшей память после автокатастрофы: она стала рисовать и постепенно вспомнила все – рука разбудила мозг. Было страшно и прекрасно смотреть, как рисует эта девушка с разумом ребенка и техникой взрослой художницы: сегодня она вернулась к себе прежней, пишет, выставляется. Там же, в Питере, меня познакомили с моим любимым художником Ярославом Крестовским: в середине семидесятых он стал утрачивать зрение, сегодня ослеп полностью, но пока мог отличать свет от тьмы – рисовал, а потом стал раздаривать свои идеи и сюжеты. Похожий случай описал Моэм – в «Луне и гроше» полуослепший прокаженный гений Стрикленд рисует свой последний шедевр на стенах хижины. И это акт чистого творчества – он рисует не с натуры, потому что почти ничего не видит; он в полном смысле творит, создает, впервые уподобляясь Богу.
Так вот, видеть, как рисует Царапкин,– это наблюдать творчество в самом чистом виде. Сначала ничего не понятно.
– Мой метод называется – метод пятна.– Он кладет левую руку на лист: – Здесь у меня нижняя граница, горизонталь.– От нее, от этой невидимой горизонтали, он начинает рисовать какие-то горы, холмы.– Погодите, вы еще не понимаете, а я все уже вижу.– Потом берет желтый.– Это какой у меня? Черт, все перепутал… А и хорошо, пусть будет желтый.– И рисует вытянутое желтое пятно.– Это вода. Но это так… я сейчас сделаю так, что она будет действительно вода.– Все это очень быстро, точными и резкими движениями: яростно трет мелком бумагу, потом намечает четыре вертикали – как выстреливает, потом стремительно штрихует серым верхнюю половину картины…– Вот.
И вдруг я почти с ужасом вижу, как из хаоса коричневых, желтых и серых пятен проступает совершенно отчетливое болото в лесу, сухие деревья на его краях, бурелом, низкое небо, болезненно-желтый осенний закат. Только что были расплывчатые, размытые контуры, облака, амебы, не пойми что – и вот оно. Я думаю, Бог примерно так и творил: туда шлепнул глины, туда брызнул воды, там камень покатился – и на тебе, море, берег, облака. Хаос, хаос, а вдруг и пейзаж. И страшно сказать – иногда мне кажется, что он вполне может быть близорук: не зря же ему так нравится все крупное и так мало заботит все мелкое.
Царапкин смущен повисшей паузой.
– Непохоже, да?– говорит он.– Но это метод такой… Я же не сам придумал, я просто вижу так… пятна… Вы можете взять, если хотите. Если в рамку, то перфорации не будет заметно…
– Вы это где-нибудь видели?– спрашиваю я наконец.
– Да я же, когда начинаю, никогда не знаю, что получится. Как рука поведет. Может – будет дорога, а может – река… Я не вижу, а рука видит.
– Я сначала думала, у него третий глаз,– говорит помощница.– Серьезно.
Россия, думаю я, фантастически богатая страна: даже если какой-нибудь сельский подмастерье изготовит тут висячие сады Семирамиды, об этом никто не узнает, кроме программы «Времечко».
В пятидесятые годы в Штатах увлеклась живописью одна восьмидесятилетняя старушка. Всемирную известность она приобрела под именем Grandma Moses – ее альбомы выходят ежегодно, выставки проходят повсюду. Нашего самодеятельного художника и сельского философа Ефима Честнякова тоже хорошо знали, но то – в советское время. В нынешние времена триумф человеческого духа над непобедимыми, казалось бы, обстоятельствами мало кого впечатляет – может быть, потому, что напоминает остальным о необходимости делать духовное усилие, а большинство этого вовсе не хочет.
Но без этого духовного усилия Россия никогда ничего не преодолеет. И если нам нужен сегодня национальный герой – то вот, пожалуйста, Царапкин. Признание его не испортит – он малый скромный и насмешливый.
Нелишне иногда напоминать человечеству: мы можем то, чего не может никто. Голодать и холодать при немереных ресурсах. Спорить об азбучном. Разбазаривать драгоценности. Но зато у нас есть безногие летчики и слепые художники.
Все-таки компенсация.
2001 год
Дмитрий Быков
Топ-топ
Мы набили наши трубки и уселись у камина. За окном бушевала снежная буря и чувствовалось близкое море, над которым носилась метель. Дамы испуганно поеживались. Седой полковник окутался ароматным дымом, поглядел в ревущую заоконную черноту и произнес:
– Да, господа… Странно иной раз играет судьба человеком. Вот мы сидим тут, в тепле и уюте… а далеко, на Севере, в Лапландии, севернее Деда Мороза, в глухой деревеньке, откуда до Хельсинки дальше, чем до Мурманска,– живет автор песни «Топ-топ, топает малыш».
– Быть не может!– воскликнул я.– Вы шутите, полковник!
– Ничуть не бывало. Если хотите, я расскажу вам о нем.
– Расскажите! Расскажите!– наперебой попросили мы, придвигаясь к огню. Полковник затянулся и начал…
Вот так бы, в духе рождественских рассказов прошлого века, и изложить всю эту неправдоподобную историю. Тем более что почти все так и было, включая камин. Только полковник был на самом деле капитан запаса, курил не трубку, а «Честерфильд», и звали его Михаил Веллер. Непревзойденный знаток питерских баек, он рассказал нам эту историю в своей таллиннской квартире, выходящей окнами на подмерзшее Балтийское море. Байка оказалась правдой. Петербургский поэт Алексей Ольгин, написавший когда-то всем известный текст про топающего малыша, действительно живет в Лапландии, на 130 километров севернее Деда Мороза, среди оленей и финнов, в деревне Сооденкюла. Ему шестьдесят семь лет.
…Одна из самых трогательных и долгоживущих песен отечественной эстрады «Топ-топ» появилась при следующих обстоятельствах. Однажды (дело было в 1964 году) к Ольгину, у которого была своя комната в коммуналке, пришел его друг, композитор Пожлаков. Жив ли он сейчас, Ольгин не знает. «Если ему еще можно пить, то, наверное, жив. Не пить он не мог. Фантастически крепкий человек». Пожлаков только что пережил очередной скандал с женой и пришел к другу отлеживаться. Он пребывал в расстроенных чувствах, катался по дивану и стонал. Ругая жену и старадальчески морщась, он барабанил пальцами по собственной груди и в такт этому постукиванию сквозь зубы говорил:
– Пап-па-па-па-ра-па-па… сука… тап-тап-тап-па-ра-па-па…
Мало-помалу из бессвязного «тап-па-ра-па-па» проступила довольно агрессивная мелодия, которую отличный импровизатор Пожлаков тут же и подобрал на имевшемся у Ольгина пианино. Тогда это было быстрое и совсем не трогательное сочинение.
– Про что бы это могло быть?– спросил он Ольгина.
Ольгин был к тому времени известным текстовиком, автором целой песни, исполнявшейся Пьехой. Ее тогдашний муж Броневицкий, знаменитый руководитель ансамбля «Дружба», в сибирской глуши услышал песню одного самодеятельного автора по фамилии Хомутов (так о нем ничего больше и не известно): тот предложил ему свое сочинение, сыграв его на аккордеоне. Мелодия была заводная, а текст никакой. Броневицкий обратился к Ольгину, зарабатывавшему в ленинградской филармонии подтекстовками к зарубежным шлягерам. Ольгин быстро сочинил оптимистические куплеты «Иду я к солнцу», которые в исполнении Эдиты прославились на все Отечество. Фотография Пьехи с благодарной надписью и посейчас висит в его доме.
Он всегда относился к своим подтекстовкам как к халтуре и до сих пор не скрывает этого:
– Меня тогда интересовали совершенно другие вещи. Баскетбол, волейбол, польское и итальянское кино… Я был довольно смазливый малый, так что сами понимаете.
– Девки?
– Девки. А чем было еще заниматься? Время было такое, что реализоваться человек мог в двух вещах: вот это дело (щелчок по шее) и вот это дело (другой жест). Девки тогда были лучше. Бескорыстные, спали без денег, по чистой любви. К сожалению, я много семей испортил, много жизней… Потом поплатился за это.
Он родился в самой обыкновенной семье, отец – инженер, а мать – домохозяйка. Его настоящая фамилия – Маграчев, вполне, казалось бы, невинная, но дядя его был знаменитый радиожурналист Лазарь Маграчев, блокадник, своего рода ленинградский Левитан. Его голос и имя знал весь город, и дядя совершенно не хотел, чтобы такая фамилия стояла под легкомысленными песенками. Алексей был человеком сговорчивым и взял псевдоним в честь любимой женщины, замужней, на десять лет старше себя: эта страсть была одной из самых сильных в его жизни. Он и в первом браке, и после с нею не порывал, и если есть в его жизни женщина, которой он по-настоящему благодарен,– это она.
В школе он учился не лучшим образом, но подделал табель и поступил в ленинградский пединститут имени Герцена. Там на втором курсе у него случился конфликт с преподавателем марксизма, и будущему Ольгину пришлось перевестись на заочный.
– Что, по идейным соображениям повздорили?
– Да нет, просто он меня не любил. У меня никаких дел с политикой никогда не было. Знаете почему? Я с детства дико боялся органов. Однажды, в детстве, я увидел, как отец во время прогулки со мной остановился и некоторое время постоял перед портретом Сталина. Это показалось подозрительным милиционеру, он подошел… Я никогда не видел отца – большого, сильного человека – в таком испуге. С тех пор и на всю жизнь я решил не ссориться с властями…
Ну вот, а после заочного пединститута Ольгин перепробовал множество профессий. Он был и массовиком-затейником, и даже Дедом Морозом. Это ему впоследствии аукнулось Лапландией – почти в каждой сколько-нибудь значимой судьбе есть такие лейтмотивы и рифмы, но заметить их можно только задним числом. Он был очень стеснительным Дедом Морозом и через десять минут вечно убегал, потому что не знал, о чем говорить с детьми после первых приветствий и зажжения елочки. Но больше всего, как уже было сказано, он зарабатывал русификацией шлягеров. В конце пятидесятых это была модная профессия, поскольку убрали железный занавес и в Россию хлынули хиты всего мира, по преимуществу латиноамериканские и французские. Сочиняли русские варианты песен Монтана и Лолиты Торрес, Адамо и Пиаф. Ольгин из всех тогдашних подтекстовок помнит только какую-то «Мексику, Мексику»,– но тогда таких мексик было навалом. Славу и первые настоящие деньги принесла ему песня для Броневицкого и Пьехи, а подлинно звездным часом был тот, когда на вопрос Пожлакова «О чем бы это могло быть» он, задумавшись, ответил:
– Сыграй еще раз, только медленней. Это будет, допустим, про то, как топает малыш.
Я не думаю, что кому-то надо сегодня напоминать эти слова, воспроизведенные во множестве песенников, записанные на сотнях пластинок, изданные в сборниках «Наша песня» и в учебниках для музыкальных школ.
Топ-топ, топает малыш. С мамой по дорожке, милый стриж. Топ-топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь. Будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз. Топ-топ, 2 раза. Очень нелегки, топ-топ, 2 раза, первые шаги.
Свои первые топ-топ на большой эстраде делала с этой песней Миансарова, ее пели Кристалинская, Великанова – да кто только ее не пел, кроме Пьехи, у которой был другой имидж: не материнский, а скорее такой польский вамп. Ни одна из следующих песен Ольгина – а он написал не меньше двадцати хитов – не знала такого успеха, потому что прочие его песни («Россиянка», «Одиннадцатый маршрут», «Будет жить любовь на свете») были просто жизнерадостны, а суперхит про маленького топтуна подкупал сентиментальностью и нежностью, которых в душе советского человека было много больше, чем сейчас. А на эстраде, где то гремел патриотизм, то звенели гимны здоровой молодости, этого как раз не хватало,– так что все молодые матери нашли в Ольгине и его похмельном соавторе идеальных выразителей собственных чувств. И даже знаменитая «Будет жить любовь на свете» («Лишь бы день начинался и кончался тобой» – помните?) при всей своей славе и приносимых автору дивидендах была не столь дорога аудитории, как совершенно бесхитростный «Малыш».
– Кстати, с этой «Любовью на свете» тоже вышла история. Ее собирался записывать Хиль. Он там одну строчку поменял, причем сделал хуже,– глупость получилась. Хиль вообще полагал, что он умеет менять тексты. У него один раз вышло: была такая песня – «Так провожают пароходы», он придумал туда припев – «Вода, вода, кругом вода»,– и этот припев прославил песню. Только и помнят из нее – вода, вода, кругом вода. И Хиль решил, что он теперь каждый текст будет менять, потому что обладает чутьем на слово. Я услышал его вариант и поехал на радио его запрещать. А мне тамошний начальник и говорит: вы бы лучше, чем глупостями заниматься, другие слова в вашей песне изменили. «Лишь бы день начинался и кончался тобой» – вы что в виду имеете? Ясно же, что вот это, да? (Жест.) Так она и не пошла тогда, только потом ее как-то пробил композитор…
Вообще судьба песни на девяносто процентов зависела от пробивных талантов авторов и исполнителей. Попадание на «Огоньки», издание в песенниках (а это давало огромную выгоду, потому что по песенникам песню разучивали на провинциальных танцплощадках и честно отчисляли деньги автору – правда, с танцев платили только композитору). На пластинку – и то было просто так не попасть. Поэт-песенник был тогда, без преувеличения, самой преуспевающей и богатой личностью: один хит мог обеспечить безбедное существование. Тихий инженер Потемкин, написавший слова и музыку песни «В нашем доме появился замечательный сосед», через полгода после ее первого исполнения купил квартиру и машину.
Ольгин мог позволить себе не работать, посещать рестораны и жить в свое удовольствие. Как миг особого блаженства ему помнится следующее: в день своего рождения, совпадающий с днем рождения пионерской организации, он сидит на верхнем этаже «Националя», в единственном на весь этаж люксе с балконом. Он сидит на этом балконе в одних плавках и загорает, а под ним маршируют пионеры. Люксы были дешевые, гонорары приличные, и он мог позволить себе показать пионерам пример жизненного преуспеяния – свое голое незагорелое тело в целиком принадлежащем ему люксе.
Эта прекрасная жизнь внезапно кончилась для него в середине семидесятых. И дело было не в том, что государственной политикой становился антисемитизм: в конце концов, известный песенник Рябинин тоже имел, что называется, девичью фамилию Меерович, но терпели. Это менее везучий Виктор Гин («Поговори со мною, мама!» – суперхит 1975 года) пострадал через фамилию и живет теперь в Израиле, где никому не нужен. А Ольгин был вполне терпим, и песни его пелись, и в профессиональном смысле все оставалось отлично. Он сломался на женщинах – вернее, на женщине,– и видит в этом перст судьбы.
– Я заслужил.
Это был его третий брак (официально – второй). С первой женой он прожил недолго, даром что она приходилась родной сестрой знаменитому Севе Новгородцеву. Но, во-первых, знаменитый Сева Новгородцев был тогда никому не известным саксофонистом Левенштейном, а во-вторых, его сестра оказалась неумна, о чем Ольгин ей прямо и сказал.
– За это я тоже наказан. Говорят, природа отдыхает на детях гениев. Так вот, в моей жизни было очень много этого, с этими (жест). А сын от первого брака с первой женой уехал на Запад и никогда не женится, потому что стал католическим священником.
В середине семидесятых, перевалив за сорок пять, Ольгин захотел покоя и женился на молодой и очень красивой. Здесь его, разрушителя многих семей, поджидал роковой облом. Произведя ему отпрыска, молодая и красивая, с которой он рассчитывал коротать старость, пошла вертеть хвостом по Петербургу и вскоре окончательно покинула Ольгина.
– В сорок пять лет потерять женщину – значит потерять все.
Он пережил тяжелейший душевный кризис, бросил поэтическую халтуру, написал верлибром поэму «Осенние светофоры» (вообще в индивидуальном творчестве, к которому тоже никогда особенно серьезно не относился, он словно мстил за свои песенные вынужденные поделки и старался избегать традиционных ритмов, предпочитая свободный стих). Жизнь казалась загнанной в бесконечный, по-галковски говоря, тупик. Он понял, что есть два выхода, в главном сходных: смерть или эмиграция. Смерть не устраивала в силу его природной жизнестойкости и презрения к показухе, а наиболее распространенным вариантом эмиграции для питерца был Таллинн, тогда еще писавшийся с одним «н» (помните анекдот: если вы будете писать «Таллинн» с удвоенной согласной на конце, мы будем писать «Колымаа» с удвоенной гласной на конце?). Туда эмигрировал Довлатов, туда переехал Веллер, там 1 января 1978 года после серии разменов осел Ольгин.
– В Ленинграде мне все напоминало о ней. И поэтому все опротивело. Я никогда в жизни не переживал таких ударов.
– И где она теперь?
– Не знаю.
В Таллинне он осмотрелся, сочинил несколько подтекстовок для восходящего Тынниса Мяги и начинавшей по кабакам Анне Вески (и Мяги, и Вески сейчас в бизнесе – он успешно, она очень успешно, во многом благодаря мужу-неэстонцу). Написал много лирики. Стихи, кстати говоря, были временами неплохие, а некоторые так и просто отличные – нипочем не подумаешь, что автор долго халтурил на советской эстраде:
Люди живут по-старому,
по привычке – за ставнями,
не потому, что к ним в окна лазают,
а так, чтоб не сглазили.
Но медленно-медленно,
как застольная песня на Масленицу,
новое, начиная с мебели,
вползает
на четвереньках
с крыльца…
Приходится, скрепя сердце,
хотя бы на миг отпереться -
и это начало конца!
Теперь все узнали,
что в доме соседки Тийны
и скрывать было, собственно, нечего.
По-моему, это классно и в некотором смысле автобиографично. Он издал две книжки стихов и два сборника детских рассказов, про собачку, очень симпатичных,– но приближалась перестройка, в Эстонии ощутимая задолго, и литературных заработков стало не хватать. Ольгин успел и в Эстонии уже один раз жениться и развестись, потом женился четвертым и окончательным браком – и одновременно устроился сторожем на строительство телецентра. Те, кто в семидесятые-восьмидесятые работали сторожами, знают, что это была не худшая профессия в смысле заработков: так, на строительстве таллинской телебашни основная задача Ольгина заключалась в том, чтобы покрывать прораба, распоряжавшегося стройматериалами с обоюдной выгодой для себя и государства. Автор песни «Топ-топ», безоговорочно и бесповоротно начавший новую жизнь (лишь бы вытравить из себя все воспоминания о мучительной прежней), соглашался и на это. За три года строительства телецентра он скопил себе на «Запорожец», на котором стал подрабатывать к началу перестройки. «Будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз».







