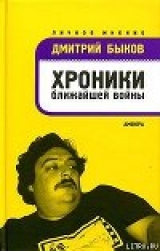
Текст книги "Хроники ближайшей войны"
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Как я не встретился с Бродским
Слава Богу, что я не встретился с Бродским.
Теперь у меня нет мучительного соблазна опубликовать в журнале «Арион» или, того чище, в газете «Сегодня» мемуар следующего содержания: «Иосиф долго бродил со мной по Венеции (Нью-Йорку), купил мне – на свои деньги!– две чашечки кофе, а на прощание сказал: «В России, Дима, три поэта: Рейн, Кушнер и вы». И, потирая руки, засмеялся, довольный».
В России не было поэта, который не мечтал бы встретиться с Бродским, вне зависимости от своей любви или нелюбви к нему. За право ввернуть «А тут-то Бродский мне и говорит…» многие продали бы если не душу, то почку. Нобелиат счастливо сочетал умение писать замечательные стихи и попутно устраивать себе промоушн, так что его похвала одинаково много значила и для карьеры, и с точки зрения гамбургского счета. Как-то ему, по-моему, не везло на визитеров из России. Берет, например, интервью Дмитрий Радышевский из «Московских новостей». Бродский его спрашивает: вы Шестова читали? Не читал, отвечает Радышевский. А зря. Обязательно прочтите «На весах беспочвенности». Цитирую по Радышевскому. Не мог Бродский такого сказать. Даже в порядке издевательства не мог, потому что контаминировать «Апофеоз беспочвенности» и «На весах Иова» – это не смешно. И вообще – встретишь иной раз в московской квартире фотографию, где хозяин стоит близ Бродского, иногда несколько по-отечески над ним возвышаясь (Бродский был среднего роста),– ну, мэтру-то все равно, он и сам иногда ощущал себя, кажется, статуей, а статуя не отвечает за фотографирующегося с нею туриста, у нее и выражение лица припасено, такое несколько устало-милосердное. Но этот-то хрен что тут делает! Меня, меня в кадр, я, может быть, нашел бы слова сказать этому лысеющему человеку, сколь много он для меня значит именно тем, что я всю жизнь стараюсь на него не походить!
Я очень мечтал почитать Бродскому. Я знаю, что я хороший поэт, и для подтверждения этой мысли мне не нужны ничьи комплименты. Но я очень его любил, и мне было ужасно интересно поглядеть, какой он в нормальном общении, потому что не считать же нормальным общением всякие бросания ягод друг другу в рот во время его венецианских телепрогулок с Рейном. Меня вообще очень раздражает Рейн, который сегодня, кажется, даже на вопрос «Сколько времени?» отвечает: «Как сказал мне однажды Иосиф, без четверти пять». Говорят, на будущий год Рейн набирает семинар в Литинституте; это и без того мрачное место, не случайно на вахте литинститутской общаги в списке горячих телефонов первой выписана психоперевозка и уж только потом – 01. Но когда там появится еще и семинар Рейна – страшно подумать, сколько пишущей молодежи выйдет оттуда самовлюбленными эпигонами. Впрочем, я не хочу добавлять своего голоса к хору поклонников Бродского, утверждающих, что гений всегда был окружен не слишком приятными людьми. Правда и то, что Бродский, как всякий сильный поэт, очень редко хвалил других сильных поэтов,– но, с другой стороны, признавал же он Кушнера, Окуджаву, Юнну Мориц…
Честно говоря, я-то не особо рассчитывал на похвалу, потому что, по-моему, Бродскому чужие стихи были в значительной степени безразличны. «А мне чужих стихов не надо, мне со своими тяжело», как любит повторять один замечательный автор. Но мне очень хотелось послушать и поглядеть. А наслышан я был достаточно.
Рассказывали, что на одном его парижском вечере к нему разлетелся кто-то из восторженных, совсем еще свеженьких эмигрантов: надо же, только что эмигрировал, и тут Бродский. Эмигрант подошел и сказал: Иосиф Александрович, у меня нет денег на вашу книжку (продававшуюся тут же), вы мне не распишетесь вот тут в блокнотике? Бродский, говорят, рассвирепел и очень резко сказал, что раз у вас нет денег, то и нечего ходить на мои вечера. Честно говоря, я не очень в это верю, может, его просто достал определенный тип поклонников, брадатые юноши бледные со взорами горящими и стебельковыми шеями. Другие, наоборот, рассказывали, какой он бывал нежный и гостеприимный. Однажды Бродского живьем видел Александр Мелихов, чудесный прозаик, которого я за эту устную новеллу еще больше зауважал: стоит Мелихов на какой-то скандинавской книжной ярмарке, и тут идет Бродский. Все тут же к нему побежали со своими сочинениями, стали писать автографы, и у Бродского в руках образовалась изрядная кипа литературы, которую он не знал, куда девать. Он улыбался хорошо отработанной для таких случаев деликатной улыбкой и все пристраивал куда-то эту кипу (мысленно давно определенную им в корзину), в душе, вероятно, горячо посылая всех окружающих, так что Мелихов это почувствовал и не тронулся с места. Бродский приметил единственного русского автора, не подбежавшего под благословение, и посмотрел на него долгим заинтересованным взглядом. Вообще же вспоминающие о своих встречах с Бродским сильно напоминают мне детей, примазывавшихся к славе без вести пропавшего Тома Сойера,– тот эпизод, когда один мальчик, решительно не помня ничего оригинального, только и смог выдавить: «А меня Том Сойер однажды здорово поколотил»,– но это могли о себе сказать почти все присутствующие.
Тем не менее слаб человек, и когда я в 1994 году оказался в Америке, у меня была подспудная, постыдная и несбыточная мечта хоть издали поглядеть на человека, написавшего «Пока ты была со мною, я знал, что я существую». В силу ряда причин личного порядка я сам на тот момент был не уверен, что существую, и Бродский был мне большим утешением (сейчас, когда я существую опять и, кажется, уже навсегда,– он этим утешением остался). Эпигонов Иосифа Александровича, скудоумных дев, к месту и не к месту вставляющих в стихи китайские и римские реалии, я уже ненавидел до такой степени, что для нормального, беспримесного восприятия новых текстов Бродского мне требовалось делать усилие над собой. У меня было поручение к Петру Вайлю, который в сноске к какой-то своей статье меня упомянул, и это выглядело достаточным основанием напроситься на кратковременный погляд к мэтру. Вайль при моем первом звонке не выказал никакого восторга, и вообще я его, кажется, разбудил, так что я, в свою очередь, очень сухо рассказал про поручение и условился о встрече через неделю. Конечно, мы, русские идиоты, все сплошь уверены, что соотечественники там жаждут увидеть в нашем лице живой привет с Родины; должно пройти много времени, прежде чем мы поймем, что в США любое напоминание о Родине надолго может испортить настроение цивилизованному человеку. Как бы то ни было, через неделю Вайль со мной встретился в маленькой кофейне неподалеку от нашей гостиницы, и я стал деликатно к нему подъезжать насчет Бродского.
– А что Бродский,– небрежно сказал я,– он не собирается книгу выпускать?
– Собирается, очень много нового написал,– сказал Вайль.– И стихи замечательные, совсем не похожие на то, что было. Вот недавно он мне читал…
При этих словах Вайль вырос в моих глазах как минимум на полголовы.
– А он вообще… принимает хоть кого-нибудь?
– Он очень открытый человек, с ним вполне можно встретиться.
– А если, допустим, книжку стихов ему передать?
– Можно и книжку. Он обычно просматривает почти все, что ему присылают.
– А правду говорят, что он очень опускает собеседника… в смысле резок, непредсказуем и все такое?
– Да нет, я думаю, все будет нормально. Вот он скоро, может быть, ко мне в гости придет, я вас попробую привести, и вы познакомитесь.
Эта перспектива ослепила меня на три дня. Панически боясь навязываться Вайлю, я честно осуществлял программу CIA, предусмотренную для русского журналиста, со всеми ее прелестями вроде посещения штабов партий, выездов на дом к отставным политикам и других чрезвычайно усладительных мероприятий, но мозг мой уже работал в заданном направлении. К тому же экскурсовод, катавший нас по Нью-Йорку, с уважением показал бывший дом Бродского в Сохо,– «правда, теперь он отсюда переехал, но долго жил здесь, это самый старомодный и интеллектуальный квартал»,– и в голове моей против воли зазвучало «Он здесь бывал, еще не в галифе…» – но я давно избавляюсь от привычки думать стихами Бродского. Представлял я себе примерно три варианта.
Вариант первый, оптимальный. Вайль меня приглашает, тут входит Бродский, все сдержанно ахают и посиделки одним махом переводятся в иной регистр… Идет общий разговор, потом Бродский читает что-то новое, а потом добрый Вайль говорит: «Ну, а теперь пусть Быков почитает что-нибудь одно». А мне больше одного и не надо, у меня счастья полные штаны, я что-нибудь читаю, Бродский дружелюбно улыбается, говорит – «недурно, недурно», добавляя, в своей манере, несколько теоретических соображений о поэте как орудии языка, не забывая своих излюбленных оборотов вроде «в чрезвычайно значительной степени». Я на крыльях несусь в свой «Шератон Манхэттен», сжимая потными руками надписанную мне «Уранию» – что-нибудь «на память от автора». Место в русской литературе узаконено.
Вариант второй, чудовищный. Бродский не в духе, я читаю, он разносит, а я, что самое ужасное, в своей манере киваю, улыбаюсь и соглашаюсь. Умри, Денис, лучше не пиши.
Вариант третий, самый отвратительный: общий разговор, я сижу чужим на празднике жизни, потом мне из деликатности предлагается почитать, я читаю, стараясь не смотреть на присутствующих, возникает короткая пауза, после чего разговор возобновляется, а меня как бы и нет. Я иду в «Шератон Манхэттен», а после девяти ноль-ноль пи-эй в Нью-Йорке купить выпивку большая проблема, и почему-то именно этот факт заранее приводил меня в полное отчаяние.
Самое грустное было, что после этого я уже никогда не смог бы заставить себя хорошо относиться к стихам Бродского, потому что, повторяю, слаб человек,– и, храня объективное молчание, в душе я всегда присоединялся бы к хору посредственностей, утверждающих, что рыжий исписался и что вообще его как поэта больше нет, а может, и не было, что он скучный, холодный, вместо метафор у него дефиниции, а вместо эмоций – констатации. В свое оправдание я могу только заметить, что Бродский высоко ценил Набокова ровно до того момента, как сам Набоков где-то не слишком восторженно о нем отозвался,– и с тех пор Бродский везде, где мог, побивал Набокова Платоновым, который уж точно ничего плохого не мог сказать о его стихах; а Саша Соколов, которого Набоков как раз похвалил, вызывал у Иосифа Александровича стойкую антипатию.
В общем, в таких вот постыдных размышлениях я проводил свои нью-йоркские дни, не решаясь напомнить о себе добрейшему Вайлю, представляя разные варианты встречи, перебирая стихи, которые я бы прочитал Бродскому,– и Бродский мне даже приснился: мы шли вдоль какого-то залива, дул ужасный резкий ветер, и в том же ужасно резком тоне Бродский разносил все, что я когда-либо написал,– и я понимал, что мне нечего делать в литературе, и просыпался только что не в слезах. При этом мне было вполне ясно, что человек, написавший «Мы будем жить с тобой на берегу», никогда, никогда не станет мне казаться плохим поэтом, при всей моей стойкой антипатии к стихам типа «Каппадокии»,– и я удовлетворялся тем, что сейчас нахожусь к Бродскому ближе, чем когда-либо.
Наконец Вайль позвонил мне сам и сказал, что хочет передать со мною в Москву скромный подарок одному из общих знакомых, а заодно и купить мне на память книжку, которую я выберу сам. Книжка такая у меня на примете была, и мы опять сошлись неподалеку от «Шератона», за три дня до моего отъезда, в кофейне напротив книжного магазина.
– А что ж вы не позвонили?– добродушно спросил Вайль.– Иосиф был у меня позавчера.
Я содрогнулся.
– И как?– спросил я по возможности небрежно. Вайль вытащил из портмоне фотографию, на которой был он, Бродский и неизвестная мне личность, явно не Генис. Бродский весело подмигивал в объектив, словно подначивая автора этих строк.
– Можете взять,– сказал щедрый Вайль.
– А что было?
– Ну, он почитал, поговорили, а на следующий день он уехал в Европу. В Швецию.
– И когда теперь вернется?– спросил я совершенно упавшим голосом.
– Месяца через два…
Месяца через два мне уже предстояло тянуть лямку в родном московском издании, где меня и так уже ненавидели за двухмесячное халявное пребывание в свободной стране; и вид мой был так печален, что Вайль попытался меня утешить:
– Вы можете оставить ему свою книжку. Я передам.
Только тут я вспомнил, что книжка у меня оставалась одна, заранее надписанная одному эмигранту, который проживал на Брайтоне, а когда-то носил ко мне в «Собеседник» совершенно гнусные фельетоны, и хотя я их стабильно ему заворачивал, в Штатах этот человек был ко мне патологически добр и много покатал по городу за свой счет. Совесть терзала меня, но я вытащил из сумки книгу, аккуратно выдрал из нее титульный лист («Дорогому Григорию на память о чудесном вечере в «Одессе») и надолго задумался.
– Что ж написать-то?
Вайль мудро усмехался. Ему ясно было мое состояние. Только тут я понял, кому, в сущности, буду надписывать свой сборник и как этого потенциального адресата люблю, до какой степени я им напичкан и пропитан, как часто примерял на себя его цитаты и как жалко буду выглядеть, сконцентрированный на двухстах страницах, в его руках. «Дорогому Иосифу Александровичу» – какой он тебе дорогой… «Уважаемому Иосифу Александровичу» – ага, в день выхода на пенсию от благодарных сослуживцев. «Милому Иосифу Александровичу» – да, конечно, с крепким поцелуем, люби меня, как я тебя, мы обе институтки. Отбросим определение. «Иосифу Александровичу Бродскому с…» Преклонением – какие сласти! Восхищением!– да, и слезами. Если ему чего и не хватает в жизни, так исключительно моего восхищения. С надеждой на встречу. Со свиданьицем. Он теперь ночей спать не будет, все станет ждать встречи… тьфу, какой я ничтожный!
Наконец рука моя неожиданно для меня самого решительно вывела: «Иосифу Александровичу Бродскому с благодарностью» – что, в общем, вполне соответствовало истине, и Вайль широкой ручищей сунул мою сжавшуюся книжку в карман защитного плаща.
– Вы уж ему передайте,– сказал я.
– Я уж ему передам.
После чего мы допили кофе, я выбрал себе давно присмотренного Хеллера, и Вайль растворился в дебрях Большого Яблока.
…Бродский снился мне с тех пор только единожды, вскоре после его смерти,– в странном интерьере, восходящем, вероятно, к рассказам фотографа Валерия Плотникова о его ленинградском жилище: комната-колодец, заставленная книгами по всем четырем стенам, снизу доверху. Тут же и стремянка, чтобы эти книги доставать. На этот раз Бродский был необычайно дружелюбен, поил чаем и говорил о чем-то веселом и приятном, и с ним было необыкновенно радостно, и можно было запросто сказать – Иосиф Александрович, а как это у вас здорово, помните, «Покуда время идет, а Семенов едет», ха-ха-ха,– и объяснение этому сну как раз подыскать несложно. Один автор написал уже, что после смерти Бродского, каким бы холодным и герметичным его ни называли, каким бы отдаленным он ни выглядел,– всеми владело чувство личной утраты, потому что он сделал фактом большой литературы именно обыденное интеллигентское сознание, мое-твое-наше. И кроме того,– его работа касалась каждого пишущего, потому что всем было интересно, что он там делает, на своем передовом рубеже; и, наконец, огромная часть жизни прошла на фоне его текстов, так что естественно, что, грозный и недоступный при жизни, после смерти он выглядит почти родным. Ужасно, если вдуматься. «Стихов заупокойный лом», да простится мне невольное кощунство, был в изрядных количествах нанесен еще при жизни, чистое эпигонство, и это так же невыносимо, как если бы свое гениальное «На смерть Жукова» Бродский стилизовал не под державинского «Снигиря», а под реляции самого маршала. Желтые репортеры нанесли в доверчиво распахнутые московские издания горы чуши о том, как Бродский любил холодец и сациви, а также водку, настоянную на травах. Это, конечно, расширяет наши представления о нем «в чрезвычайно сильной степени».
Чувство личной встречи с Бродским посетило меня единожды в жизни, когда я в самолете улетал из Америки с твердым пониманием того, что окажусь здесь опять не так уж и скоро. Самолетный рев, как всегда, звучал мужским хором, и в такт какому-то скрытому ритму хорошо было скандировать про себя:
Родила тебя в пустыне
Я не зря,
Потому что нет в помине
В ней царя.
Это был очень поздний Бродский, не похожий на зрелого и на раннего, внезапно потеплевший, вернувшийся на миг к традиционной метрике:
Привыкай, сынок, к пустыне,
Как к судьбе.
Где б ты ни был, жить отныне
В ней тебе.
В эту секунду я был страшно счастлив, что не увидел Бродского,– потому что эти божественные стихи могли теперь существовать во мне чистыми и незамутненными, в высшем смысле анонимными, свободными от любого авторства, потому что человек такого сделать не может.
И, разумеется, как было не гореть звезде за окном, где было, говорят, пятьдесят градусов мороза:
Словно жжет свечу о сыне
В поздний час
Тот, Который сам в пустыне
Дольше нас.
1997 год
Дмитрий Быков
«Мне улыбаются твои сиськи»
как я был делегатом Конгресса
О московской половине 67-го конгресса Пен-центра написано достаточно: поговорили, поели, попили, почитали стихи, вступились за Чечню. Но не все знают, что была у конгресса и вторая половина. Самые живучие доехали до Петербурга, где под девизом «Писатель и власть» прошли еще три дня дискуссий.
Лично я на большой конгресс Пена попасть не рассчитывал, потому что я этого клуба не член. Но на «Писателя и власть» меня пригласил организатор второй половины мероприятия, очень славный питерский фантаст Андрей Столяров. Исходя из личного опыта, я написал доклад «Лояльность как трагедия» и поехал. Теперь я знаю, что такое быть делегатом конгресса.
Впрочем, я все это себе примерно представлял (большая часть моей жизни вообще прошла в непрерывном изумлении: оказывается, все, о чем пишут в книжках,– святая истина. И даже кое-что из газет иногда оказывается правдой, хотя значительно реже). Многие наши литераторы уже успели на что-то подобное поездить в семидесятые еще годы и с презрением описать. Русский человек, попадая на большую халяву (какой является любой международный конгресс, ровно ничего в мире не меняющий), обязательно потом отзывается о ней с презрением: он не может себе простить, что так туда стремился, так жадно ел… В общем, все оказалось верно. Существует специальная конгрессная публика, которая два раза в жизни написала эссе и теперь все свое время посвящает неустанной work for («борьба за что-то» – они не говорят. Они склонны работать, а не бороться, и это, кажется, действительно эффективнее). Есть профессиональные борцы за женскую солидарность, за спасение китов, за права насекомых. В массе своей такие конгрессмены – удивительно активные и безобидные люди. Вообще сочетание безобидности и активности – редкость в наших краях, но поскольку борьба их идет за что-нибудь очень уж экзотическое (все основные проблемы решены), а все эскапады не причиняют окружающим вреда, оставаясь безобидными чудачествами,– что с них взять?! И кочуют по странам и континентам американки без возраста, с одинаково дружелюбными улыбками осматривая вас, пейзаж, единомышленников, оппонентов… Ездят колоритные старперы, водящие с собой на поводке, например, ручную игуану… Вообще представление о поэте везде, кроме России, предполагает какое-нибудь непременное безобидное чудачество: например, зеленые волосы, или хорька за пазухой, или патологическую страсть к мыльным пузырям. В России этого уже недостаточно.
Они все добрейшие люди. У них абсолютно прозрачные глаза. С ними легко договориться. Подозреваю, что среди них есть и некий процент бескомпромиссных борцов,– но в массе своей, по-моему, вся эта публика раз и навсегда чего-то сильно испугалась. Она поняла, что большая и настоящая жизнь не для них. Поэтому они борются за что-нибудь, что ни с какой стороны не может представлять опасности для них лично: за права малых народностей, за здоровье животных, за мир во всем мире. То есть за вещи, которые у всякого нормального человека априорно не могут вызывать возражений. Покажите мне скрежещущего злодея, которому не нравились бы киты, хомяки или свобода сексуальных меньшинств!
О, конечно, в силу нашей национальной специфики их мнение иногда может казаться решающим. И даже оказывается таковым. Прижучат у нас какого-нибудь писателя – и пен-центры всего мира шлют послания, и это пока еще имеет вес в глазах власти (как имеет вес в ее глазах любой факс на латинице). Кроме того, есть в России некоторое количество писателей, которые благодаря связям с общественными организациями вроде Пен-центра ездят по всему свету,– а поскольку нашим до сих пор не так просто куда-нибудь выехать, я только приветствую их бурную деятельность в любых международных организациях, будь то ЕЭС, Парижский клуб, НАТО или Всемирный совет по охране полевой мыши обыкновенной.
Лучшим мероприятием питерской части конгресса был поэтический вечер. Не разубеждайте меня! Мне ни разу за последние несколько лет не было так весело. Кроме того, я впервые ощутил себя частью мирового литературного процесса. Ощущение, я вам скажу, неслабое.
Собрались все в гостях у Пушкина, на Мойке, 12, в крошечном концертном зале. Набились под завязку. Вел мероприятие петербургский поэт и издатель Николай Кононов по прозвищу «архангельский мужик» – огромного роста, очкастый, доброжелательный, но в высшей степени себе на уме. Спервоначалу, как и водится, слово предоставили нашим иностранным гостям.
Первым на сцену поднялся пожилой американин, которого я во все время конгресса принимал за сенатора. Он читал стихи по маленькой, необыкновенно изящно изданной книжечке в твердой обложке – так издаться из наших поэтов светит разве что Вознесенскому. Он читал, а Кононов лично переводил.
Я вообще представляю некий мейнстрим современной американской поэзии, ее, так сказать, типовые образцы. Во-первых, несколько раз мне ради хлеба насущного приходилось кое-что переводить для наших журналов, быстро плодившихся и столь же быстро лопавшихся. Во-вторых, ездил в Штаты и осматривал книжные полки на предмет сравнения с отечественным положением дел. В-третьих, мой любимый поэт и учитель Нонна Слепакова взяла меня как-то в помощники – я делал подстрочник, а она приводила его в более-менее ритмизованный вид. Слепакова никогда не была в Штатах и вообще почти не видела заграницы, а ей очень хотелось. Она надеялась, что авторша стихов; богатая американская поэтесса преклонных лет, ее пригласит. У поэтессы, конечно, было полно милых чудачеств – ходила в шляпе, зычно хохотала и обожала бобров. Работала в защиту бобров. Писала стихи о бобрах. И теперь вот бедная Слепакова, отличный, между прочим, поэт и сама давно не девочка, мучилась над ее поэмой «Душа бобрихи», которую мы между собой, конечно, называли вовсе не «душа», а догадайтесь сами каким словом. В поэме подробно описывалась жизнь бобрихи, ее первые гребки, ее плавание по быстрому ручью, ее отношение к звездному небу и пр. Чувствовалось, что писал все это очень добрый, душевный такой человек. Бобриха влюблялась, нерестилась или как там это у них называется, бобрилась, то есть рожала бобрят, и дальше плыла по жизни, победоносно руля хвостом, и я все это транслировал, а Слепакова оковывала в чеканные звуки. Как мы ненавидели оба эту бобриху – тема отдельная. Современная американская поэзия, за ничтожными исключениями, являет собою именно род безобидного чудачества. «Мой сосед – о, он поэт! Он борется за права лаосцев, каждое утро два часа стоит на голове, зимой и летом ходит босиком и издал недавно книгу «My Conclusions». Почти все обходятся без рифм, почти все пошли по пути Роберта Фроста – то есть сидят у себя на ферме и наблюдают жизнь. Но если Фрост был большим поэтом, чье назойливое фермерство не зря раздражало Ахматову,– эти полагают, что их наблюдения самоценны. Респектабельный американец, опять-таки с добрыми-добрыми глазами, прочел примерно следующее:
– Сижу один.
В окне сгущается тьма.
Кто нальет мне кофе утром?
Вообще большинство его стишков были не длиннее пяти строк, и во всех без исключения речь шла о том, как он сидит у себя на веранде и предается абстрактным умствованиям при виде чего-нибудь в окне. Типа: «Сейчас зима. Темнеет рано. И не пойму, чего больше за моим окном: темнеющего света или светающей тьмы». Ему, наверное, все это представлялось чем-то ужасно многозначным, он явно увлекался в юности восточной поэзией и теперь следовал принципу «великое в малом». Костюм на нем стоил мою годовую зарплату.
Рядом в скромном костюмчике сидел безмерно любимый Кушнер и кротко меня одергивал:
– Дима, не смейтесь. Ваши стихи в переводе наверняка выглядят не лучше.
– Да вы ведь и по-английски понимаете!
– Ну и что же. Лучше пусть стихи пишет, чем вообще… я не знаю… убивает на охоте беззащитных животных…
Американец дочитал свои пять вариантов пейзажа с веранды, и его сменил вежливый японец, одетый не менее безупречно и сдержанный, как самурай. С ним вышел переводчик, тоже японец. Оба синхронно поклонились залу. Следующим естественным шагом стал бы короткий показательный бой на мечах или на худой конец голыми руками, но вместо этого переводчик сказал:
– Господин Укусика-но-тихо (за точность транслитерации не ручаюсь) не только один из самых известных в Японии поэтов. Это еще и глава крупнейшей в стране строительной корпорации.
В зале воцарилось почтительное молчание. Я представил добрый десяток петербургских поэтов, сгоравших от желания перевести стихи главы строительной корпорации, завести с ним знакомство и поехать в Токио с целью обмена поэтическим опытом. Но крупные строители ездят по свету с собственными переводчиками. Глава прочел по-японски что-то длинное и гортанное. Переводчик еще раз поклонился и запереводил. Смысл стихотворения сводился к тому, что господин Укусика-но-тихо чувствовал себя в разлуке с любимой, потому что возвел между ею и собою город. Он возвел сначала стены, потом автомагистрали, потом гаражи,– в общем, он кучу зданий и парков навозводил, и все так подробно, технологически грамотно, что я в какой-то момент не выдержал:
– Александр Семенович! Они же перепутали! Надо срочно спасать положение, ведь этот бедняга переводит проспект его корпорации!
Кушнер выразительно на меня посмотрел и ничего не сказал. Он вообще человек удивительно толерантный.
Апофеоз, однако, наступил, когда на сцену вылез турецкий поэт, проживающий в Англии. Этот колоритный мэн лет пятидесяти, огромный, толстый, волосатый, в очках, с выражением добродушной свирепости на бородатом лице, давно привлекал мое внимание. Я принимал его за латиноса. У англотурка вообще не оказалось переводчика, поэтому транслировать его верлибры на сцену вывали молодого питерца Скидана. Он был примерно вдвое выше и вдвое же худее турка, и они образовали запоминающуюся пару.
Турок читал по-английски, но с таким произношением, что на сей раз я не понял ничего. Закончив, он деловито передал текст Скидану. Тот принялся переводить, и лицо его по мере чтения текста вытягивалось все больше и больше, но, верный долгу, он ни на секунду не прерывал труда:
– Счастье… ушло… к Мехмету,– произнес он. Турок одобрительно кивнул.
– Рассудок… убежал… в соседнюю деревню,– сказал Скидан. Напряжение в чопорном зале росло.
– А мне насрать,– громко сказал Скидан.– Мне улыбаются твои сиськи.
На лице турка изобразилось блаженство. Он сделал руками округлый жест, словно охватывая две дыни. Улыбка сисек повисла в воздухе.
Хохот и бешеные аплодисменты были ему ответом. Турок прочел еще два стиха, в том числе «Письмо из Чечни»,– о том, что у нас есть право на любовь и солнце, а получаем мы одни пули,– такие стихи наших шестиклассников о бедственном положении африканских детей часто публиковались в «Пионерской правде». Но зал был уже куплен. Каждое его сочинение покрывалось овацией. Человек, произнесший «насрать», выиграл поэтический турнир и резко поднял градус общего взаимного уважения.
Вот в этот миг я и понял, что такое поэзия. Поэзия – это, во-первых, когда несколько десятков добрых, безобидных и бесполезных людей собираются вместе, доказывая друг другу всю беспомощность своего искусства. И во-вторых – это когда на вполне официальном мероприятии, посвященном защите прав человека, веселый и толстый турецкий дед говорит «насрать», утверждая приоритет сисек как высшей общечеловеческой ценности.
И страшная догадка поразила меня. Что, если поэзия – это? Не наши, и мои в частности, натужливые экзерсисы, а вот это, простое как мычание, прозрачное как вода, детское восхищение перед миром, и фермерское самонаблюдение на зимней веранде, и защита прав крокодилов? Что, если жизнь – именно в этом, а не в нашем ежедневном преодолении всего, начиная с себя?
На следующее утро, в Москве, подобные мысли меня уже не посещали. Но весь вечер я был счастлив.
Пусть они меня обязательно позовут на следующий конгресс. Я клянусь добросовестно, ни звуком не осложняя и не усовершенствуя оригинала, переводить все их стихи. Только бы еще раз ощутить детскую прелесть существования, не обремененного всем тем, что в России почему-то называют жизнью и литературой.
2000 год
Дмитрий Быков







