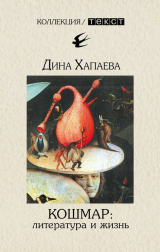
Текст книги "Кошмар: литература и жизнь (СИ)"
Автор книги: Дина Хапаева
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Как будто предвидя такого рода натуралистические прочтения, Достоевский с самого начала предупреждает читателя о том, что нельзя вовсе ничему не удивляться и все принимать на веру:
По-моему, ничему не удивляться гораздо глупее, чем всему удивляться. Да и кроме того: ничему не удивляться почти то же, что ничего и не уважать [442].
Итак, если «Бобок» – не кошмар, то тогда мы сталкиваемся в рассказе с небрежностями и несообразностями, странными и прискорбными для важнейшего произведения выдающего писателя. Эти места в изобилии цитирует Бахтин: «Что? Куда? – приятно хохоча, заколыхался труп генерала. Чиновник вторил ему фистулой» [443] или: «…каким это образом мы здесь говорим? Ведь мы умерли, а между тем говорим; как будто и движемся, а между тем и не говорим и не движемся?» Откуда может быть известно, что «труп заколыхался»? Или что трупы «движутся»? Или играют в могилах в карты? Как и кому это видно – сквозь землю? Или мертвецы – это просто переодетые люди? Но тогда – это фарс или фельетон, который явно «не тянет» на фокус творчества Достоевского. Либо Достоевский был небрежен и не сумел точно выразить то, что хотел сказать, либо то, что он хотел выразить, не подходит под отождествление мертвецов с характерами мениппеи или переодетыми людьми, пороки которых обнажаются благодаря этому переодеванию. Зато все становится на свои места, и нет причины обвинять Достоевского в небрежности письма, если перед нами – кошмар, в котором действуют не просто переодетые жанром люди, а чудовища – и в моральном, и в прямом смысле, – привидевшиеся герою в кошмарном сне.
Бахтин читает «Бобок» исключительно сквозь призму карнавала, что местами оборачивается достаточно вольной трактовкой текста:
Более того, карнавализованная преисподняя «Бобка» внутренне глубоко созвучна тем сценам скандалов и катастроф, которые имеют такое существенное значение почти во всех произведениях Достоевского (…) обнажаются человеческие души, страшные, как в преисподней, или, наоборот, светлые и чистые [444].
Все было бы хорошо, но в «Бобке» нет ни единой «светлой и чистой» души. Интересно, почему? Потому, что Достоевский не верит в существование «чистых и светлых», что, как мы знаем, противоречит всему его творчеству, или потому, что это кошмар, а не мениппея, а в кошмаре «чистым и светлым» нет места? Чтобы еще больше сблизить «Бобок» с мениппеей, Бахтин отождествляет мертвецов с голосами, звучащими «между небом и землей» (хотя автором ясно сказано – «голоса раздавались из-под могил»), а также считает мертвецов зернами, брошенными в землю, «не способными ни очиститься, ни возродиться» [445], хотя Достоевский ничем не намекает в рассказе ни на «вечное возрождение», ни на хтонические мифы.
Важным аргументом в пользу «карнавальности» «Бобка» для Бахтина выступает ироничность рассказа, проникнутого, как считает Бахтин, «подчеркнуто фамильярным и профанирующим отношением к кладбищу, к похоронам, к кладбищенскому духовенству, к покойникам, к самому таинству смерти. Все описание построено на оксюморонных сочетаниях и карнавальных мезальянсах, все оно полно снижений и приземлений, карнавальной символики и одновременно грубого натурализма» [446]. Итак, выходит, что Достоевский использует «грубый натурализм», так сказать, от первого лица? Но ведь все произведение звучит как насмешка над реализмом и натурализмом. Ведь «Бобок» начинается ответом Достоевского на фельетон, опубликованный 12 января 1873 г. в № 12 в «Голосе» о передвижной выставке в Академии художеств, на которой был выставлен портрет писателя работы Перова:
Идеи-то нет, так они теперь на феноменах выезжают. Ну и как же у него на портрете удались мои бородавки, – живые! Это они реализмом зовут [447].
Достоевский откровенно издевается над реализмом. Он не случайно выбирает героем пьянчужку-журналиста, и не случайно герой собирается в конце рассказа снести фельетон в журнал. Так создается и подчеркивается дистанция между ужасом кошмара и фельетоном, контраст между кошмаром последнего вопроса и «прозой быта», между нелепостью жизни и ужасом вечности. В отличие от Фрейда, Достоевский явно считал, что в жутком есть комичное. Страшным сарказмом звучит и фраза рассказчика, не способного – как это ни смешно! – понять, что речь идет и о его собственной судьбе: «Ну, подумал, миленькие, я еще вас навещу», и с сим словом покинул кладбище» [448].
Пафос «Бобка» состоит в саркастическом обнажении нелепой бессмысленности как натурализма, так и социальной сатиры перед лицом экзистенциальных вопросов бытия. Рассказ заканчивается словами: «Снесу в „Гражданин“; там одного редактора портрет тоже выставили. Авось напечатают» [449]. После леденящего ужаса «Бобка» становится очевидно, что вовсе не натурализм и не обнаженная с его помощью «социальная реальность» в состоянии поставить перед человеком самые страшные вопросы.
Кошмар «Бобка» вовсе не ограничивается только засыпанием и пробуждением героя. Помимо говорящих за самих себя мертвецов, в нем находят свое место разные элементы гипнотики кошмара, в частности – невозможность бегства. Ужас от осознания невозможности избежать, исчезнуть, не участвовать в происходящем, не слышать и не слушать, не видеть, не присутствовать делает бегство кошмара – точнее, невозможность спастись – особенно драматичным.
Достоевский показывает в «Бобке» полное отсутствие свободы выбора. Кошмар в том, что мертвец не может избегнуть своей участи – не слушать или уйти, как из жизни. Читатель охвачен безысходным ужасом от того, что как религиозный, так и естественно-научный ответ на последний вопрос бытия равно ничем ему не поможет: этот ужас нельзя рационализировать и объяснить, и поэтому его невозможно отвергнуть или опровергнуть. Попытка религиозного объяснения богохульных разговоров мертвецов в могилах, профетом которой характерным образом выступает лавочник в диалоге с барыней, терпит полное фиаско:
Оба достигли предела и пред судом божиим во гресех равны.
– Во гресех! – презрительно передразнила покойница. – И не смейте совсем со мной говорить! [450]
Ужас «Бобка», в котором кошмар приобретает сугубо материальное звучание, опережая грядущие поиски Лавкрафта, состоит в том, что эта моральная пытка, может быть, и есть вечность.
Оскал готического кошмара, а вовсе не карнавальный смех, жуткий сарказм, а не карнавальная ирония обнажает за суетой жизни страшный вопрос «Бобка»: что, если загробная жизнь есть, но это просто кошмар? Этот вопрос, которому посвящен «Бобок», мучил Достоевского не одно десятилетие: образ вечности как «баньки в пауками» возник под его пером уже в «Преступлении и наказании». Леденящий душу кошмар цинической насмешки «последнего вопроса», от которого нет спасения и который не оставляет надежды [451], составляет суть этого произведения. Отказ от его решения в религиозных терминах, десакрализация и материализация ужаса делают «Бобок» провозвестником готической эстетики в современной культуре.
Звукопись кошмара
«Бобок» – это звукозапись кошмара, предшествующего речи, сосредоточенного в звуке, в чувстве, в стеснении груди:
Со мной что-то странное происходит. И характер меняется, и голова болит. Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как будто кто подде: «Бобок, бобок, бобок!» Какой такой бобок? Надо развлечься [452].
Бобок – бо-бок, бо-бок, – повторение слогов, повторение звука на протяжении всей повести, вызывает теснящее грудь чувство. Недаром это ключевое слово «невинно» по смыслу и совершенно никак не связано с «идеей» повести или с логикой рассказа. Казалось бы, на это стоит обратить внимание! О том, что звукослово «бобок» – это символ бессмысленности бытия при отсутствии и морального и религиозного императива, герой Достоевского говорит прямо:
Все сосредоточено, по мнению его, где-то в сознании и продолжается еще месяца два или три… (…) Есть, например, здесь один такой, который почти совсем разложился, но раз недель в шесть он все еще вдруг пробормочет одно словцо, конечно, бессмысленное, про какой-то бобок: «Бобок, бобок», – но и в нем, значит, жизнь все еще теплится незаметною искрой… [453]
«Бобок, бобок, бобок» затягивает нас в воронку кошмара, возникающую благодаря навязчивому кружению пустого звука, в котором сконцентрировался тяжелый внутренний дискомфорт, переживаемый героем. Это – центральная тема «Бобка», мимо которой, не замечая ее, проходят критики. Голос одного из мертвецов утверждает:
…Только мне кажется, барон, все это уже мистический бред, весьма извинительный в его положении…
– Довольно, и далее, я уверен, все вздор. Главное, два или три месяца жизни и в конце концов – бобок [454].
Разгадкой слова «бобок», с которого начинается весь рассказ и кошмар героя, заканчивается действие рассказа, и в самом конце снова мы слышим сарказм, издевку над неспособностью героя – и своих будущих критиков? – осознать подлинный ужас, сочтя его посторонней нелепицей, этакой незначимой стилистической завитушкой:
Нет, этого я не могу допустить; нет, воистину нет! Бобок меня не смущает (вот он, бобок-то и оказался!). Разврат в таком месте, разврат последних упований, разврат дряблых и гниющих трупов и – даже не щадя последних мгновений сознания! Им даны, подарены эти мгновения… [455]
В звукописи «Бобка» находит свое самое полное выражение и бормотание Голякина, и безмолвие Прохарчина, и заговор «Хозяйки» – все те искания, с которых началась литературная карьера Достоевского. Это – кошмар деградации речи в невыразимую эмоцию, уводящий за пределы языка и воспоизводимого ужаса. Неспособность выразить словами то, что стесняет и давит душу, томит и мучает, то, что Достоевский называет по-разному – то тоской, то червячком, – показывает как беспамятствующее слово превращается в заговор, в бормотание, в звук. Все убыстряясь, оно увлекает в водоворот кошмара, где, утратив остатки смысла, оно обернется мучительным стоном. Но парализованное сознание сновидца не в силах ни вернуть ему значение, ни отвлечься. От повторения звука разрушается рациональная природа слова. Бессмысленное звукослово, авласавлалакавла, навязчивый внутренний «бобок», бегство от которого и выход из которого возможен – когда он возможен – лишь в пробуждение, в наделение звука смыслом, в выговаривание. Неспособность справиться с бессмысленным словом кошмара ввергает в речевое расстройство и безумие.
Бахтин назвал прозу Достоевского «своеобразной лирикой, аналогичной лирическому выражению зубной боли» [456]. Достоевский действительно выражает боль, но боль, рожденную предчувствием и переживанием кошмара.
Значимость звукописи кошмара для Достоевского косвенно подтверждается тем, что ни в «Двойнике», ни в «Прохарчине», ни в «Хозяйке», нигде не звучит музыка. Музыка не сопровождает разговор Ивана с чертом, не звучит она и в кошмаре «Бобка», что нельзя не признать, конечно, некоторым отступлением от правил, нарушением канона. На самом деле, музыка не играет практически никакой роли в произведениях Достоевского, хотя, как утверждают биографы, Достоевский не был вовсе к ней нечувствителен.
Эту лакуну кошмароведения помогает заполнить Бахтин, указывающий на редкое место у Достоевского, где музыка все-таки появляется. Показателен сам путь, которым Бахтин приходит к этому обнаружению. В его рассуждения о кошмаре Ивана властно вторгаются музыкальные аллюзии, исток которых он начинает искать и находит в одном месте в «Подростке». Конечно, Бахтин видит в музыке только «художественное оформление» диалога:
Здесь же нам хочется привести одно место из Достоевского, где он с поразительной художественною силою дает музыкальный образ разобранному нами взаимоотношению голосов. Страница из «Подростка», которую мы приводим, тем более интересна, что Достоевский, за исключением этого места, в своих произведениях почти никогда не говорит о музыке. (…) Часть этого музыкального замысла, но в форме литературных произведений, бесспорно, осуществлял Достоевский, и осуществлял неоднократно на разнообразном материале [457].
К этому предложению в тексте Бахтина следует ссылка на «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, из которой мы узнаем еще точнее, о какой именно музыке идет речь. Так вот, Манну, как и другим критикам и читателям Достоевского, не ослепленным идеей диалога, слышалась в его прозе инфернальная готическая музыка кошмара:
Правда, предшествующие кошмары полностью перекомпанованы в этом необычайном детском хоре, в нем совершенно другая инструментовка, другие ритмы, но в пронзительно-звонкой ангельской музыке сфер нет ни одной ноты, которая, в строгом соответствии, не встретилась бы в хохоте ада [458].
То, что пытались выразить авторы готического романа, что укоренилось в современной литературе в виде инфернальной музыки кошмара, есть звук обезумевшего слова, слова, утратившего свою природу. Не поняв и не исследовав глубинные истоки кошмара, авторы готического романа, как и их последователи, заменяли неясные, но тягостные впечатления звуками оркестра. Ближе других к пониманию звукописи кошмара подошел внимательный кошмаровед Лавкрафт, почуявший в кошмаре странные, мучительные и беспамятные звуки не музыкальной, а иной природы.
Достоевский исследовал, как кошмар похищает смысл слова, низводя его до животного стона. Инфернальная музыка и не звучит в его произведениях, чтобы ненароком не заглушить подлинный звук кошмара – звук беспамятствующего слова.
Невыразимость кошмара словами – это общее место и литературы, и наших собственных переживаний. Факт, который был хорошо известен уже фараону из легенды о Прекрасном Иосифе. Можно возразить, что передать любую эмоцию – весьма трудная задача. Но почему-то писатели обычно не настаивают на принципиальной невыразимости любви, страха и т. д. Фразы: «О, если б мог выразить в звуке всю силу страданий моих» или «Он был охвачен невыразимым ужасом», конечно, указывают лишь на силу этих чувств, а вовсе не на их принципиальную некоммуницируемость. Можно ли предположить, что в кошмаре есть нечто принципиально не поддающееся выражению?
Невыразимость сна прямо описывается Достоевским в «Сне смешного человека»:
«О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись (…) О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж кончено, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать» [459].
Нужно ли объяснять читателю, что этот сон тут же обернулся ужасным кошмаром? И что герой «потерял слова» и оказался неспособен высказать свой кошмар?
«После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники не понимают: „Сон, дескать, видел, бред, галлюцинации“. Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон! Что такое сон? А наша-то жизнь не сон?» [460]
О неизъяснимости сна размышляли и другие писатели, которых интересовала природа кошмара. Как мы помним, эта особенность кошмара волновала Лавкрафта. Стремление передать кошмар, потребность поделиться важным внутренним духовным опытом, разобраться в важном факте духовной жизни наталкивается на неспособность справиться с этой задачей. О ней много и подробно размышлял Томас Манн [461], рассуждавший о том, как слова губят сны:
«(…) а ведь известно, увы, как блекнут подобные сны от слов, превращаясь в мумию, в засохшее и запеленатое подобие того, чем они были, когда они снились, когда зеленели, цвели и плодоносили, как та виноградная лоза, что предстала передо мной в моем сне…» [462]
Неописуемость кошмара – тема, к которой настойчиво возвращаются пишущие о нем авторы. Как если бы наш язык был приспособлен передавать и записывать только рационально выразимое, не-удивительное, избирая его из многообразия мира!
Принципиальная невыразимость кошмара способна создать ситуацию, когда любое слово лишается смысла и безвозвратно превращается в звук, утративший значение, в звукопись, в кошмар словесной бессмыслицы.
Опасность этого состояния, которое так хорошо знакомо каждому, кто пытался пересказать свой кошмар, состоит в его пограничности, в его балансировании над пропастью без-умия. За-говор и бормотанье кошмара способны стать входом в кошмар наяву.
В этом заключается связь кошмара и сумасшествия, которую анализировал Достоевский в «Двойнике», «Прохарчине», в «Хозяйке», в «Кошмаре Ивана Федоровича», в «Сне смешного человека», в «Бобке» и в тех многочисленных кошмарах, которые играли столь важную роль в жизни героев его других произведений.
Изгнанный за пределы «замкнутой вселенной символов» [463], кошмар, как варварская орда у городских стен, несет в себе постоянную угрозу. Язык, стоящий на страже этого не поддающегося вербализации опыта, не дает кошмару завладеть сознанием. Но когда под напором эмоций кошмара, которые разуму не удается выразить словами, контраст между словом и чувством становится неразрешимо острым, а пропасть между ними – болезненной, кошмар материализуется в безумие.
Язык повседневной речи делает практически неузнаваемыми образы кошмара. Для того чтобы передать кошмар, выдающимся писателям требовались особые приемы гипнотики, которые даже трудно назвать языковыми. Чтобы отобразить кошмар, им приходилось сражаться с линейностью речи и с темпоральностью линейного рассказа, с логикой, заключенной в языке.
Достоевский работает с особым измерением кошмара. Его интересует соотношение между кошмаром и словом, и благодаря этому он вскрывает особый способ развития кошмара. Его исследование посвящено той грани, за которой бьющееся в конвульсиях кошмара слово утрачивает смысл, превращается в обезумевший звук.
4
ПРОРОЧЕСТВО
Приснилась неизвестная Маргарите местность – безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка, безрадостные, нищенские полуголые деревья, одинокая осина, а далее, – меж деревьев, за каким-то огородом, – бревенчатое зданьице, не то оно – отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!
И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но он отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась. М. Булгаков
Толкование кошмара. Томас Манн. «Иосиф и его братья»
Помимо интереса к кошмару, между нашими авторами – Гоголем, Достоевским и Томасом Манном (поклонником Достоевского и читателем Гоголя) – есть и другое сходство. H. В. Гоголь был, как известно, крайне суеверен, вероятно унаследовав эту черту от своих набожных родителей, веривших в пророческие сны. Ф.М. Достоевский верил в свою способность предсказывать будущее – вполне возможно, именно поэтому пророческие сны периодически снились его героям. Томас Манн верил в то, что он родился под счастливой звездой, как это следовало из гороскопа, составленного в день его появления на свет. Он сравнивал себя в этом с Гете и, как известно из его переписки, оделил Прекрасного Иосифа, – красивого и прекрасного сновидца, любимца Иакова, рожденного им от праведной Рахили, которого завистливые братья сначала бросили в колодец, в затем продали в Египет, где он, через много лет, смог разгадать сны фараона и спасти великую страну от голода, безмерно возвыситься и стать правой рукой фараона, – точно таким же гороскопом, каким обладал сам. Манн верил в магию чисел и дат своей биографии и считал, что обладает даром пророчества, во всяком случае, применительно к своей собственной судьбе. По воспоминаниям его сына Голо, «число 7 он считал своим числом и располагал важнейшие для себя веши так, чтобы они совпадали с семеркой, – например, Ганс Касторп остается в Давосе на семь лет; или, например, он сам верил и предсказал в одном автобиографическом очерке, что умрет семидесяти лет от роду» [464].
В пасти истории
Не диво, ибо на сей раз это путешествие в ад! В глубокое, очень глубокое жерло спустимся мы, бледнея, в бездонный и непроглядный колодец прошлого. Отчего мы бледнеем? Отчего у нас колотится сердце… и не только от любопытства, но и от плотского страха? Разве минувшее не родная стихия рассказчика, разве прошедшее время глагола для него не то же, что для рыбы вода? (…) Потому, наверное, что та стихия минувшего, к которой мы привыкли и которая нас так далеко, весьма далеко уносила, отличается от того прошлого, в какое мы сейчас дрожа погружаемся, – от прошлого жизни, от исчезнувшего, умершего мира, куда и наша жизнь будет уходить все глубже и глубже и куда уже довольно глубоко уходят ее начала. Умереть – это значит, конечно, утратить время и выйти из времени, но это значит обрести взамен вечность и вездесущность, то есть действительно жизнь. Ибо суть жизни – настоящее, и только в мифическом преломлении тайна ее предстает в прошедшем и будущем временах. Это как бы популярная форма самораскрытия жизни, а тайна ее принадлежит посвященным. (…) Мы причащаемся смерти и познанию смерти, отправляясь в прошлое, на правах авантюристов-повествователей, и отсюда наше любопытство и испуганная бледность… [465]
Разверстая пасть колодца, жерло засасывающей воронки, при одной мысли о бесконечной глубине которой кружится голова, воронки, куда нас влечет, наперекор инстинкту самосохранения и здравому смыслу, мучительное любопытство, характерное сердцебиение, частый спутник кошмара, ужас поджидающей там, внизу, преисподней – случайно ли под пером Манна возникает этот, так хорошо знакомый нам образ? Куда влечет нас этот спуск? Откуда, действительно, не только эта испуганная бледность, но и колотящееся, как у всякого сновидца, застигнутого кошмаром, сердце? Почему Манну потребовалось наполнить образ истории знакомыми нам элементами гипнотики кошмара?
Томас Манн многократно говорит на страницах «Иосифа» о том, что начала истории, сошествие в глубь веков – это «путешествие в ад», конечно, не в христианский ад, но в древность, которая есть синоним первородного кошмара, населенного чудовищными динозаврами [466]. Ибо в началах истории, теряющихся в бесконечности, где уже нет никаких начал, была катастрофа.
И правда, становится все несомненней, что смутные воспоминания человечества, бесформенные, но приобретающие в мифах все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание о которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется в глубь времен [467].
История человечества, предстающая как история катастроф, – мысль, которая, особенно по мере погружения Германии в мрак фашизма, не перестает занимать Манна, – оправдывает сходство истории с уже свершившимся наяву кошмаром, но, как мы увидим, не исчерпывает его.
Ибо интуиция Манна способна увести еще дальше: ведь, погружаясь в историю, мы имитируем путешествие назад во времени. Историописание позволяет нам смоделировать опыт переживания обращенного времени, – времени, текущего вспять. И не в том ли состоит притягательность истории, что, симулируя в комфортных условиях и безо всякого очевидно риска это путешествие назад во времени, против потока времени, мы под видом позитивного знания воспроизводим переживание глубинного внутреннего иррационального опыта – опыта кошмара? Спускаясь в глубь времен мы попадаем, в точном смысле слова, не в свое время.
Возможно, именно этот опыт разложения кошмара историей, попытку его приручить и рационализовать, Полю Рикеру следовало бы назвать «историографической операцией» [468]. Не непосредственный страх перед смертью как причина тяги к истории, о чем много размышляли европейские интеллектуалы от Фридриха Ницше до Люсьена Февра, а стремление поставить под контроль другой, не менее значимый внутренний неконтролируемый опыт, который равно близок и к безумию, и к смерти, – не это ли один из истоков «исторического чувства»?
У истории и кошмара в изложении Томаса Манна обнаруживается еще одно удивительное сходство: жерло колодца времени изрыгает чудовищ. Порождения кошмара, чудища со звериными головами на человеческих телах, оказываются… древними богами!
Это до одухотворенности, до призрачности далекое прошлое, ставшее уже мифом и богословием, сделалось предметом почтительного поклонения, приняв образ определенных животных, нескольких соколов и шакалов… [469]
Священные монстры, ужасы мифа, все эти Тоты, Анубисы, а также античные Гидры, Тифоны и Минотавры – так воплотился кошмар в мифе, так в древности он нашел способ материализоваться, отлиться в определенные формы [470]. «Во времена зарождения культуры, – писал Ницше, – человек поверил в то, что открыл в сновидениях вторую реальность, – таково происхождение метафизики. Без сновидений человеку никогда не удалось бы изобрести такого разделения мира. Отделение души от тела – еще одна интерпретация снов, так же как и вера в призраков и, возможно, в богов».
Томас Манн, поклонник Ницше, не просто размыто намекает на такую связь: кошмар Иакова позволяет нам увидеть, как из сна соткался бог Ануп, чтобы поведать Иакову страшное пророчество, понять и распознать которое отец Иосифа смог только много позже. Ибо, как и Усир перепутал Небтот, жену Красного Бога смерти, с Исидой, своей женой, и зачал с ней Анупа, так же и сам Иаков, обманутый тестем Лаваном, совокупился с некрасивой старшей сестрой Лией в ночь своей свадьбы, а не с красавицей Рахилью.
Сейчас мы увидим, как мифологическое чудовище рождается из духа кошмара, а «сон разума рож дает чудовищ»:
Иакову примерещилось, будто бегство его из дому не то продолжается, не то повторяется; будто он снова должен въехать в красную пустыню, а впереди него, лежевесно вытянув хвост, трусит рысцой остороухий, с головой пса, оглядывается и посмеивается; все это одновременно продолжалось и повторялось; не получив некогда настоящего развития, эта ситуация восстановилась, чтобы найти завершение. (…) Нечистый зигзагами обегал валуны и кусты, исчезал за ними, показывался опять и оглядывался. Когда тот однажды исчез, Иаков прищурился. И только он прищурился, как это животное оказалось вдруг перед ним: оно сидело на камне и все еще было животным, если судить по его голове, скверной собачьей голове с навостренными ушами и клювообразной вытянутой мордой, оскал которой доходил до ушей; но тело, вплоть до почти незапылившихся пальцев ног, было у него человеческое и приятное для глаза, как тело тонкого и легкого мальчика. (…) Но уже на узких плечах, на верхней части груди и на шее у бога росли волосы, переходившие в глиняно-желтую шерсть песьей головы с широким разрезом пасти и маленькими, злобными глазками, головы, которая подходила к нему так, как может подходить безобразная голова к статному телу, каковое она печальным образом обесценивает, так что все это, нога, и грудь, только могли бы быть миловидны, но при этой голове миловидны не были. К тому же, подъехав поближе, Иаков услышал во всей его остроте едкий шакалий запах, самым печальным образом исходивший от этого полупса-полумальчика. И уж совсем печально и странно, когда тот раскрыл свою пасть и заговорил надсадным, гортанным голосом:
– Ап-уат, Ап-уат.
– Не затрудняй себя, сын Усири, – сказал Иаков. – Я знаю, что ты Ануп, проводник и открыватель дорог. Я бы удивился, если бы не встретил тебя здесь.
– Это была ошибка, – сказал бог.
– Ты о чем? – спросил Иаков.
– Они породили меня по ошибке, – пояснил тот, надсаживая свою пасть, – владыка запада и моя мать Небтот [471].
Мы неоднократно встречались и на страницах литературных произведений, и в наших кошмарах с чем-то, подобным Анупу. Ануп кошмара Иакова кажется ближайшим родственником волка с телом человека, покрытым редкой рыжеватой шерстью, который в кошмаре гонится за ребенком по болотистой, поросшей чахлыми деревцами местности. Впереди – покрытое коркой льда озерцо, в которое бросается ребенок в надежде на спасение, он плывет в неожиданно теплой воде, и, когда, с трудом цепляясь за кочки и траву берега, он выползает наверх, счастливый, что удалось спастись, из снежной вьюги прямо перед ним вырастает оборотень, от которого можно только проснуться.
Оборотень Ануп, привидения, нелюди и другие детища кошмара – например, гоголевский нос – страшны не просто своим уродством, но тем, что они воплощают собой без-образие, отсутствие образа, и именно это без-образие так ужасно и пугающе в кошмаре. Может быть, это и не образы в полном смысле слова? Ведь хоть мы и видим во сне незабываемо яркие картины, в них ценен их «флюид», их удивительная живость, как подчеркивал чашечник фараона [472].
Значит ли это, что важен не образ сам по себе, а наши ощущения, которые не передаваемы ни словами, ни красками? Передать которые можно, только соединив несоединимое, так, чтобы в своей чудовищной нелепости они стали «божественными» – или «гениальными»? И Гоголь, и Манн, описывая образы кошмара, стремятся не описать наружность того, что мы должны «увидеть», а воспроизвести, с помощью образов и слов, эмоции, которые мы должны испытывать, вызвать у нас определенную эстетическую реакцию – смесь восторга и ужаса, притягательности и отвращения.
Соединение несоединимого в «Носе» – органа и господина в нечеловеке, соединение прекрасного и безобразного в образе Анупа, заставляет нас вернуться к особому свойству кошмара – его родству с категорией возвышенного, о чем мы уже упоминали в связи с творчеством Лавкрафта. Восторг и ужас, о которых мы говорим, пытаясь передать кошмар, как мы точно знаем, непередаваемы. Да и в самом деле, помним ли мы их, или нам это только кажется? Может быть, эти образы и эти категории есть единственные доступные нам средства, с помощью которых наш разум рационализирует кошмар? К сочетанию прекрасного и безобразного, восторгу и ужасу, того, что «без меры», неоднократно возвращается Томас Манн, описывая кошмары своих героев. В кошмаре Иосифа, во время полета в лапах орла-архангела к божественному престолу, где он был «возвышен без меры», его сердце «было полно ужасающей радости» [473]. От безмерности восторга у Иосифа в кульминационный момент его вознесения загорелись волосы и кости. В другом сне, страшно разозлившем братьев Иосифа, в котором их снопы, поставленные в круг, кланялись снопу Иосифа, тоже была «радостная жутковатость и жутковатая радостность» [474]. Об этом же возвышенном сочетании ужаса и восторга говорится и во сне Авраама: «И тут напал на него сон, непохожий на сон, и охватил его ужас и мрак. И Господь говорил с ним во сне и дал ему увидеть дали мирские и царство, что вышло из семени его духа» [475]. Может быть «то, что без меры» и есть самая точная формула кошмара и способ передать его невыразимость?








