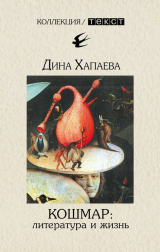
Текст книги "Кошмар: литература и жизнь (СИ)"
Автор книги: Дина Хапаева
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Задача, которую Достоевский поставил перед собой в «Двойнике», поистине беспрецедентна: передать средствами литературы невербальный опыт, отобразить эмоцию до ее выражения в языке.
Ф.М. Достоевский. «Хозяйка» и «Господин Прохарчин»
Среди кузнечиков беспамятствует слово. О. Мандельштам
Обоснованность такой интерпретации творчества Достоевского подтверждается его последующими работами. Непосредственно вслед за «Двойником» появляются еще две вещи: «Господин Прохарчин», написанный весной 1846 г. и опубликованный в октябре 1846 г., и «Хозяйка», написанная осенью 1846 г. и опубликованная в октябре и декабре 1847 г. Все эти произведения неразрывно связанны друг с другом единством замысла – они продолжают исследование невыразимой внеязыковой природы кошмара, начатой в «Двойнике» [347].
На это можно было бы возразить, что впоследствии проза Достоевского сильно изменится, что в его более поздних произведениях кошмар перестанет быть главной темой и что хотя кошмары навсегда останутся предметом его неусыпного внимания, его герои разговорятся и из охваченных немотой сновидцев превратятся в обуреваемых страстями людей.
Вполне возможно, что на такой эволюции замыслов жившего литературным трудом писателя сказались воля издателей, необходимость считаться со вкусами публики, а также слепота критики – ведь поначалу Достоевский считал, что Голядкин ему «удался донельзя» [348], а затем переменил свою опенку. Как знать, если бы кружок Белинского не подверг Достоевского травле, если бы критика Анненкова не была столь грубой и несправедливой, может быть, «психологический роман» родился бы на полстолетья раньше? [349]
Поэтому особенно драгоценны для нас первые литературные опыты, в которых мирские соображения еще не довлели над молодым автором, уже уверовавшим было в свою гениальность. Их исключительная значимость для понимания его творчества тем более очевидна, что к этим замыслам молодости писатель вернется, когда станет живым классиком. В отличие от Гоголя, Достоевский не прервал свои исследования кошмара. Напротив, в конце творческого пути он возвращается к теме кошмара в еще более радикальной форме в «Братьях Карамазовых», «Бобке» и «Сне смешного человека».
Немой герой
(…) повесть «Господин Прохарчин» (…) даже и почитателей таланта г. Достоевского привела в неприятное изумление. В ней сверкают искры таланта, но в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю… Не вдохновение, не свободное и наивное творчество породило эту странную повесть, а что-то вроде… как бы сказать? Не то умничанья, не то претензии… иначе она не была бы такою вычурной, манерною, непонятною, более похожею на какое-нибудь истинное, но странное и запутанное происшествие, нежели на поэтическое создание. В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного… В.Г. Белинский.
Читателя не удивит, что по прочтении «Господина Прохарчина» Белинский снова критиковал Достоевского за повторы, натянутость и недостатки стиля. Добролюбов пошел еще дальше: превратил Прохарчина – скудоумного скрягу-писаря, умирающего в повести от кошмара, – в вольнодумца, ниспровергателя социальных основ и критика николаевского режима. Если считать «Прохарчина» гибридом Пугачева со скупым рыцарем, очевидно, что это – слабое произведение, в котором в лучшем случае видны только «проблески гения».
Самым проницательным читателем этой повести вновь оказывается Анненский. Он понял, что у повести была весьма специфическая задача: отразить не социальную реальность, а «(…) творческие сны, преображавшие действительность». И, добавляет Анненский, «сны эти требовали от него (Достоевского. – Д.Х. ) (…), чтобы он воплотил их в слова». К сказанному Анненским следует сделать лишь одно существенное дополнение: сны эти были кошмарами.
«Господин Прохарчин» – это радикальное развитие проекта «Двойника»: изобразить, посредством художественного слова, неотобразимый в языке и языку предшествующий внутренний процесс, ментальное состояние. Ибо с точки зрения «самосознания героя» г-н Прохарчин еще более безнадежен, чем г-н Голядкин. Он уже практически вовсе не владеет даром речи, о чем прямо и недвусмысленно сообщает нам автор. Даже пока он находится в здравом уме, его бормотание трудно разобрать, а уж тем более в бреду, в котором герой пребывает большую часть действия повести. Достоевский изначально отметает любые попытки рассматривать Прохарчина не только как человека, способного к углубленному самоанализу, но и вообще как «разумное существо», и совершенно недвусмысленно характеризует своего героя следующим образом:
(…) ибо неоднократно заметно было, что Иван Семенович (…) походит более на тень разумного существа, чем на то же разумное существо [350].
Мало того: практически на протяжении всего повествования герой находится в горячке кошмара, от которого потом и умирает:
Полусон, полубред налегли на отяжелевшую, горячую голову больного; но он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели своей, словно заяц припадает от страха к земле, заслышав охоту [351].
Единственное, что способны передать его бред и бормотание, это переживание кошмара. Но как раз в этом и заключалась задача Достоевского:
Долгое время из уст его сыпались слова безо всякого смысла, и наконец только разобрали, что Семен Иванович, во-первых, корит Зиновия Прокофьевича одним его давнопрошедшим скаредным делом; потом распознали, будто Семен Иванович предсказывает, что Зиновий Прокофьевич ни за что не попадет в высшее общество, а что вот портной, которому он должен за платье, его прибьет (…) за то, что долго мальчишка не платит, и, что «наконец, ты, мальчишка, – прибавил Семен Иванович, – вишь, там хочешь в гусарские юнкера перейти, так вот не перейдешь, гриб съешь, а что вот тебя, мальчишку, как начальство узнает про все, возьмут да в писаря отдадут; вот, мол, слышь ты, мальчишка!» [352]
Задумайтесь – если бы вы, читатель, решили представить самосознание героя, которое к тому же должно раскрывать некоторую «идею», пришло ли бы вам в голову создать именно такого? Разве не понадобился бы вам если уж не психически нормальный герой, то хотя бы более многословный? Способный на большее, чем вот такой монолог:
…ты, мальчишка, молчи! празднословный ты человек, сквернослов ты! Слышь, каблук! князь ты, а? понимаешь шутку? [353]
Анненский, который хоть и считал, что Прохарчин умер не от кошмара, а от страха перед жизнью, обратил особое внимание на бормотание героя. Он отмечает, что язык Прохарчина «ворочается при этом так бестолково и намалывает вместо того, что хочет сказать его обладатель, столько дрянного и ни на что не нужного хлама…». Он очень точно уловил эволюцию героя Достоевского от Голядкина к Прохарчину и особо отметил, что в образе Прохарчина писателя интересовали как раз эмоции, переживания, которые стоят за словами, но не находят в них своего выражения:
Прохарчин не умеет говорить. Он лишен не только слащавой и робкой витиеватости Девушкина, но даже спутанного бормотанья Голядкина. Самые слова выводятся у Прохарчина наружу каким-то болезненным процессом: они суются, толкутся, не попадают на место и теряют друг друга в бессмысленной толчее, – да и слов-то самих не много. И так как только сильное возбуждение заставляет Прохарчина говорить, то его прерываемый собеседником монолог состоит сплошь из междометий или, точнее, из слов, которые сделались междометиями, благодаря эмоции, управляющей их извержением [354].
В отличие от подавляющего большинства критиков, Анненский придавал бормотанию Прохарчина смысл и значение:
Разве речь Прохарчина, в сущности, не превосходный символ того хаоса бессознательно набираемых впечатлений, которые дает писцу привычно-непонятная, постыло-ненужная и уже тем самым страшная бумага? [355]
Однако Анненский считал это результатом службы Прохарчина в канцелярии, а бред и смерть Прохарчина – следствием «…непосильной для наивной души борьбы с страхом жизни». В любом случае он понимал важность «Прохарчина» в творчестве Достоевского и относился к этому произведению нетипично для критиков серьезно [356].
В «Прохарчине» Достоевский продолжает создавать, выбрав себе для этого практически немого героя, звукопись кошмара, распознавать болезненный внутренний процесс, это предшествующее кошмару и провоцирующее его состояние. Он исследует рождения кошмара из гомункулов деградирующих слов, всматривается в слово, корчащееся в бессилии передать неподвластный внутренний опыт подопытного героя, эмоции, бьющиеся у пределов выразимого. Внутреннее бормотание, которое затягивает в кошмар и само превращается в кошмар наяву:
С своей стороны, Семен Иванович говорил и поступал, вероятно, от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались наконец вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, – отвечал он теперь, – детина, гулявый ты парень! А вот как наденешь суму, – побираться пойдешь; ты вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец! (…) Ты, слышь, дела ты не знаешь, потаскливый ты человек, ученый ты, книга ты писаная! А вот возьмешь, сгоришь, так не заметишь, как голова отгорит, вот, слышал историю?» [357]
Давящийся словами Прохарчин – опять же крайне отвратительный тип, скряга и тупица – представляет собой идеальный персонаж для исследования того, как ищет и не находит выход в слово предречевая, оголенная эмоция переживания кошмара. В этом усовершенствованном, по сравнению с Голядкиным, герое устранены все помехи, какими могли бы стать красноречие, образованность или саморефлексия. И хотя всех этих качеств Голядкин был лишен тоже, он все-таки оставался более сложным персонажем по сравнению с низведенным до простейших эмоций Прохарчиным. Перхота «набивных слов» передает нам пограничное состояние сознания на грани кошмара и обнажает «простейшее состояние сознания», когда бессмыслица слов открывает засасывающую воронку кошмара. Кружась и множась в тягостном внутреннем бормотании, бессмысленное слово парализует сознание, ввергает его в круговорот катастрофы.
Как и в «Двойнике», читатель призван распознавать в метаниях этого отвратительного типа знакомый ему внутренний процесс и наблюдать со стороны, как переживается этот опыт. Вспомним, что и в «Шинели» Гоголя Акакий Акакиевич тоже практически ничего не говорит – не может сказать. Возможно, Гоголь тоже подошел к этой кромке кошмара?
Бегство в кошмаре Ивана Семеновича Прохарчина
Мы уже говорили, что Прохарчин в основном лежит в горячечном бреду. Только сквозь призму его кошмара мы и узнаем о событиях повести, происходящих в литературной реальности. В этой повести мы тоже обнаруживаем все элементы гипнотики кошмара, начиная от гоголевских пробуждений и до парадигматического бегства:
Испугавшись, он принялся бежать, ибо показалось ему, что лысый господин воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие (…) Прохарчин бежал, бежал, задыхался… рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей (…) Так же как и тогда наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа (…) Семен Иванович видел все так же и по-тогдашнему чувствовал; в вихре горячки и бреда начали мелькать перед ним разные странные лица [358].
Как и в других классических кошмарах, вихрь, стремительное круговое движение обрывает привычное восприятие времени.
Достоевский внимательно прослеживает, как непонятная скороговорка, глубокая бессмыслица странного за-говора становится кульминацией, переломной точкой, которая втягивает героя в водоворот кошмара, закручивает роковую для героя погоню. Именно момент, когда сновидец слышит, как бедная баба твердит свою бессмыслицу, открывается вход в самый страшный, мучительный кошмар. Глубокая бессмыслица внешне совершенно не страшной самой по себе скороговорки «дети и пятаки, пятаки и дети» – авласавлалакавла, Мадагаскар – превращается в переломный момент повествования, в момент, когда на Прохарчина нападает настоящий ужас, а его кошмар становится необратим и переходит в предсмертную горячку бреда.
Скороговорка повторяющегося слова, утратившего смысл, становится еще опаснее точки концентрации внимания, отдавая сознание спящего во власть безысходного ужаса:
Но всего внятнее явилась ему та бедная, грешная баба, о которой он уже не раз грезил во время болезни своей (…) Она кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае два пятака. Дети и пятаки, пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились, после тщетных усилий понять. (…) Наконец, г-н Прохарчин почувствовал, что на него начинает нападать ужас, ибо видел ясно, что все это как будто неспроста теперь делается и даром ему не пройдет. (…) Толпа густела и густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, г-н Прохарчин вдруг припомнил, что мужик – тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом (…) Он чувствовал, что вся разъяренная толпа обвивает его подобно пестрому змею, давит, душит. Он сделал невероятное усилие и – проснулся. Тут он увидел, что горит, горит весь его угол, горят его ширмы, вся квартира горит, вместе с Устиньей Федоровной и со всеми ее постояльцами (…) Семен Иванович вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою. Но в хозяйкиной комнате, куда было забежал наш герой так, как был, без приличия, босой и в рубашке, его перехватили, скрутили и снесли обратно за ширмы, которые, между прочим, совсем не горели, а горела скорее голова Семена Ивановича, и уложили в постель [359].
Заговор
Не знаю, писал ли я вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка» – ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлинского с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя. Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение – новое падение. В.Г. Белинский
Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души… Ф.М. Достоевский. Из письма М.М. Достоевскому о «Хозяйке»
Когда, несмотря на все усилия поздно спохватившегося Белинского, Достоевский все-таки был признан неоспоримым классиком мировой литературы, перед критиками возникла нелегкая задача – придать дидактический смысл раннему периоду его творчества, в частности повести «Хозяйка». Вульгата литературоведения справилась с этой задачей, представив повесть как «зарисовку к борьбе „вековых типов“, как образчик „неистового романизма в четкой оправе петербургского очерка натуральной школы“» [360]. А если кому-то из критиков и казалось, что «от воспаленной экзальтации действующих лиц остается воспоминание мучительного кошмара», то они гнали эти ассоциации от себя прочь [361].
Действие повести происходит в доме Кошмарова [362], где молодой ученый Ордынов снимает комнату у странной пары – подозрительного старика Мурина, слывущего колдуном, и его красавицы жены. Вскоре с юношей, влюбившимся в свою хозяйку, начинают твориться странные вещи: ему снятся удивительные и страшные кошмары.
Гипнотика кошмара представлена в «Хозяйке», словно в демонстрационном зале. В повести обнаруживаются все ключевые элементы, уже испробованные автором в «Двойнике» и в «Прохарчине». Счастливая греза, как и положено в настоящем кошмаре, сменяется ужасом в тот момент, когда сновидец оказывается не в состоянии отвести взгляд от страшного старика, похожего на его загадочного соседа. Оцепенение – следствие уже многократно описанной нами концентрации внимания, сосредоточенного взгляда – повергает сновидца в беспамятство:
То как будто наступали для него опять его нежные, безмятежно прошедшие годы первого детства, с их светлою радостию (…) с роями светлых духов, вылетавших из-под каждого цветка (…) Но тут вдруг стало являться одно существо, которое смущало его каким-то недетским ужасом (…) он смутно чувствовал, как неведомый старик держит во власти своей все его грядущие годы, и трепеща, не мог он отвести от него глаз своих. Потом, во время сна, злой старик садился у его изголовья… Он отогнал рои светлый духов (…) и стал по целым ночам нашептывать ему длинную, дивную сказку, невнятную для сердца дитяти, но терзавшую, волновавшую его ужасом и недетскою страстью. Но злой старик не слушал его рыданий и просьб и все продолжал ему говорить, покамест он не впадал в оцепенение, в беспамятство [363].
Самым интересным свойством этого кошмара является роль, которую играет в его формировании и развитии слово – рассказ, за-говор, сказка, которую рассказывает старик и из-за которой Ордынов попадает в плен своего кошмара. У этой сказки с самого начала нет никакого смысла – по крайней мере, Достоевский ничего не говорит нам относительно ее содержания. Но мы знаем, что сказка – это обязательные повторы и сюжетных ходов, и совестных формул. Не потому ли под нее так хорошо засыпают дети? Повторяющееся бормотанье слова, готового оторваться от своего смысла и начать кружиться, повинуясь формуле кошмара, слова, утратившего значение и ставшего звучанием, ритмом, передающим лишь ощущения, но не смысл, слово, из которого изъято его рациональное содержание, превращается здесь в орудие кошмара. Достоевский заставляет нас переступить порог и оказаться лицом к лицу с неясной – и не имеющей смысла – изнанкой языка, с за-говором, «сказкой», в которой нам внятно только неясное бубнение, мелодия повторяющихся звуков, набор слов, вызывающих знакомые с детства смутные и мучительные в своей непередаваемости ощущения. Так сказка с ее повторами и кружениями оказывается у Достоевского способом вовлечения в кошмар.
Есть в «Хозяйке» и хорошо знакомое нам гоголевское пробуждение, без которого, конечно, не может обойтись ни один полноценный литературный кошмар:
«Долго не мог узнать он часа, когда очнулся. Были рассвет или сумерки: в комнате все еще было темно. Он не мог означить именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон его был сном болезненным. Опомнясь, он провел рукой по лицу, как будто снимая с себя сон и ночные видения (…) Голова его болела и кружилась, и все тело обдавало то мелкою дрожью, то пламенем» [364].
Есть и оцепенения, онемения героя, которые становятся главной эмоцией сновидца. Есть и катастрофа соскальзывания в ужасную темпоральность кошмара. Но главным остается звук беспамятствующего слова:
(…) и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая, длинная сказка, и начала ее тихо, чуть внятно, про себя, какая-то старуха, печально качая перед потухающим огнем своей белой, седой головой. Но – и опять ужас нападал на него: сказка воплощалась перед ним в лица и формы. Он видел, как все, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось кругом него; видел, как раскидывались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отживали в глазах его целые народы, как воплощались, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощались почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во всем этом бесконечном, странном, невыходимом мире и как вся эта жизнь, своею мятежною независимостью давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной иронией; он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки веков; он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. Наконец, в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся…
Он проснулся, весь облитый холодным, ледяным потом. Кругом стояла мертвая тишина; была глубокая ночь. Но все ему казалось, что где-то продолжается его дивная сказка, что чей-то хриплый голос действительно заводит долгий рассказ о чем-то как будто ему знакомом. Он слышал, что говорят про темные леса, про каких-то лихих разбойников, про какого-то удалого молодца, чуть-чуть не про самого Стеньку Разина, про веселых пьяниц-бурлаков, про одну красную девицу и про Волгу-матушку. Не сказка ли это? Наяву ли он слышит ее? Целый час пролежал он, отрыв глаза, не шевеля ни единым членом, в мучительном оцепенении. Наконец, он привстал осторожно (…) Бред прошел, начиналась действительность [365].
Что особенно тягостно для героя в переживании кошмара? Бесплотность усилий, бесплодность кружения в гибельном и бессмысленном кругу превращений целых народов, к которому он сам не имеет никакого отношения [366]. Время кошмара и круговерть его безотрадной вечности играет с Ордыновым злые шутки. Концентрация внимания на полоске света тоже «работает» в гипнотике кошмара: герой «добрался до щели, из которой выходил кое-как свет в его комнату. Он приложил глаз к отверстию и стал глядеть, едва переводя дух от волнения» [367].
И хотя быт героев описан по-гоголевски достоверно, правдоподобие как бы вовсе перестает заботить Достоевского, и причинно-следственные связи рушатся здесь еще более решительно, чем в «Двойнике». Герою, хотя он «по временам думает, что все это сон», Мурин стреляет в грудь из ружья, выстрел слышат на улице, как мы узнаем позже, но юноша остается цел и невредим. Единственным следствием выстрела оказывается случающийся со стариком приступ падучей.
Герой не знает, спит он или нет, и не может, несмотря на присущее ему прежде логическое мышление ученого, ответить себе на вопрос, во сне или наяву происходят с ним ирреальные события повести:
Но мало-помалу, недоумевая, что с ним делается, присел на лавку, и ему показалось, что он заснул. По временам он приходил в себя и догадывался, что сон его был не сон, а какое-то мучительное, болезненное забытье [368].
Логический ум не спасает ученого от кошмара и терпит полное поражение в борьбе с ним – так тоже можно резюмировать одну из тем повести.
Счастливая греза сменяется кошмаром, а разрывы единства времени воспринимаются сновидцем как «разрывы всех нитей бытия». Перед нами вновь – невербальный процесс и внеязыковая природа кошмара, выраженная повторами и кружениями сказки, не имеющей ни смысла, ни содержания:
Потом началась для него какая-то странная жизнь. Порой, в минуту неясного сознания, мелькало в уме его, что он осужден жить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий. В ужасе он старался восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и в минуту напряженной, самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова теряет память, как вновь непроходимая, бездонная темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем тоски и отчаяния. Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда жизненность судорожно усиливается во всем составе человеческом, яснеет прошедшее, звучит торжеством, весельем настоящий светлый миг и снится наяву неведомое грядущее; когда невыразимая надежда падает живительной росой на душу; когда хочешь вскрикнуть от восторга; когда чувствуешь, что немощна плоть под таким гнетом впечатлений, что разрывается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением [369].
К превращению счастливой грезы в кошмар Достоевский вернется позднее, в «Сне смешного человека».
Как и в «Двойнике», в композиции «Хозяйки» большое место отведено отражениям. Рассказ Катерины о своей жизни – о начале ее связи с Муриным, бывшим любовником ее собственной матери, из ревности проклявшей дочь, о ее пособничестве в убийстве отца и жениха, – рассказ, исполненный фольклорных выражений, столь же страшный и долгий, как сказка только что пережитого героем кошмара, создает дополнительное измерение кошмара и наделяет его новыми сильными образами. Оцепеневший от рассказа Катерины Ордынов безуспешно силится отличить кошмар от сновидения, ибо, как выясняется, ее рассказ и есть все тот же кошмар, все та же сказка, уже недавно виденная им:
Мало-помалу он впал в какое-то оцепенение. В грудь его залегло какое-то тяжелое, гнетущее чувство. (…) Он опять припал на постель, которую она постелила ему, и снова стал слушать. (…) На миг мелькнуло в уме его, что он видел все это во сне. Но в тот же миг весь состав его изныл в замирающей тоске, когда впечатление ее горячего дыхания, ее слов, ее поцелуя наклеймилось снова в его воображении. Он закрыл глаза и забылся. (…) Ему вдруг показалось, что она опять склонилась над ним (…) [370]
Сказка – непонятная, народная, напоминающая колдовской заговор, не была ли она, это средневековое отродье, драконьим зубом, дремавшим под гнетом просвещенной культуры в ожидании своего часа – часа материализации кошмара в современности?
Опыты над писателем
М.М. Бахтин. «Проблемы поэтики Достоевского»
Достоевский очень широко использовал художественные возможности сна почти во всех его вариациях и оттенках. Пожалуй, во всей европейской литературе нет писателя, в творчестве которого сны играли бы такую большую и существенную роль, как у Достоевского. Вспомним сны Раскольникова, Свидригайлова, Мышкина, Ипполита, подростка, Версилова, Алеши и Дмитрия Карамазова.
М.М. Бахтин
Немота слова, плененного кошмаром, оставалась, особенно в поздних произведениях – «Братьях Карамазовых», «Сне смешного человека» и «Бобке», – одной из главных тем творчества Достоевского. Однако прежде, чем перейти к кошмарам, созданным рукой зрелого художника, следует остановиться на самой известной интерпретации наследия писателя, в которой полностью игнорируются его кошмарно-готические истоки.
Бесконфликтная поэтика Достоевского
В «Проблемах поэтики Достоевского» [371] М.М. Бахтин вводит три ключевых понятия – самосознание героя, «роман идей или герой идеи» и жанр мениппеи. Мы сначала рассмотрим эти понятия применительно к творчеству Достоевского, а следом обратимся к анализу Бахтиным двух наиболее интересных, для понимания природы кошмара, произведений писателя – «Двойника» и «Бобка».
С точки зрения Бахтина – философа, которому была близка идея отождествления языка и мышления, ибо «где начинается сознание, там для него начинается и диалог» [372], – Достоевский писал ради того, чтобы выразить самосознание своего героя:
Гоголевский мир, мир «Шинели», «Носа», «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего» остался тем же в первых произведениях Достоевского – «Бедных людях» и в «Двойнике». Но распределение этого содержательно одинакового материала между структурными элементами произведения здесь совершенно иное. То, что выполнял автор, выполняет теперь герой, освещая себя сам со всевозможных точек зрения; автор же освещает уже не действительность героя, а его самосознание, как действительность второго порядка [373].
Не будем специально останавливаться на том, как именно Бахтин конструирует особенности творчества Гоголя по контрасту с тем, что он хочет подчеркнуть в Достоевском. Отметим лишь, что, как и многие другие, Бахтин видел в Гоголе «представителя натуральной школы» и был уверен, что Гоголь, этот поэт кошмара, героями которого были сновиденья и фантомы, описывал «объективную реальность» [374]. Приведу лишь один фрагмент из «Шинели», чтобы позволить читателю самому решить, можно ли счесть эту повесть изображением «действительности героя»:
Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за ничем не примечательную жизнь. Но так уж случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенний шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели (…) [375]
Затем описывается встреча с этим мертвецом важного чиновника:
Обернувшись, он (значительное лицо. – Д.Х. ) заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши (…) могилою, произнес такие речи (…) [376]
Но вернемся к анализу Достоевского у Бахтина. Читателю, не понаслышке знакомому с парадигмой наук о человеке, которую Поль Рикер, вслед за Ницше, метко окрестил «философией подозрения», подразумевая под этим разнообразные течения мысли последних полутора столетий – марксизм, психоанализ, структурализм и др., – которые исходили из предположения, что люди не понимают подлинные мотивы своих поступков и только вооруженный научным методом аналитик в состоянии познать их истинную суть, не составит особого труда представить себе, в чем видел Бахтин особенности жанра мениппеи, сквозь призму которого он читает Достоевского. «Представитель творческой памяти в процессе литературного развития», жанр обладает по отношению к автору принудительной логикой, «определяющей неразрывное сцепление всех ее элементов». Мениппова сатира определила развитие мировой литературы, в том числе и творчества Достоевского [377]. Именно жанр средневековой мениппеи Бахтин считает истоком «романа идей», а карнавал – одним из проявлений этого жанра, свойственным, в частности, творчеству Достоевского.
Еще два важные понятия, которые вводит Бахтин для чтения Достоевского – диалогичности, а именно представления о том, что любое высказывание предполагает обращение к Другому, и полифонии – особого принципа построении романов Достоевского, при котором автор не имеет решающего слова в полемике и в оценке героев, – тесно связаны с концепцией самосознания. Бахтин утверждает, что самосознание героя, понимаемое как речь, обращенная к самому себе или к Другому, составляет главное содержание прозы писателя, так что «вся действительность становится элементом самосознания» [378] героя.








