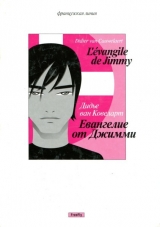
Текст книги "Евангелие от Джимми"
Автор книги: Дидье ван Ковелер (Ковеларт)
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
– Как это?
– Кровь-то течет не там, где надо.Всегда из ладоней. А хирурги говорят, что так прибить человека гвоздями невозможно: кожа порвется. И на Плащанице хорошо видно, где были раны, – на запястьях.
– Что, по-вашему, из этого следует?
– Иисус вообще ни при чем, это человек воображает себя им и раны сам себе в голове своей наносит такие, какие видит в церквах на распятиях. Никакая это не вера, а самовнушение. Вы доказали мне, что я вроде как отросток Иисуса – вот я и делаю то же, что делал он. Даже если он не сын Бога – я делаю то, что ему приписывают.И от этого во мне пробудилась сила, которая, может быть, есть у всех, сила, способная воздействовать на человеческие клетки и на шестеренки механизмов.
– Уже половина первого, вы не проголодались?
– Мы закончили?
– На сегодня да. Мы продолжим, когда захотите. Как вы себя чувствуете?
– Лучше.
– Почему? Потому что я вам верю?
– Нет, наоборот. Потому что не притворяетесь.
– У меня нет никакого личного мнения, Джимми. Я для вас – лишь эхо, вы сами и только вы можете о себе судить. Вы никогда не узнаете, исповедую ли я какую-нибудь религию, не узнаете, во что я верю, что думаю.
– Сколько я вам должен?
– Все оплачено Белым домом. Как и ваше проживание.
– Проживание?
– Ваш номер 4107, в конце коридора. Вид оттуда лучше, Эссекс-Хаус не заслоняет Центральный парк.
– Постойте… вы хотите сказать, что для меня сняли комнату здесь, в пятизвезднике?
– Мне показалось, вам нравится этот район, я не ошибся? Как бы то ни было, вы теперь безработный и не сможете оплачивать вашу квартиру.
– Мое увольнение устроил Белый дом?
– Назовем это Провидением. Кстати, это единственный отель на Манхэттене с бассейном на крыше. Но если вы вдруг сочтете, что комфорт тормозит ваше развитие, так сказать, в сторону Христа, мы немедленно переселим вас в меблирашку в Бронксе.
Повисла пауза, был слышен только вой сирен да гул моторов, приглушенный высотой.
– Доктор, что это значит – «развитие в сторону Христа»? Чего от меня ждут в Белом доме?
– Чтобы вы стали самим собой. Поверьте, у нас нет никакого предвзятого мнения, мы не указываем вам направление априори.
– Это смело сказано, – обронила агент Уоттфилд.
– Мы ученые, Джимми, мы ставим эксперимент, и нам важно довести его до конца, увидеть истинный, а не подтасованный результат, поэтому мы стараемся не оказывать на ход эксперимента какого-либо влияния.
– Но для чего все это? У вас ведь есть какая-то мыслишка на уме?
– В первом веке, Джимми, чем располагали современники для изучения феномена? Сравнение с древними пророчествами, свидетельства толпы; не забудьте о цензуре оккупантов-римлян и ревности духовенства; политические и религиозные критерии играли ведущую роль. А сегодня? Сильнейшая держава мира задействует все свои психологические, научные и финансовые ресурсы, чтобы выяснить, существует ли Бог в земном человеке, и каким образом, и в какой степени. Это вам не «мыслишка на уме», это величайший опыт в истории человечества, и вы, Джимми Вуд, в нем одновременно и подопытная свинка, и высокая цель – если вы согласны сотрудничать и принимаете нашу помощь.
– Я и обратился к вам за помощью, Лестер. Ясное дело, мне без вас никак.
– Лучше называйте меня «доктор». Нам с вами желательно сохранять некоторую дистанцию, во избежание трансфера и вытекающей из него зависимости.
– Это как понимать?
– Не проникайтесь ко мне симпатией.
– Без проблем.
– Вот и отлично. Приятного аппетита.
– А вы не идете?
– Мне еще надо поработать. Отец Доновей ждет вас в «Боут-Хаусе», и с ним еще три человека, они вам очень понравятся, насколько я могу судить из опыта общения с вами. До скорого, Джимми. Можем вместе чего-нибудь выпить в шесть, если хотите.
– Можно, я зайду в ваш туалет?
Запись кончилась. Агент Уоттфилд сняла наушник, отдала его доктору Энтриджу и сказала:
– Без ложной скромности, таким он мне нравится.
– Я потребую, чтобы вас сняли с задания, Уоттфилд. Вы, женщина, должны были олицетворять искушение, а стали пугалом. Уж если по собственной инициативе прыгать в постель, надо хотя бы показывать класс!
Ким, скрестив руки на груди, оперлась спиной о перила и с безмятежной улыбкой дала ответ по двум пунктам: во-первых, будучи сотрудником оперативного отдела ФБР, она не подотчетна психологической службе ЦРУ и подчиняется только координатору Купперману, к которому ее откомандировало Федеральное Бюро; во-вторых, ему, специалисту, следовало бы знать тонкости мужской психологии – соблазн осчастливить в постели неумелую партнершу – куда более действенное испытание для обета целомудрия, чем желание воплотить абстрактные фантазии с незнакомкой.
– Так вы это нарочно? – протянул сбитый с толку доктор, покосившись на влажные груди под тонкой футболкой.
– А вот этого, Энтридж, вы не узнаете никогда.
С этими словами она ушла в бассейн. Нарочито отвернувшись – смотреть ей вслед не позволяло чувство собственного достоинства, равно как и тактические соображения, – Энтридж вынул из уха наушник и вставил вместо него микроприемник, позволявший ему слышать все, что происходило за столиком № 9 в «Боут-Хаусе».
~~~
Какая, оказывается, классная штука – психоанализ. Исповедаться священнику не получилось, сравнить не могу, но легкость чувствую как после часа хорошего кроля. Внутри все чисто и проветрено, я как новенький, я отмылся от пакостных мыслей, которые одолевали меня после утреннего чтения.
Я медленно иду в знойном мареве Центрального парка, под ногами валяются шприцы, над головой шныряют белки, за кустами корчатся в ломке наркоши. Отворачиваюсь, как могу, чтобы не дать слабину: мне велено пока сидеть тихо, никому не помогать. Я послушный, я стараюсь ничего не видеть, прячу голову под крыло, это не так трудно, как я ожидал.
Хороший все-таки человек доктор Энтридж. Он перезвонил мне в семь утра, через десять минут после моего звонка. Я обрисовал ему ситуацию и сказал, что мне нужна помощь. Он ответил, что вылетает первым же рейсом, будет в Нью-Йорке к ланчу, и спросил, где бы я хотел с ним встретиться. Я предложил «Боут-Хаус», первое, что пришло в голову. Воскресные обеды с Эммой. Он с минуту помолчал, а потом сказал, что это очень удачно: он остановится в «Паркер Меридиан» на 57-й улице, за Центральным парком, и назначил мне встречу в отеле в полдень.
Я пришел в стеклянно-зеркальный атриум на два часа раньше и, сидя в жестком кожаном кресле, попытался собраться с мыслями. Вокруг сновали деловые иностранцы, встречались, здоровались, рассеянно озираясь или ничего не видя вокруг, гулко стучали каблуки по мраморному полу. Я силился усмирить разыгравшееся воображение, но не мог: бесы виделись мне повсюду. В этих людях, вокруг них, они перескакивали от одного к другому, менялись местами, сбивались в стаю. За каждым рукопожатием я чуял подвох, за каждой улыбкой видел ловушку, порчу, злые чары, с каждой сделкой в кого-нибудь вселялся бес. Я смотрел на них, сидевших кучно или в одиночку с телефонами: я не знал ни их будущего, ни прошлого, ни даже настоящего, но каким-то чутьем угадывал, в ком живет нечистая сила, а в ком нет. Глюки? Влияние Евангелия? Отражение моей собственной ситуации? Кровь Христа ударила мне в голову или это дьявол куражился надо мной?
Я тщетно пытался сосредоточиться на земных деталях, пялился на атташе-кейсы, на серые в полоску костюмы японцев с какого-то симпозиума, диковато смотревшихся на фоне расхлябанных туристов, на электрические тележки с чемоданами, с лязгом проезжавшие через ворота металлоискателей, на девушек в форменных блузках с глубокими вырезами за шикарной длинной стойкой из тикового дерева и ни за что не мог зацепиться взглядом; я чувствовал себя уже нездешним, я пришел из былого,будто совершил промежуточную посадку в этом помпезном холле, а мысли были далеко. Назарет, Вифания, Кана, Гефсиман: я странствовал по Иудее, по Галилее, со скандалом входил в Иерусалим, проповедовал, лечил, изгонял бесов, поругивал свою «свиту», нарывался то со священниками, то с римлянами и предсказывал свою смерть так упорно, что в конце концов они меня убили. Я воскресал из мертвых, у Марка, Луки, Иоанна – и опять все по новому кругу.
Через какое-то время я включил телефон. Там оказалось сообщение от Ким. Ее нога по-прежнему в полном порядке, она пришла в себя и просит прощения за свое бегство. Если то, что мне сказали, правда, добавила она под конец, я должен перезвонить ей как можно скорее: мне нельзя так оставаться. Я отговорился автоответчику. Не было никакого желания говорить о Христе с упертой христианкой, выслушивать ее поучения или, чего доброго, советы. Потом я достал из рюкзака книги, которые успел спереть по дороге. «Иисус – самозванец: доказательства», «Новый Завет в сорока измышлениях». Вот оно, отрицание моих корней, – и я погрузился в чтение с настроем на беспристрастность, нездоровым любопытством и даже, признаться, мстительным чувством.
В своем «Иисусе» итальянский химик Гвидо Понцо давал рецепт «термоядерного отпечатка» и уверял, что сам успешно его сделал на собственной кухне, для чего ему понадобились старая льняная простыня да кое-какие ингредиенты, доступные в Средние века: окись железа, ультрамарин, желтый мышьяк, марена и древесный уголь; наносилось все это методом темперы. Со следами крови еще проще: избить кнутом какого-нибудь бродягу, проткнуть ему гвоздями руки и ноги, завернуть в раскрашенную простыню – и вот вам Туринская плащаница. Присыпьте израильской пыльцой и подавайте блюдо горячим людскому легковерию. От мысли, что я – потомок этого бродяги, мои руки сами собой сжались в кулаки. Если какая-то секта в самом деле совершила это изуверство, значит, моя чудесная сила – от Сатаны.
Доктор Энтридж явился в три минуты первого. В рубашке с короткими рукавами, белых джинсах и кепочке. Но в сочетании с его квадратными очками, чопорным видом и полными карманами бумаг летний прикид выглядел маскарадом, как бы уступкой воскресному дню. Он сразу увидел, в каком я состоянии, и предложил отдохнуть немного в его номере, огромном, замороженном кондиционерами люксе с видом на Центральный парк. Я плохо помню, о чем мы говорили, но одним своим вниманием и серьезным отношением он мало-мальски вправил мне мозги.
– К ангелам прогуляться хочешь?
Отталкиваю с дороги оборванного парня с дозами коки в рекламном буклете Манхэттена. Нет, на этой тропе искушения подстерегают на каждом шагу – то хочется набить морду дилерам, то наложить руки на торчков в ломке, – и я выхожу на асфальтированную дорогу, по которой катаются влюбленные парочки в конных экипажах. Как-то в дождливый день, в прошлом году, я тоже взял такой экипаж, чтобы добраться от Коламбус-Серкла до «Боут-Хауса». И Эмма гладила мои колени под клетчатым пледом… Вдруг накатывает такая тоска – это даже не безответное желание, не бремя ушедшего счастья, которое я несу в одиночку, нет, мне жаль того времени, когда я имел право быть человеком и только, не чьим-то наследником, не носителем чего-то, а просто мужчиной, мог спокойно любить свою единственную женщину и плевать на все остальное.
Пожалуй, на экипажи смотреть еще больнее, чем на торчков и толкачей. На них я еще могу закрыть глаза. И я снова сворачиваю в заросли.
Заплутав в лабиринте аллей и заглянув ненадолго в зоопарк в Шип-Мидоу, я выхожу к озеру за фонтаном Вифезда. На пустынной полянке в переполненной урне лежит плюшевый мишка с оторванной лапой. Подхожу ближе, смотрю на торчащий из культи поролон. Кто же покалечил беднягу – злой ребенок, собака или, может, две няньки подрались из-за игрушки, которую один малец отобрал у другого?..
В двух шагах от урны умирает дерево – клен. Среди пышной листвы соседей для него одного наступила осень. Буро-серые листья, высохшие, свернувшиеся, бессильно болтаются, падают к моим ногам; верхние ветви уже голые. К стволу прибита табличка:
ЭТО БОЛЬНОЕ ДЕРЕВО ПОДЛЕЖИТ ВЫРУБКЕ ДЛЯ УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЫХАЮЩИХ.
БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!
Озираюсь с бьющимся сердцем: никто меня не видит. В конце концов, психиатр не велел мне помогать людям – о деревьях речи не было.
Глубоко вдохнув, двумя руками обнимаю ствол и прошу клен хранить государственную тайну: я попробую его спасти. Если он согласен, мы вдвоем загладим вину Иисуса перед бесплодной смоковницей – содеянная им несправедливость преследует меня, мучит, как живой укор. Всем телом прижавшись к коре, представляю, как текут в живом дереве соки, пытаюсь дать им толчок, вижу почки, распускающиеся листья, цветы… И шепчу тихонько:
– Господи! Я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой.
Защекотало в затылке, мурашки побежали по плечам, ниже, волна тепла разлилась по рукам до самых ладоней, потом медленно отхлынула, и стало холодно, будто мои соки перетекли в дерево… Я весь дрожу, силы покинули меня, но им на смену приходит какая-то новая энергия, ледяная легкость, наполняющая меня незнакомым доселе восторгом.
И вдруг я отскакиваю от ствола. Меня будто током шибануло, стою оглоушенный, на ватных ногах, и в груди ноет, словно от сердца что-то оторвали. Я шатаюсь, сотрясаемый спазмами, сажусь в траву и пытаюсь отдышаться. Я весь мокрый, хоть выжимай, пот течет по лицу, а может, это слезы. Странная смесь бесконечной печали и счастья в чистом виде… Дрожь мало-помалу проходит, дыхание восстанавливается. Я откидываюсь назад, под головой хрустят сухие листья. Восторг постепенно сменяется чувством такого одиночества, что хоть вой, мне муторно, гадко и отчего-то стыдно… Похоже на то, что рассказывают парни у стойки Уолната, когда треплются за пивом о бабах. Это внезапное разочарование и приступ хандры после любви, привычное, кажется, дело для них, мне незнакомое; тягостное желание оказаться где угодно, лишь бы не здесь, в тот момент, когда мне хотелось только испытать все снова. Что это было – обмен энергией с кленом, который я хотел спасти, в то время как исцеленные мною люди ничего мне не дали?Неблагодарность их, что ли, сейчас пришибла меня по контрасту? Не это ли чувствовал Иисус, когда спасенные забывали, сомневались, отрицали чудо задним числом? Не потому ли он так часто бывал не в духе, срывался на обязанных ему, учеников называл глупцами, лжецами и будущими предателями, а иной раз вымещал злость на деревьях.
Я поднимаюсь, смотрю на клен: не похоже, чтобы ему получшало. Но хочет ли этого он сам? Раненый, слепой, сбитый машиной – они-то мечтают стать прежними, ясное дело, но дерево? Говорят, деревья задолго предчувствуют свой конец. Будь то старость или болезнь, он наверняка приготовился к смерти, рассыпав по весне пыльцу, а я не спросил его мнения. Ну вот, опять я кругом виноват. Нельзя насиловать природу, даже если мне дана такая власть, – кто я есть, чтобы решать за других, что для них хорошо, что плохо? Смирение. Никто мне слова не скажет о смирении, ни психиатры с их эго-терапией, ни политики, которых, естественно, больше интересует моя сила, чем моя душа.
Я глажу ствол, прося у клена прощения, напоминаю, что вольному воля: он не обязан воскресать исключительно в угоду мне. Лады? Пусть сам решает. Похлопываю его на прощание по коре и иду своей дорогой к ресторану. Все-таки многое изменилось с сегодняшнего утра, благодаря доктору Энтриджу. Я больше не сомневаюсь – я хочу разобраться. Вопрос не в том, откуда взялся мой новообретенный дар, а в том, что я имею право с ним делать.
Бежевые тенты в полоску, черные лопасти вентиляторов, белые колонны, терраса над озером; «Боут-Хаус» – единственный шикарный ресторан, который я знаю, но чувствую себя как дома, ведь я был так счастлив здесь раз в месяц по воскресеньям, когда рука Эммы сжимала мою руку и наши колени соприкасались под двойной бахромой желтой скатерти. Когда я давал адрес доктору Энтриджу, у меня и мысли не было, что она может оказаться здесь с тем высоким блондином, на которого меня променяла. Мне ли не знать, она не такая, как я: перевернув страницу, никогда не возвращается назад; меняет привычки, вкусы, обстановку. Так, по крайней мере, мне думается. Я сужу по тому немногому, что успел увидеть, когда позвонил к ним в дверь.
Ко мне подходит метрдотель с явным желанием меня спровадить, спрашивает, заказан ли столик. Он не узнает меня, неудивительно: все всегда смотрели только на нее. Взглянув на мою куртку с эмблемой «Дарнелл-Пула», он кривит губы в дипломатичной улыбке и чуть ли не подталкивает меня к соседней террасе: там семейная закусочная и дети теснятся у перил, бросая хлеб уткам. Я не решаюсь назвать свое имя, оно ведь тоже, наверно, засекречено. И спросить, где столик Белого дома, язык не поворачивается.
– Этот господин с нами.
Я оборачиваюсь и вижу за спиной отца Доновея – когда только он успел подойти? Метрдотель почтительно кланяется, обещает, что девятый столик будет готов сию минуту, и спешит выпроводить молодую пару в шортах. Священник смотрит на меня с отеческой нежностью и, тиская мою руку, уверяет, что все будет хорошо. Я молчу. Не нравится мне сердечность, которой так и сочится чернокожий старик с сумрачными глазами. Никакого отклика в моей памяти не вызывает этот незнакомец, будто бы воспитавший меня, из-за этого мне с ним не по себе, прямо-таки чесаться хочется от его влажного взгляда, когда он взирает на меня как на свое творение.
Он ведет меня к обитым коричневой кожей креслам у камина, в котором зимой горят фальшивые поленья газовым огнем. Двое мужчин встают при виде нас. Один седоватый, в твидовом пиджаке не по сезону, чем-то похожий на ежика из мультфильма, другой лет сорока, с гладкой, как кусок мыла, лысиной, двойным подбородком, вялой рукой и потупленными глазами.
– Его преосвященство Гивенс, епископ in patribus [19]19
Полностью: in patribus infidelium – буквально «в стране неверных», т. е. в чужой стране, за границей; в Средние века добавлялось к титулу церковных деятелей, назначавшихся на должности епископов в нехристианских, преимущественно восточных странах.
[Закрыть].
Из вежливости интересуюсь, где это.
– Нигде, – отвечает за него ежик, чересчур крепко, не иначе от восторга, пожимая мне руку. – Его преосвященство номинальный епископ без епархии, доктор теологии и советник президента по вопросам религии. А я занимаюсь научной стороной вопроса. Ирвин Гласснер. Я очень, очень рад.
Он осторожно, как-то робко трогает другой рукой мой локоть, плечо, будто оценивая мускулатуру, потом вдруг крепко прижимает меня к себе и тут же отстраняет, улыбаясь дрожащими губами. Судя по налитым кровью глазам и цвету носа, пил он всю свою жизнь не водицу.
– Столько лет, Джимми, вы себе не представляете… Одно дело расшифровывать геном, мечтать с данными в руках, но когда видишь перед собой… реальность из плоти и крови… Извините меня.
Я, смутившись от столь бурных излияний, непонятно пока, насколько искренних, бормочу в ответ: «Ничего, ничего». Он шмыгает носом, кивает и, наткнувшись глазами на холодный взгляд епископа, разжимает пальцы. Я высвобождаю руку и сую ее в карман, хочу потрогать сухой лист, который взял у клена: так я могу отгородиться от этих людей и не терять связи с деревом, которое, быть может, уже зазеленело там, в парке, а им и невдомек.
– Ну, Джимми, – продолжает ученый, пряча не вполне уместное проявление чувств за наигранно веселым тоном, – добро пожаловать к нам. С судьей Клейборном и доктором Энтриджем вы уже знакомы, но это лишь малая часть нашей команды первого, так сказать, набора, мобилизованной вокруг вас…
– Зачем?
Он явно не ожидал такого вопроса.
– Идемте обедать, – выручает его епископ.
Метрдотель провожает нас на террасу, к самому озеру, где за столом рыжеволосый толстяк в пестрой рубашке намазывает хлеб маслом, изучая меню. Ресторан набит битком; пустуют только шесть столиков вокруг нас – наверно, они заказаны секретными службами.
– Я не заметил, как вы вошли, Бадди, или вы приплыли на лодке? – весело окликает его советник Гласснер: ему, надо думать, поручено создавать непринужденную атмосферу.
Рыжий опускает меню, оборачивается – и у меня отвисает челюсть.
– Бадди Купперман?
Он, кажется, тоже ошарашен.
– Вы меня знаете?
– «Лангуст»!
– А-а, – кивает он, мрачнея. – Ну и память у вас.
– Я недавно пересматривал фильм о фильме. Вы ни чуточки не изменились, с ума сойти!
– Садитесь.
Я усаживаюсь на соседний стул, сердце колотится как бешеное. Впервые мне доводится общаться с великим человеком. Остальные трое смотрят на нас. Они явно понятия не имеют, о чем речь. Я начинаю рассказывать:
– Это про одного парня вроде меня, его зовут Боб. Он все потерял, жена от него ушла и забрала детей. Ну вот, однажды он обедает в ресторане со своим единственным другом, врачом, и тот сообщает ему, что у него рак с метастазами. Вдобавок этот друг, оказывается, любовник его жены. А рядом с ними садок, и там омар вот-вот сожрет лангуста. И когда официант пришел принять заказ, Боб попросил этого лангуста и забрал его домой. Посадил в ванну, ухаживал за ним, лечил. Вот, и оказалось, что это самка, родились малыши, в общем, вся его жизнь теперь в них, места в ванне мало, и тогда он заколотил двери и окна, законопатил все щели и затопил свой дом. Достал водорослей, моллюсков, ну и сам мало-помалу привык жить среди лангустов. А под конец ему стало совсем худо, от рака, и он вскрыл себе вены, прямо в воде, чтобы лангусты его съели, в общем, умер достойно. Как вам это в голову пришло?
– Меня ограничили двумя декорациями. Не люблю вспоминать этот фильм.
– Что вы, почему? Такая оптимистичная безнадега и в то же время как бы единственно возможный реванш: мол, пусть моей семьей будут морские гады, раз людям я не нужен… Разве не так?
Я оборачиваюсь к ученому и святым отцам, призывая их в свидетели. Вид у них совершенно растерянный. Три минуты назад я был их вещью, они считали себя хозяевами в игре, и всего-то навсего разговор киноманов выбил почву у них из-под ног.
– Для меня, во всяком случае, это культовый фильм. В первый раз я его видел, когда мне было пятнадцать, и с тех пор пересматриваю каждый раз, когда хандра находит.
– В прокате он с треском провалился, не напоминайте. Сейчас я работаю на Белый дом, Джимми. Проект с вами в главной роли курирую я.
Такую новость надо переварить: я еще не вполне верю, и радостно мне, и боязно. Я знаю его фильмографию наизусть. Он же самый настоящий гений, это глыба боли, а весь его провокационный хлам всегда был только прикрытием. Как жаль, что ему ни разу не попался достойный режиссер. И что политики прибрали его к рукам. Быть может, я – шанс его жизни. Надо же, ему поручили написать мою историю, из этого может получиться нечто, если только у него будут развязаны руки.
– Сегодняшнее предложение от шеф-повара – налим со сморчками.
Все поворачиваются к метрдотелю, который продолжает:
– Припущенный в бульоне с капелькой мадеры.
– Пять порций, – решает за всех мой сценарист, чтобы не терять времени. – Вино будете?
– Не знаю, можно ли мне, – говорю я, демонстрируя послушание, и взглядом спрашиваю святых отцов.
Доновей, похоже, не видит противопоказаний, а его преосвященство недовольно хмурится. Бадди щелкает пальцами, подзывая сомелье.
– Легкого белого? – предлагает мне Ирвин Гласснер.
– Лучше бы «Нюи-сен-жорж».
Брови священника ползут вверх, епископ смотрит на меня так, будто я сморозил нечто кощунственное.
– Красное бургундское к рыбе, – с нажимом произносит он снисходительно-насмешливым тоном.
– Отличный выбор, – вмешивается сомелье. – К налиму и соусу с мадерой белое не идет; «Кот-де-нюи» – именно то, что надо. Поздравляю, сэр, вы знаток.
Он уходит. Все четверо уставились на меня, да так внимательно, будто мне было видение или я пророчество выдал. Вообще-то это вино я пил с Эммой в последний раз.
– После того что случилось этой ночью, – нарушает молчание советник Гласснер, – вы больше не производили никаких… действий с людьми?
Я качаю головой. От видимого облегчения в их глазах мне становится не по себе. Поди знай, что это за побочный эффект, но лгать я теперь не могу, даже просто утаить что-то не получается. И я добавляю:
– С людьми – нет. Но только что, по пути сюда, я попробовал вылечить дерево. Засохший клен с табличкой о вырубке. Не знаю, удалось ли…
Они переглядываются искоса и никак не реагируют, только на осунувшемся лице ученого появляется вежливая улыбка.
– Итак, – решительно меняет тему Купперман, намазывая еще один бутерброд, – вы готовы идти с нами?
– Куда?
– Не знаю пока, это нам и предстоит узнать вместе. У вас, бесспорно, наличествует очень сильный генетический материал и способность воздействовать мыслью; нам остается ответить на главный вопрос – иными словами, прояснить суть вашей миссии, если таковая у вас имеется.
Я киваю. Официант кладет на тарелочку слева от меня круглый хлебец. Хочу было разломить его, но вовремя одумываюсь. Вряд ли хорошие манеры это позволяют.
– Говорить о «генетическом материале» некорректно с теологической точки зрения, – возражает епископ, глядя на мою тарелочку с хлебом. – ДНК сама по себе ничего не значит.
– Его преосвященству нравится выступать в роли адвоката дьявола, – примиряющим тоном объясняет мне Ирвин Гласснер.
– Господь сеет благодать там, где угодно Ему, а не генетикам. Вы напоминаете мне виноделов, самонадеянно полагающих, что церковное вино для них не таинство. Нет, красное столовое превращает в кровь Христову евхаристия, а не способ изготовления.
Я спрашиваю, не собирает ли он виноград с терновника [20]20
Матфей 7, 16.
[Закрыть].
– Что вы имеете в виду?
Напоминаю ему, что это из святого Матфея. Он прав, что опасается лжепророков под личиной виноградарей, но ведь о дереве судят по плодам, а о лозе по вину, были бы мехи новые.
– Один – ноль! – хохочет Купперман. – Смотрите, Партибус: если чистильщики бассейнов знают Евангелие лучше епископов, верно, не все ладно в Святой церкви.
– Да я-то ведь по горячим следам, – вставляю я, чтобы его преосвященство, чего доброго, не полез в бутылку.
– «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, – парирует он, завершая притчу, – срубают и бросают в огонь!» [21]21
Матфей 7, 19.
[Закрыть]
Я отвечаю, что эта мораль лесоруба, право, не самое милосердное, что есть в Библии.
– А кто вы такой, чтобы судить? – взвизгивает он, подскочив на стуле, потом оборачивается к остальным и продолжает тоном ниже: – Я нахожу возмутительным все, что слышал от вас о якобы божественной сути этого человека. Пока с точки зрения церкви он в лучшем случае целитель. Не степень и не природа феномена лежат в основе чуда, но намерение, с которым оно было совершено!
– А я, по-вашему, лечу людей, желая им зла?
– Я утверждаю, что обладать аурой – отнюдь не то же, что быть осененным благодатью!
– Да не спорю я, но я ведь ничего не просил! Вы сами явились и сказали мне, что я, мол, Мессия!
– Вам не говорили ничего подобного! – брызжет слюной епископ.
Ему приходится заткнуться: сомелье принес «Нюи-сен-жорж». Он открывает бутылку, наливает мне чуть-чуть попробовать. Зажмурившись, я представляю себе лицо Эммы, чтобы отдохнуть от этих людей, перекатываю вино на языке, глотаю и киваю сомелье: о’кей. Он наливает всем, укладывает бутылку в плетеную корзиночку и уходит, пожелав нам приятного аппетита.
– Вас проинформировали о возможном происхождении ваших генов, и только, – сквозь зубы продолжает епископ. – И, если бы кто-нибудь посоветовался тогда со мной, я был бы категорически против: нельзя сообщать подобную новость такому… такому человеку!
Я залпом осушаю бокал и, глядя ему прямо в глаза, говорю очень спокойно:
– А что вы обо мне знаете? Может быть, я очень хороший человек.
– Мне поручено составить ваше досье для представления Ватикану. Напомнить вам, какими данными я располагаю? Судимость и срок три месяца условно за самосуд и расправу над несовершеннолетними, открытая связь с замужней женщиной, скандал и драка в стенах церкви, взлом торгового автомата, якобы воскрешение сбитого машиной пешехода – заметьте, так и не нашли ни его следов, ни свидетелей, – и малоправдоподобное исцеление так называемого слепого без определенного места жительства, слепота которого не подтверждалась никакими медицинскими документами.
Он откидывается на спинку стула и стискивает зубы, старательно отводя глаза, пока молодая официантка с подрагивающими, как желе, грудями в глубоком вырезе белой блузки ставит на стол тарелки. Советник Гласснер успел наполнить мой бокал. Я выпиваю его одним махом, из последних сил сохраняя спокойствие.
– И для пополнения моего досье, – продолжает окаянный патрибус, как только уходит официантка, – мне представляют какого-то забулдыгу, знатока бургундского, запомнившего из Евангелия лишь то, что имеет отношение к его пороку.
– Ну все, с меня хватит! Я не позволю, чтобы меня оскорбляли мои же епископы!
– Вы слышите, Ирвин, что он говорит? Если бы ваши ученые не убедили меня, что его ДНК идентична крови на Плащанице, я бы сразу сказал, что передо мной безбожник, развратник и истерик!
– А сами-то! Снять с вас цепь с крестом – на кого бы вы были похожи? Ни дать ни взять тупица фининспектор, который ловит кайф, мучая налогоплательщика!
– Думайте, что говорите, молодой человек!
– Хочешь, пойдем выйдем, разберемся!
– Тише, тише, пожалуйста, – умоляет нас Гласснер.
Сбавив тон, я отвечаю в свое оправдание, что не было никакой расправы, была необходимая оборона от грабителей, а приговор – судебная ошибка.
– Папская процедура – это вам не кассация! – разоряется епископ. – Ни в коем случае, слышите, ни в коем случае я не поддержу в Ватикане кандидатуру этого хулигана на роль трансгенного Мессии!
Он вскакивает из-за стола и уходит.
– Ничего, успокоится, – хмыкает Бадди, подбирая хлебом соус с тарелки.
Отец Доновей удрученно качает головой, гоняя вилкой сморчок между кусками рыбы. Ирвин Гласснер протягивает руку и дружески похлопывает меня по руке.
– Он не против вас лично, Джимми. Поймите и его: христиане очень трепетно относятся к образу своего Христа…
– Ну и что же вы будете делать со мной? Спрячете, запрете под замок, чтобы не смущать трепетных христиан?
От их молчания у меня вдруг пробегает холодок по спине. То ли они об этом уже думали, то ли я подал им идею и, боюсь, очень кстати.
– Кое-кто, возможно, предпочел бы такой вариант, – тихо говорит Гласснер, – но мы выбрали другой. Мы хотим подготовить вас, Джимми, обеспечить вам самое лучшее образование, какое только можно, чтобы вы стали достойны своих корней, чтобы могли выбирать со знанием дела, действовать соответственно…
– …и успешно сдать переходной экзамен, – добавляет Бадди Купперман.
– Если вы согласитесь на теологическую и духовную подготовку по нашему усмотрению, – продолжает Гласснер, – мы предоставим в ваше распоряжение вот этот дом в Скалистых горах.
Я отталкиваю протянутую мне фотографию и интересуюсь, что, собственно, он имеет в виду под «переходным экзаменом» и кому я должен буду его сдавать.






