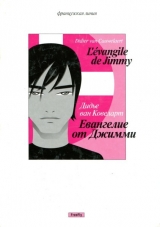
Текст книги "Евангелие от Джимми"
Автор книги: Дидье ван Ковелер (Ковеларт)
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
– Папе римскому, Джимми, – тихо и почти благоговейно отвечает Ирвин Гласснер. – Представителю Бога на земле. Не кто иной, как он должен поверить в вашу природу, в ваш потенциал и в ваши благие намерения; не кто иной, как он вынесет – или не вынесет – решение о вашей божественности, и только с его позволения ваша генетическая матрица сможет быть обнародована во всем мире.
– Без официальной инвеституры, – подхватывает Купперман, – вы ничего не сможете сделать. Я хочу сказать: вы сами по себе ничего не воплощаете. В сущности, вы и облегчать страдания не имеете права. Христиане, исцеленные вами, даже могут быть отлучены от церкви.
Я ощупью нашариваю свой бокал, но ставлю его на скатерть, не притронувшись. Эх, жаль, нет в этом ресторане садка. Послать все подальше и приручить лангуста – вот что мне сейчас нужно. Я утыкаюсь в тарелку.
– Вы молчите, Джимми? – спрашивает отец Доновей ласково.
– Ем, пока не остыло.
Я жую, а они смотрят на меня с нескрываемой тревогой. Я поворачиваюсь к озеру, где среди лодочек плавают утки. Девушки смеются, мужчины щелкают фотоаппаратами, какой-то ребенок из-за ограды бросает в воду хлеб. Простая, обычная жизнь, на которую я больше не имею права. Я смотрю, как сидящая в траве парочка на том берегу гоняет по воде парусник с дистанционным управлением. Из чего мне, собственно, выбирать? Меня селят в роскошном отеле, приглашают в горы, предоставляют в мое распоряжение гениального сценариста, чтобы выучить меня на Мессию, которого не стыдно показать папе римскому… Если я откажусь, останусь безработным, бездомным – и свободным. Но что я буду делать со своей свободой? Тайком заниматься целительством, рискуя угодить за решетку. Или придется навсегда запретить себе приближаться к больному, прикасаться к увечному. У меня есть выбор между покорностью и муками совести. Я принял решение. Если клен спасен, я скажу «да».
Я утираю рот, кладу салфетку на стол.
– Мне надо еще немного подумать.
За столом так и слышится дружный вздох облегчения.
– Мороженое? Десерт? – предлагает советник по науке, доставая портсигар.
– Не стоит, я допью вино.
– Вас отвезут в отель на машине, – говорит Купперман. – Отдохните немного, а в четыре у нас намечен небольшой брифинг в номере доктора Энтриджа: вы познакомитесь с остальными членами команды. Если все будет в порядке и мы доработаем наши соглашения, завтра с утра отправимся в Скалистые горы.
Я беру в руки фотографию, на которую так и не посмотрел. Огромное шале из темного дерева с красными ставнями в еловом лесу, кругом – заснеженные вершины.
– Может быть, вы предпочли бы пустыню? – осторожно интересуется Ирвин Гласснер.
Я благодарю их за обед и говорю, что хочу пройтись пешком.
– Я провожу вас, – предлагает отец Доновей, вставая. – Если, конечно, вы не против…
Я чувствую, что те двое недовольны, и поэтому киваю.
Перед уходом я забегаю в туалет и там, в кабинке, оставляю сообщение на автоответчике Ким: если она еще в Нью-Йорке, если хочет со мной увидеться и узнать подробнее обо всем, что со мной произошло, меня можно найти в «Паркер Мередиане». Еще я добавляю самым искренним тоном, сумев подпустить даже необходимую дрожь и хрипотцу в голосе, что она будет очень-очень нужна мне в самое ближайшее время как адвокат.
Небо затянуло тучами, пронизывающий ветер разогнал гуляющих. Я быстро шагаю по аллеям, священник тяжело дышит, поспешая сзади, со своим потертым портфельчиком под мышкой, в сером непромокаемом плаще, у которого не хватает половины пуговиц.
– Он просил передать вам большой привет, – вдруг слышу я за спиной.
Вижу, как святой отец косится на меня краем глаза, ждет моей реакции. Речь идет, конечно, о Филипе Сандерсене – в протоколе с описанием моего клонирования это имя напечатано наверху каждой страницы. В моей памяти эти пять слогов не пробуждают ничего, только белый халат, один из многих. Я спрашиваю священника, какой он.
– Это замечательный человек, Джимми. Мы познакомились во Вьетнаме, когда нам было по двадцать; я видел его в самых страшных обстоятельствах, какие только могут выпасть на долю человека, – в которых он только и познается по-настоящему. Я был ранен, почти без сознания; он бежал из плена вьетконговцев и вынес меня на плечах. Три дня он переносил меня из укрытия в укрытие, пока наши не нашли нас.
Я замедляю шаг, но ничего не отвечаю. Что-то этот портрет не вяжется с образом безумного ученого, затворника в своей лаборатории.
– Он так и не оправился от этого ада. Не смог забыть детей-солдат, которых вынужден был убивать… Вернувшись в Штаты, он основал Фонд инвалидов войны. Он потому и работал над стволовыми клетками, что был одержим идеей возрождения. Утверждал, что если генетические ресурсы, к примеру, тритона позволяют заново отрастить любую часть тела, то и человек должен обладать той же способностью, только сознание создает ей барьер. Я знаю,что отрубленная рука не может отрасти, поэтому мозг включает заживление. Как у взрослой лягушки – но он доказал, что, если отрезать лягушке лапу и помешать заживлению, прикладывая к ране хлористый натрий, то есть соль, она способна отраститьнедостающую конечность. Он повторил опыт с ампутантами в коме, но безуспешно. Зато когда подопытный находился под гипнозом, ему удалось вывести клетки на стадию эмбрионального строительства… К сожалению, нападки более «классически» настроенных коллег тормозили его исследования. Только профессор Эндрю Макнил, великий биолог, верил в него. Он включил его в группу, созданную для изучения Туринской плащаницы, это было в 1978 году. Из Турина Филип вернулся другим человеком. Что-то глубоко потрясло его, он утвердился в своем идеале, уверовал в свою «божественную миссию», что меня, признаюсь, немного испугало. Эта его устремленность, одержимость… Христос был теперь для него только ДНК. Мы тогда потеряли друг друга из виду лет на пятнадцать, но встретились снова благодаря вам.
– Благодаря мне?
– Он добился успеха: вы родились, но дальнейшее… Он сам позвал меня. Когда он рассказал мне о вас, я был, конечно, потрясен до глубины души, ваше появление на свет возмутило меня как насилие над волей Господа… Но я не мог отказаться – ради вас. Я не имел права оставить дитя в руках ученых, не пробудив в нем душу и слово Божье… Я старался дать вам все тепло, какое только мог, чтобы скрасить вашу жизнь в неволе, хотя вас она как будто не тяготила, впрочем…
Остановившись, я заглядываю ему в глаза.
– Каким я был в детстве?
Он опускает голову, мнется, гоняет ногой камешек в траве.
– Тихим. Очень тихим. С невыносимым взглядом. Ваши глаза судили молча, ведали, не зная, все безропотно принимали заранее…
– Я был крещен?
– Да, разумеется. И обрезан на восьмой день, точно по святому Луке. Ты принял все таинства, и ни одно не было лишним в твоем случае: бар-мицва, первое причастие…
– Я творил чудеса?
Он поднимает глаза. Я вижу в них колебание, смущение, уклончивость, но искренность все же берет верх.
– Мы с тобой, – начинает он нерешительно, – однажды проделали опыт. Мы сидели в саду Исследовательского центра, я читал тебе об исцелении слепого в купальне Силоам, и вдруг у меня прихватило колено. Я не мог подняться. Со мной это случалось иногда. Осколок снаряда остался там после Вьетнама. Ты, под впечатлением от Евангелия, спросил меня: «А я тоже могу исцелить тебя от недуга?» Я посмотрел на тебя и ответил: «Как знать». Тогда ты зажмурился, положил ладошки на мое колено, держал их долго – и у тебя получилось,Джимми. Тебе было четыре с половиной года. С тех пор я никогда больше не чувствовал ни малейшей боли в суставе. И даже следа осколка не видно на моих рентгеновских снимках.
Я вглядываюсь в глубину его глаз. Нет, никаких воспоминаний о близости с этим человеком. Только одна фраза навеяла мне что-то. Я вполголоса повторяю ее: «Как знать»,и она пробуждает странный отклик в душе, это словно кредо, многократно воспроизводимое перед зеркалом в борьбе с сомнением и уверенностью одновременно.
– Я, во всяком случае, Джимми, с того дня знаю точно. И что ты хотел исцелить смоковницу, меня совсем не удивило. Покажи мне ее.
– Это клен.
– А в Библии смоковница. Еще совсем крошкой ты разобиделся на Иисуса за то, что он поступил с ней несправедливо, все твердил, что ты ему покажешь. Во дворе стоял столб с баскетбольной корзиной, ты обнимал его ручонками и говорил: «Благословляю тебя. Оживи, зазеленей, расцвети!»
С минуту я выдерживаю его взгляд, потом отворачиваюсь и иду дальше. Миновав террасу над Вифездой, поворачиваю налево.
– Я хочу встретиться с Филипом Сандерсеном.
– Он этого не хочет, Джимми. Он очень стар, немощен и при этом безмерно самолюбив. Ему будет неприятно, если ты увидишь, каким он стал. Он хочет, чтобы ты сохранил… как бы это сказать… сублимированный образ человека, сотворившего тебя из крови Иисуса.
Я сворачиваю с дороги. Мы идем под деревьями к той самой полянке. Гремит гром, последние гуляющие торопятся к Пятой авеню.
– А мать, которая меня выносила?
– Я ее не знал. Молодая девушка, из армии, два года была в коме. Она умерла после твоего рождения.
Он поднимает воротник плаща. Первые капли разбиваются о гладь пруда, где покачивается маленький забытый парусник.
– Джимми, я догадываюсь, через что ты прошел с четверга… Мне тоже было нелегко все эти годы молчать и лишь молиться за тебя, не зная, что с тобой сталось, будучи не в силах ничем тебе помочь…
Я ничего не отвечаю, нутром ощутив печальную кротость этого человека, всю жизнь хранившего тайну, которая сжигала его медленным огнем. Спрашиваю, что же он посоветует мне теперь. Он вздыхает так, что сомнение во мне растет.
– Что сказать тебе, Джимми? С одной стороны, мы не имеем права скрывать твое существование от людей, а с другой – мир еще не готов… Ты возразишь мне: готов он никогда не будет. Но это тебе лучше знать, для этого ты и рожден. Сколь много ты готов принять на себя и с какой целью…
– Я не хочу, чтобы мною манипулировала церковь.
– Тебе не понравился епископ Гивенс, я это видел, и я тебя понимаю. Но не забывай: все они тебя испытывают. Наблюдают твои реакции, сравнивают, как бы примеряют на Иисуса. Вспомни его нападки на церковных сановников… Этот епископ тебя провоцировал – у него были на то свои причины. Теперь, если он тебе очень не нравится, все в твоих руках.
– Я же его не изменю.
– Но можешь потребовать его заменить. Пусть к вам приставят другого богослова, не столь фанатично настроенного. Просит ведь не кто-нибудь, а президент США, Джимми: ты получишь все, что пожелаешь.
Я улыбаюсь: надо же, о такой перспективе я еще не задумывался.
– То есть это вроде как кастинг? И выбираю я?
– Разумеется. При поддержке Куппермана, который теперь ест у тебя с руки, так ты ему польстил, проблем не будет.
– Вас-то я, во всяком случае, оставлю.
– Это вряд ли.
Он отворачивается, сцепив руки за спиной.
– Мое место при Филипе. Я веду все его дела, руковожу его фондом… Я улетаю сегодня же. Он тревожится, хочет поскорее услышать, сильно ли ты изменился с тех пор, как узнал…
– Святой отец!
Он останавливается одновременно со мной, смотрит в направлении моего взгляда. Я приближаюсь, сам не свой от изумления, задираю голову, прикрываю рукой глаза от дождевых капель. Медленно обхожу дерево, рассматриваю ветку, что пониже.
– Это он? – спрашивает, подходя, священник.
– Смотрите! У него почки!
Я приваливаюсь к коре, изо всех сил обнимаю воскресший ствол. Наконец-то я получил доказательство, настоящее доказательство.
– Подожди, Джимми… Ты абсолютно уверен, что это то самое дерево?
Я показываю ему прибитую к стволу табличку, полоску красной краски, подтверждающую приговор, сухие листья под нашими ногами.
– А эти почки – их не было?
– Клянусь вам! Ну ладно, не клянусь, но поручиться могу.
Он с хрустом отламывает веточку, смотрит, выступил ли сок, озадаченно качает головой.
– Да ведь сейчас июль, святой отец! Вы видели когда-нибудь, чтобы клен давал почки в июле?
– Тсс! – шипит он, кивая на проходящего мужчину с тачкой.
Я кидаюсь к садовнику, хватаю его за руку, тащу: мол, идите посмотрите! Садовник, щуплый хмурый индеец, вяло отбрыкивается. Я тычу его носом в ветку, он щурит глаза, давит в пальцах зеленый побег и недоуменно разводит руками.
– Вы же знаете это дерево – оно было мертвое!
– Верно, ему вроде лучше, – отвечает он как нечто само собой разумеющееся, и мне это бальзам на сердце.
Я крепко стискиваю его в порыве неудержимой радости, как если бы мы вместе забили решающий гол. Освободившись из моих объятий, он медленно пятится, почесывая в затылке, с застывшей на лице улыбкой, хватает свою тачку и спешно убегает.
Я оборачиваюсь к священнику. Вид у него пришибленный, лицо перекошено, он держится за дерево, чтобы не упасть. Вот этого я не понимаю. Он-то ведь знает, что я такое уже делал.Мою исцеляющую силу он испытал на себе. Тот осколок снаряда в его колене – я ведь не испепелил его, наподобие Супермена, лазерным лучом из глаз – я, наверно, стократно усилил его антитела или что-то в этом роде, и они уничтожили металл так же быстро, как клен восстановил свои соки…
– Лучше об этом не распространяться, – бормочет он сконфуженно, выслушав мое объяснение.
– Как это так? Сами говорили, что меня нельзя больше скрывать…
– Ты еще не готов, – цедит он сквозь зубы.
– Я исцеляю, мыслью воздействую на материю, останавливаю смерть, чего же вам еще?
Я возвращаюсь к моему клену, отдираю табличку, выбрасываю ее в урну. Отец Доновей идет за мной.
– Ты не готов морально!Тебя же не на ярмарке собираются как диковину показывать, Джимми, от тебя не фокусов ждут на потеху публике. Ты еще не можешь постичь весь смысл, всю глубину того, что в тебе происходит, ты этого еще не…
Он осекается, поперхнувшись обидным словом.
– Недостоин?
Он отводит блеснувшие влагой глаза. Я же его и успокаиваю, похлопываю по плечу: мол, сам знаю, ладно, проехали, не будем об этом, я не стану больше никого спасать, пока не получу необходимого образования, пусть себе подыхают люди, животные и деревья вокруг меня, я уж подожду разрешения. Все равно с этой минуты я связан клятвой, которую дал сам себе. Клен ожил, а это значит, что я соглашаюсь на все: на брифинг в четыре часа, на шале в Скалистых горах и на прощание с прежним Джимми. Я изменю в себе все, что им не нравится, что не укладывается в роль и в образ, которого от меня ждут; я сделаю все, что в моих силах, чтобы соответствовать их надеждам и стать достойным моей крови.
Священник со вздохом прячет веточку клена в карман плаща.
– Я не уверен, что мы правы, Джимми. По тебе ли такая судьба?
– Хватит уже меня проверять! Говорю же вам, все хорошо. Все о’кей!
Мы смотрим друг на друга сквозь дождь, как два боксера-грогги после ничейного исхода. Он медленно кивает. Я иду попрощаться с моим деревом, обнимаю шершавый ствол, точно по красной линии. Кажется, даже эта роковая метка сужается, потихоньку зарастает корой.
– Святой отец, а как это делается, ну, технически? Как мысль может воздействовать на клетки?
Он нехотя отвечает, что Иисус обладал способностью восстанавливатьизнутри то, что было разрушено старостью, болезнью или травмой – воссоздавать,возвращать утраченную целостность.
– Гони деньги!
Нас окружают трое с ножами в руках – откуда только взялись? Отец Доновей с перепугу роняет портфель, лезет в карман плаща. А я всматриваюсь в лица молодчиков: вытаращенные глаза, застывший взгляд, одинаковый у всех троих оскал. Я вдруг широко раскидываю руки, наступаю на них и ору что есть мочи:
– Изыди, нечистый дух! Изыди! Изгоняю тебя! Прочь!
Парни, оцепенев от неожиданности, таращатся на меня.
– Боже всемогущий, помоги мне избавить этих людей от бесов, их терзающих!
Никакой реакции. Я машу вокруг них руками, осеняя крестным знамением, и надсаживаюсь еще громче:
– Слышите, бесы хреновы, сколько вас ни есть? Где вы, покажитесь, изыдите из малых сих, пошли вон во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Расправив плечи, я надвигаюсь на того, что посередине, грудью прямо на его нож. Он пятится.
– Вы ничего мне не сделаете! Эти трое бесноватых вам больше не повинуются, они вас не слышат, вы только зря теряете время в их телах. Вон, говорю вам, вон, не то я загоню вас в могилу и прокляну до сорокового колена!
Двое срываются с места и пускаются наутек, третий машет ножом у самого моего лица. Я перехватываю его руку, ловко обезоруживаю. Он успевает заехать мне кулаком пониже уха.
– Дай же изгнать из тебя беса, мудило! – кричу я и бью его коленом по яйцам.
Согнувшись пополам, он падает в сухие листья, корчится, поднимается и улепетывает. Я перевожу дух, рассматривая дыру в куртке. Доновей стоит ни жив ни мертв от ужаса. Не сводя с меня глаз, он медленно осеняет себя крестом, и ноги у него подкашиваются. Я поддерживаю его, растираю, чтобы унять дрожь, и говорю:
– Ничего, один раз не считается, я больше не буду, никто меня не видел, и мы никому не скажем… А правильно я изгонял бесов?
Он пожимает плечами: мол, не знаю.
– Я-то думал, что-то чувствуешь, когда они выходят. Как же узнать, что они ушли?
– Я не знаю, Джимми…
Он кажется вдруг столетним, тяжело опирается на меня, смаргивает слезы, и мы направляемся к Пятой авеню. На полпути я признаюсь ему, что от этой драчки мне здорово полегчало. А ведь я вообще-то человек мирный. Может, это в генах. Он не отвечает.
Поднимаясь по замшелым каменным ступеням, я осторожно двигаю челюстью – еще болит после удара того бесноватого. Я вежливо спрашиваю вслух, но как бы сам себя, не лучше ли было не коленом в яйца бить, а подставить левую щеку. Чернокожий старик останавливается на верхней ступеньке и очень серьезно смотрит мне в глаза.
– Это превратное толкование, Джимми. Я тебе объяснял, когда ты был маленьким… Ну-ка, бей меня по щеке.
– Зачем?
– Ну сделай вид, будто бьешь.
Ничего не понимая, я медленно подношу ладонь к его щеке.
– Вот видишь: ты правша и, естественно, ударил меня по левой щеке. Стало быть, Иисус должен был бы посоветовать мне подставить в ответ правую.Если только ты не ударил бы тыльной стороной ладони. Так били римляне иудеев, с презрением, подчеркивая их инакость. И что же отвечает Христос? Он смотрит обидчику в лицо и говорит: «Если хочешь ударить, ударь меня как брата, а не как низшего». Ты понял, Джимми? Подставить левую щеку – это не проповедь непротивления злу, а протест против расизма.
Он идет к шоссе, машет проезжающему такси и, когда машина тормозит, возвращается ко мне.
– Никогда не забывай, что значит «Сын Человеческий». Каким бы образом ни появился ты на свет, какие бы ни плелись вокруг тебя интриги и сколько бы лжи ни замутило откровения, главное – это твоя человеческая сущность.Она одна связывает тебя с божественным.
– Ну что, едем или нет? – нервничает таксист.
– Твой свободный выбор свершит – или не свершит – волю Господа, Джимми, только он, а не состав твоей крови.
– Зачем вы мне это говорите?
Он садится было в машину и тотчас выскакивает обратно.
– Портфель забыл. Нет, не надо, я сам схожу, тебя ждут в отеле.
Старый священник хлопает дверцей, такси рвет с места, а он спускается по каменной лестнице и вдруг оборачивается:
– Запомни, Джимми… Сыном Божьим мало родиться – им надо стать.
Я смотрю ему вслед, вслушиваясь в эхо этой фразы, так странно противоречащей духу Евангелия.
~~~
На заднем сиденье лимузина, который вез их из Центрального парка в отель, Бадди Купперман и Ирвин Гласснер обменялись первыми впечатлениями. За обедом Джимми был самим собой и являл, на их взгляд, весьма убедительный коктейль из кротости и бунтарства, простодушия и проницательности, доброты и непримиримости. Бадди считал, что генетика сделала главное: оставалось лишь обтесать, отшлифовать да приодеть. Ирвин же, глубоко взволнованный встречей, представлял за дымовой завесой своей сигары, какой путь пришлось преодолеть этому простому парню, в одночасье ставшему из безбожника Богом. Вспоминая собственные метания между упоением ученого и смирением верующего, он ставил себя на его место, и вновь его бросало из крайности в крайность, от восторга к раскаянию.
Когда они вошли в люкс 4139 отеля «Паркер Меридиан», на экране слежения размахивали ножами трое наркоманов, заснятые микрокамерой, которой был оснащен отец Доновей.
– Это что такое? – с порога набросился Купперман на доктора Энтриджа. – Кто вам разрешил?
– Я тут ни при чем! – запротестовал психиатр из ЦРУ.
Вне себя координатор потребовал объяснений у агента Уоттфилд; та, не сводя глаз с экрана, открестилась от причастности ФБР.
– Они настоящие,Бадди.
– Изыди, нечистый дух! – возопил появившийся на экране Джимми, крестообразно раскинув руки.
– Он сошел с ума! – простонал Гласснер и выронил сигару. – Его же убьют!
– Группа наблюдения, вмешаться! – скомандовала Ким Уоттфилд в свой телефон.
– Постойте! – рявкнул Бадди, увидев, как два наркомана уносят ноги.
Когда был обезврежен и третий, Ким дала отбой следившим за Джимми фэбээровцам, и атмосфера в люксе разрядилась.
– Во всяком случае, в роль он вошел, – заметил пресс-атташе, придя в себя после пережитого. – Не знаю, как вы, а я поверил.
– Он тоже, – отозвался Купперман с ноткой озабоченности в голосе. – Пожалуй, даже слишком.
– Как бы то ни было, – настаивал на своем пиарщик, – он владеет материалом.
– Или наоборот, – хмыкнул призадумавшийся епископ Гивенс.
Джимми на экране между тем спрашивал, не лучше ли было подставить левую щеку. Специалисты вполуха слушали объяснения о пощечине по-римски: каждый извлекал из случившегося свой урок и делал соответствующие выводы.
– Каков лицемер этот Доновей, – выдал профессиональную оценку доктор Энтридж: он один по-прежнему следил за происходящим на экране.
– А он нам еще нужен? – громко осведомился судья Клейборн, когда священник и Джимми расстались.
Все взгляды снова устремились на подрагивающие кусты, через которые шел отец Доновей, и тут за кадром, перекрывая шорох шагов, зазвучал его голос:
– Вот, господа советники, вы могли своими глазами убедиться как в его способностях, так и в его душевных качествах. Об одном вас прошу: употребите все это во благо. И не навредите Джимми.
Его серьезный тон не вязался с доводами торгового агента, но на это никто не обратил внимания.
– Я передам мой отчет доктору Сандерсену, – продолжал он, – после чего свяжусь с вами для оформления договора. Доброго всем вечера. Берегите Джимми.
Его рука заслонила экран, изображение пропало.
– Вы подписали договор? – спросил пресс-атташе.
Судья Клейборн ответил, что через два часа встречается с адвокатами Сандерсена в «Уолдорф-Астории». Оставалось несколько спорных пунктов, по которым Белый дом отказывался идти на уступки, в частности статья о неустойке, взимаемой с цедента в том случае, если предмет соглашения нарушит обязательство служить высшим интересам нации и публично выступит против цессионария, каковым является государство.
– Прокрутите-ка еще раз эту сцену! – распорядился Бадди Купперман, стоявший за спиной доктора Энтриджа, и наклонившись, облокотился на спинку его стула.
Психиатр пустил запись сначала. Ким Уоттфилд передала им информацию от телохранителей: Джимми очень медленно идет по Пятой авеню мимо «Гранд Арми Плаза» – при таком темпе он будет в «Меридиане» не раньше чем через семь-восемь минут.
– А портфель? – спросила она своих коллег.
– Он у нас.
– Разделитесь. Один остается при Джимми, другой возвращает портфель, забирает камеру и обеспечивает безопасность священника до аэропорта. Третий пусть сорвет ветку клена и принесет мне для исследования.
– Так что там с этим кленом? – поморщился Бадди Купперман.
– С тем, который он пытался лечить? – встрепенулся Ирвин.
– Сейчас, – кивнул Энтридж, прокручивая запись.
– Смотрите! – воскликнул Джимми на экране. – У него почки!
Энтридж остановил кадр и дал ветви крупным планом.
– Лично я вижу мертвое дерево, – вынес вердикт судья. – Эти почки прихватило весенними заморозками, только и всего.
– Я в этом мало что понимаю, – подал голос пресс-атташе, – но, по-моему, они зеленые.
– Невероятно, – пробормотал Ирвин, почти уткнувшись носом в экран. – Видите этот побег, вот здесь? Похоже на приток соков после подрезки. Но никакого надреза не видно. И потом, на это ушли бы недели… Сколько мы сидели за столом, час? Вы представляете, какую колоссальную энергию надо было сообщить дереву, чтобы оно «перепутало» времена года? Как должен был ускориться фотосинтез, чтобы образовались почки в июле?
– Мы же не видели дерево до того, – возразила Ким Уоттфилд. – Оно могло уже быть таким, когда Джимми на него набрел.
– А свидетельство садовника куда девать? – вскинулся пресс-атташе, но у Ким и на это нашелся ответ.
– Джимми был в таком возбуждении, что заставил бы кого угодно поверить во что угодно. Все, что он нам этим доказал, – свою харизму. И точка.
– У меня, – запротестовал доктор Энтридж, – нет абсолютно никаких сомнений в его искренности.
– Эту искренность он черпает в неведении относительно ваших манипуляций, – напомнила Ким.
– Это лишь означает, что результат превзошел самые смелые наши ожидания, – отрезал Бадди.
Ирвин повернулся к психиатру и задал вопрос, не дававший ему покоя с тех пор, как он увидел сцену нападения:
– Лестер, вы не думаете, что воскрешение дерева дало ему этот… эту, скажем так, власть над грабителями?
Доктор Энтридж осторожно ответил, что оба события могут иметь вполне рациональное объяснение: Джимми умеет драться, грабители это поняли и потому обратились в бегство, что до дерева, писал же Фрейд своей дочери Анне, что старая груша, которую три года все считали мертвой, вдруг зацвела.
– Ладно, – прервал их Бадди, – спрячьте-ка быстро всю эту музыку. Уоттфилд, пока не завершена четвертая стадия, вы сохраняете инкогнито.
Ким молча поднялась и вышла. При Энтридже она предпочла умолчать о сообщении, оставленном Джимми двадцать минут назад на ее автоответчике.
– Винцо-то было крепковато, – поморщился Бадди, тяжело опускаясь на лиловую софу. – Бургундское днем – ересь какая… Энтридж, дайте мне прослушать вашу беседу. А вы настоящий артист, епископ.
Епископ Гивенс, стоявший, скрестив руки, в проеме окна, вскинул голову и выпалил задиристо:
– Я верю в этого парня. Юмор, боевой дух, упорство, хитрость и чувство собственного достоинства – Ватикан будет в восторге.
– Над имиджем все же придется поработать, – вставил пресс-атташе.
Лестер Энтридж отдал Купперману диктофон и отвел в сторонку епископа для приватной беседы.
– У тебя есть сомнения, Лестер?
– Только один вопрос. Он был воспитан в отрицании веры; теперь он принимает догму через экзальтацию эго – нет ли риска, что из него выйдет интегрист, фундаменталист, неуправляемый фанатик?
– Нет, Лестер. Его вера логична, это не порыв. Он не уверовал – он признал очевидное.
– Ты не боишься, что его вера может обернуться против нас? В нем доминирует страх быть покинутым: он испытывает подсознательный дискомфорт, если не проецирует на ближнего свою паранойю отречения.
– Он и проецирует, на меня, а я успешно играю порученную мне роль, – улыбнулся прелат Белого дома. – Не беспокойся: я предохранитель от Бога, короткого замыкания не будет.
Они переглянулись, успокаивая друг друга, и одновременно вспомнили о четырех десятках операций по освобождению заложников, которые блестяще провели вдвоем, благодаря своему умению обращать против религиозных фанатиков их же фанатизм.
– Помоги мне убрать из проекта Уоттфилд, – продолжал Энтридж сквозь зубы. – Она с ним переспала.
– А, – сдержанно кивнул епископ. – У тебя и доказательства есть?
Психиатр показал на диктофон, который слушал Бадди Купперман, развалившись на софе, точно выброшенный на берег кит.
– Определись, что именно тебя смущает, – вкрадчиво заговорил его преосвященство, который умел загонять в угол приходивших к нему на исповедь так же ловко, как Энтридж своих пациентов. – В тебе оскорблено понятие целомудрия, неотделимое в твоем представлении от Иисуса, или ты боишься, что женщине достанется больше откровений в постели, нежели тебе на диване?
– Это что еще такое? – вдруг гаркнул Бадди, вырвав из уха наушник.
– С этим вопросом к агенту Уоттфилд, – сокрушенно вздохнул Энтридж. – Без сомнения, это дестабилизирует…
– Я про тот вздор, который он несет, а вы его поощряете! – прогремел координатор. – Противопоставить промысел Божий личной вере с целью приписать чудеса дьяволу – ну, дальше ехать некуда!
– Чтобы разрушить его механизмы защиты, – стал оправдываться Энтридж, – надо было спутать ему ориентиры.
– Я распределил роли, черт побери! Гивенс – жупел, вы – доброжелательный слушатель! А вы, когда он забивает себе голову бесами, с ним соглашаетесь! Видели, что из этого вышло?
– Я был вынужден углубиться в тему, чтобы он понял бессмысленность своих доводов…
– Нельзя углубляться вслепую! Когда буришь пупок, непременно упрешься в позвоночник! Нет, что за олухи у вас в ЦРУ!
– Ну хватит! – вышел из себя Энтридж. – Я не потерплю, чтобы меня учил моей профессии сценарист «Спасателей Малибу»!
– Я работаю в области видимого, в подсознание не лезу!
– Да уж, видели мы ваше видимое! В Ираке, в Пакистане, на Кубе…
– Это я, что ли, пытался отравить сигары Кастро? – заревел Бадди, вскакивая. – Я впрыскивал в его водолазный костюм вытяжку из ядовитых грибов? Я пропитывал его ботинки солями таллия, чтобы у него вылезла борода, в надежде разрушить его имидж?
– Все лучше, чем врать, что некая страна имеет оружие массового уничтожения, с целью развязать войну!
– Это было после меня!
– А я во времена Кастро еще не работал!
– Он идет, – сказал пресс-атташе, снял наушник и добавил, взявшись за ручку двери, с неожиданно истерическим подвизгом: – А вы постарайтесь успокоиться, забыли, что ли, кому приходится выдавать ваши темные делишки за передовые стратегии? Мне! Белый дом снес столько же голов в ЦРУ, сколько ЦРУ свалило президентов: вы квиты и перестаньте собачиться! На этот раз, черт возьми, мы работаем на Бога, так что держитесь в рамках!






