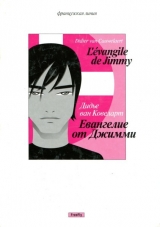
Текст книги "Евангелие от Джимми"
Автор книги: Дидье ван Ковелер (Ковеларт)
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц)
От улыбки Ирвина, робкой улыбки из несчастливого детства, у Бадди повлажнели глаза. За эти годы он частенько видел советника Белого дома по науке на экране телевизора: тот выступал всякий раз, когда над миром нависала химическая или бактериологическая угроза. Перед микрофонами пресс-центра он всегда выглядел одинаково: осунувшееся лицо, кожа как папье-маше, частая сетка морщин и выражение, с каким сообщают о катастрофе. Бадди был счастлив увидеть его сегодня преобразившимся, таким же окрыленным, как и он сам. Люди, которые кажутся старше своих лет, рано или поздно молодеют на глазах.
– Нет, ты представляешь, Ирвин? Еще не время нам умирать! Это ж какое везение: мы с тобой поучаствуем в величайшей политико-мистической авантюре всех времен, мало того, мы будем ею заправлять! Потрясающе, а?
Хоть Ирвин для того и явился, чтобы разжечь энтузиазм сценариста, сейчас он счел нужным слегка охладить его:
– На сегодняшний день, Бадди, главное – чтобы Джимми не прибрала к рукам какая-нибудь секта. Затем надо будет заняться его образованием, проэкзаменовать, проверить, есть ли в нем подлинное духовное наследие. Извечная борьба врожденного с благоприобретенным… Только тогда мы узнаем, насколько природа, потенциал и аура клона могут помочь нашим планам во имя мира.
Бадди нахмурился, засунул руки в карманы и рассеянно взглянул в застекленную стену. На берегу океана камера поймала в объектив актрису, игравшую новенькую спасательницу, которой старожилки устроили «крещение» в волнах. Он отвернулся. Весь его могучий ум, невостребованный в течение десяти лет кропания сериалов для заработка, словно пробудился, живой, как прежде, и лишь окрепший за время долгой спячки.
– Взрыв диспансера в Восточном Гарлеме – ваша работа?
Ирвин только рот раскрыл, ошеломленный быстротой мысли рыжеволосого гиганта: надо же, сразу связал концы с концами. Отвечать он не стал – его ведь ни во что не посвящали, и он тоже мог только догадываться, что это была мера предосторожности либо ЦРУ, либо ФБР.
– Чего они испугались-то, твои ковбои? Что эскулапу из диспансера придет в голову сравнить анализ работяги с кровью со Святой плащаницы? Они, может, думали, что Сандерсен запустил формулу ДНК в интернет, чтобы подать итальяшкам идею отжать хорошенько свою реликвию и клонировать себе персонального Мессию? Ну идиоты, мать их!
Этот гневный монолог заразил Ирвина возмущением и одновременно вдохнул в него надежду. Он с силой стукнул ладонью по этажерке:
– Вы правы, Бадди, довольно малым детям ломать взрослые игрушки! Ну же, к делу! Мне предстоит разрешить величайшую научную загадку на земле, а вам – вывести на сцену нового Христа.
Бадди мотнул головой и сердито буркнул:
– Ничего не получится.
– Почему?
– Я не могу покинуть Калифорнию, из-за лишнего веса. Какое бишь ограничение в Вашингтоне?
При виде растерянного лица Гласснера он оглушительно расхохотался и, довольный, хлопнул его по плечу, сказав, что штрафы пойдут по статье расходов.
– Будь спокоен, Ирвин, со мной плоть станет Словом. Я тебе создам такой бренд Любви и Прощения, какого мир не видывал в последние две тысячи лет! Если Туринская плащаница – пятое Евангелие, то я напишу тебе шестое! Скажи, это достойный ответ антисемитам, обвиняющим нас в убийстве Христа? К кому ты обратился, чтобы вновь дать ему слово? К еврею! Разумный выбор, старина!
Ирвин скромно склонил голову. Он привык вращаться в кругах, где не стоит опровергать приписываемую вам подоплеку тех или иных поступков, даже если ничего подобного у вас и в мыслях не было.
– Фото у тебя есть?
Ирвин достал из кармана фотографию: Джимми был заснят выходящим из фургона с гибким шлангом на шее. Дверь террасы распахнулась, и вбежали две девицы в купальных халатиках: у них вышел спор по поводу какой-то реплики. Бадди показал им снимок: мол, как он вам? Блондинка наморщила носик, брюнетка поинтересовалась, на какую роль претендент. Возвращая фотографию гостю, Бадди со вздохом заключил:
– Работы непочатый край.
Он вызвал по телефону такси. Гласснер поспешно принялся уверять, что в его распоряжении будет столько времени, сколько потребуется, и все необходимые средства, чтобы привести реального человека в соответствие с представлением о нем.
– Да я не об этом. Внешность можно подправить, над интеллектом поработать, но проблему это не решит.
– Какую проблему?
Купперман попросил девушек располагаться и вышел проводить советника по науке через песчаную полосу, отделявшую его дом от шоссе.
– Хоть он и сотворен из Плащаницы, пока у вас в руках всего лишь лабораторное животное.
Ирвин прищурился: лучи заката, отражаясь от стекол кативших в Лос-Анджелес машин, били в глаза.
– Что вы имеете в виду?
– Пока вы не получите официального признания Ватикана, ваш Христос не стоит и ломаного гроша.
~~~
Я больше не могу, Эмма. Я дошел до точки. Где бы я ни был, везде тебя нет со мной, и я рвусь сам не знаю куда, вперед, назад, подальше отсюда… Нет больше сил жить с этой пустотой. Нет сил ждать звонка, которого не будет. Твердить себе, что ты должна сама меня позвать. Сохнуть по тебе и знать, что ты рада моему молчанию, наверно, думаешь, я забываю тебя и мне лучше. Боюсь, единственный способ приблизиться к тебе теперешней – разделить твое равнодушие.
Я вернулся на виллу Неспулос, якобы доделать работу, которую, если честно, вчера закончил. Возился в будке, стараясь не шуметь, а сам ждал. И дождался: примерно в то же время, что и вчера, у бассейна смолкли птицы и зашелестела высокая трава. Мне будто опять показывали кино, которое я всю ночь прокручивал в голове: брюнетка остановилась у бортика, точно так же перекрестилась, сдернула трусики и нырнула.
Она плавала минут пятнадцать, и на этот раз я, присев у круглого окошка, держал руку в кармане и через подкладку гладил свой член. Не то чтобы вправду возбудился, скорее проверял себя, вроде как температуру мерил для очистки совести.
Черные волосы, водорослями колышущиеся вокруг точеного лица, длинные мускулистые ноги в движении, маленькие, почти символические грудки; она то и дело меняет стиль, энергично отталкивается, едва коснувшись бортика, чтобы не терять ни секунды… Ничто в ней не напоминает Эмму, все ново – или, наоборот, старо, много старее. Мальчишкой я прижимался лбом к стеклу витрины магазина игрушек и мечтал, уставившись на железную дорогу, воображал, будто это я отправляю и останавливаю поезда, подаю сигналы, перевожу стрелки; я представлял себе пассажиров в вагонах: они благодарили меня за путешествие и молились, чтобы поезд благополучно прибыл в пункт назначения, а это зависело только от меня одного… И сегодня, расплющив нос о круглое окошко, я чувствую себя точно так же. Смотрю, не отрываясь, на незнакомку, плавающую в бассейне, который построил я, мысленно командую ей: «На спине», «брассом», «баттерфляем» – и ведь срабатывает, за редким исключением.
Я даже перестал поглаживать свой член, чтобы лучше сосредоточиться, ну-ка, могу я ускорять ее темп, управлять ее телом на расстоянии, проникнуть в ее мысли? Несколько раз, поворачиваясь в кроле, она встречала мой взгляд. Или ничего не видит в воде, или эксгибиционистка. Каждый день дожидается моего прихода и идет сюда подразнить меня. Каждый день… Я вижу ее всего второй раз, но мне уже кажется, будто это ритуал, привычное свидание, какая-то взаимная тяга. Да, конечно, у меня давно не было женщины, но дело не только в этом. Первое время после Эммы я честно пытался забыть ее со случайными подружками – от этого было только хуже. Мысли о ней не покидали меня, а от сравнения становилось еще больнее; я сгорал со стыда и чувствовал себя мерзавцем по отношению к девушкам. Дурак я был тогда, думал, что меньше страдаешь, если вы квиты, и легче простить, изменяя в ответ. Чушь собачья. От большой любви можно излечиться только другой, еще более сильной любовью. И то если хочешь излечиться. Если не боишься рецидива.
Оторвавшись от окошка, я собираю инструменты и выхожу из будки. Поднимаюсь на две ступеньки, в последний раз оглядываюсь на ее ягодицы, двигающиеся в ритме кроля, полосатые от тени старой магнолии. Она вдруг останавливается посреди бассейна, гребет к тому концу, где мелко, и, облокотившись на бортик, звонко кричит:
– Джессика!
Я прячусь за дерево, оглядываюсь: к кому это она обращается, вроде никого нет. Вот оно что, я и не заметил, что она плавала с наушником. Врач она, что ли, или девушка по вызову, им положено всегда быть на связи. Сколько я ни напоминаю клиентам, что их водонепроницаемые телефоны могут разладить электронику моих бактерийных детекторов, у них это уже привычка – плещутся и звонят; им же хуже, получат ударную дозу хлора.
– Привет, как дела? Спасибо за сообщение, ты сказала, до пяти… Да, получше. Я в Гринвиче. Так, вдруг захотелось. Детство вспомнить… Здесь все запущено, но такая красота, в десять раз лучше, чем раньше. Вот увидишь, и еще огромный бассейн, просто мечта. Я работаю, взяла с собой досье, а в перерывах плаваю… Нет, одна. Они уехали во Флориду, так даже лучше… Особенно сегодня, я была бы просто не в силах. Нет-нет, брось. Или, если на то пошло, мужика мне пришли. Симпатичного, сексуального, желательно не урода и такого же несчастного, как я… Да нет, шучу. Просто, когда привыкнешь к счастью вдвоем, то… не знаю, это так выбивает из колеи, если вдруг остаешься совсем одна. И винить некого, кроме себя. Ладно, созвонимся. Целую, пока.
Она выходит из воды, сгибает и разгибает правую ногу – видно, судорога свела, – натягивает трусики и идет к дому. Притаившись за каменной оградкой, я провожаю ее глазами, надеясь на какой-нибудь знак: хоть бы оглянулась через плечо, улыбнулась, кивнула… Нет. Что я себе вообразил? Это внучка сторожа, она целыми днями работает, закрыв ставни, а в бассейне отдыхает. Любит купаться голышом и исповедует христианскую веру, только и всего: может, кто-то из ее родных утонул, поэтому она крестится, перед тем как нырнуть. Вот так. Заклинает судьбу. К тому же ее сердце занято; для меня нет места в ее жизни, я могу только подсматривать.
Я встаю, потирая затекшую спину. На поверхности воды, возле решетки бьется шмель. Иду за сачком и, проходя мимо лесенки, останавливаюсь, оторопев. На мокрой плитке, между ее следами, три буквы – она написала их ногой. КИМ. Поднимаю глаза, смотрю на дом, почти неразличимый за деревьями. Впервые вижу, чтобы кто-то писал свое имя, выйдя из воды. Она что, подписывает свои заплывы? Или это для меня? Она представилась. Ненавязчиво – я ведь тоже шпионил за ней, не показываясь.
Мне трудно дышать, в горле ком. Окунуть, что ли, ногу в воду и написать ДЖИММИ? Да нет, это будет курам на смех. Тем более что ее буквы уже испарились под солнцем. Достаю из воды шмеля, он, отряхнувшись, улетает, а я иду к фургону. Сердце колотится, прямо-таки бьет тревогу, не дает покоя, как назойливый будильник, что все трезвонит и трезвонит над ухом. Если бы я верил в призраков, подумал бы, что миссис Неспулос умерла и что это она решила подарить мне женщину, как когда-то при жизни, вроде как подмигнула с того света: мол, забудь Эмму, жизнь продолжается…
Домой я не поехал. Долго ошивался на главной улице Гринвича под вязами, где уйма модных магазинов, и потратил ползарплаты на рубашку, брюки и ботинки, чтобы хоть мало-мальски прилично выглядеть. Захотелось преобразиться, удивить самого себя, вернуться к жизни… Приятно было снова тешить себя иллюзиями. Перед зеркалом примерочной кабины я втянул живот и улыбнулся своему отражению. Симпатичный, сексуальный, не урод – и уж точно такой же несчастный, как она…
Солнце садилось, когда я толкнул створку ворот и направился прямо к дому. Стеклянная дверь на первом этаже, в том углу, где жили сторож с женой, была распахнута. А женщина оказалась на террасе миссис Неспулос. Сидела за столом под увитым глицинией сводом, перед именинным тортом с тремя зажженными свечками и, опершись подбородком на руки, смотрела, как я приближаюсь. Без тревоги, без удивления, без любопытства. Она ждала меня. Когда я подошел совсем близко, ее губы дрогнули в улыбке, но эта улыбка предназначалась не мне: так улыбается сам себе человек, выигравший пари.
Я заранее заготовил первую фразу. Так для затравки, без затей и по-честному, скажу: «Извините, это опять я, я тут чинил бассейн». А она ответит: «Я вас узнала». Но слова растаяли под ее взглядом, когда я поднимался по ступенькам, зажав в руке бутылку шампанского. Она слушала старый джаз. Нора Джонс, «Don’t Know Why». У меня засосало под ложечкой: надо же, у нас одинаковые вкусы. Я поднял повыше бутылку «Дом Периньон», съевшую весь мой отпускной бюджет, и сказал:
– Добрый вечер, Ким.
Она смотрела на меня поверх трех язычков пламени, втянув щеки, то ли от робости молчала, то ли посмеивалась надо мной, не знаю. Глаза у нее оказались серые, очень светлые. Цвета устрицы, чуть-чуть поярче. Когда она плавала, глаз я не видел. Накрашенная, в вечернем платье, она выглядела как-то неуместно среди прошлогодней листвы, устилавшей пол террасы.
– А вас как зовут?
Я написал свое имя на запотевшем боку бутылки. Поставил шампанское перед ней на стол и, пока она всматривалась в буквы между капельками, добавил:
– Вообще-то я менял обшивку кабеля в будке.
– Ваш взгляд мне льстит. В ноябре меня бросил мужчина моей жизни, и с тех пор я живу как в пустыне; сегодня у меня день рождения, тридцать лет, и мне захотелось сделать себе подарок. Я вас шокирую?
Я слегка обалдел: чтобы вот так прямо, в лоб, называть вещи своими именами… Но ответил как надо: ничего, я и сам в таком же состоянии, только подарка, пусть не сочтет за лесть, она заслуживает лучшего.
– Оплеухи я заслуживаю. С мужчиной так не разговаривают.
– Вы же со мной разговариваете.
– Разучилась я, мне теперь нечего сказать, никому. Вам это знакомо?
Я киваю. И вежливости ради говорю, хоть это и не совсем правда, что впервые посмотрел на женщину, с тех пор как остался один. Она подносит палец к губам, не дав мне закончить.
– Оставайтесь незнакомцем, пожалуйста. Я бываю чересчур сентиментальна… после.
Проглотив вертящееся на языке «И я», спрашиваю, почему она крестится, перед тем как нырнуть.
– И когда в меня входит мужчина тоже. Это рефлекторное, как бы самозащита. Молюсь, чтобы все обошлось, чтобы не подцепить болезней…
Я успокаиваю ее: в этом бассейне нечего опасаться. Она благодарит. Повисает молчание, только слышно, как где-то за домом квакают жабы.
– Вы хотите заняться со мной любовью, Джонни?
Говорю «Конечно» с несколько преувеличенным энтузиазмом. Не столько проявляю галантность, сколько сам себя уговариваю. Я ведь понимаю, что ей от меня ни жарко ни холодно; она берет что оказалось под рукой, и только. Все-таки уточняю, что я Джимми. Но это не ее вина: трудно читать на запотевшей бутылке.
Она смотрит на меня сверху вниз, привстав, обводит взглядом, словно ищет рядом со мной второй стул. Спрашиваю, чем она занимается. Она отвечает коротко, что недавно устроилась в адвокатскую контору. И без перехода говорит:
– Так может, прямо сейчас? А шампанское оставим на потом.
– А торт?
– Он размораживается, это готовый меренговый торт. Я только что его достала: у нас есть полчаса. Пойдем к вам?
Я отвечаю, что у меня тесновато и ехать далеко.
– Да нет, я имела в виду бассейн.
Она встает, по-кошачьи прижимается ко мне. Я машинально обнимаю ее с неприятным чувством: в бассейне – это не будет для меня ново, Эмма обожала «инспектировать» со мной мои бассейны, когда хозяева были в отъезде. Ким, кажется, что-то чувствует, она внезапно увлекает меня вниз по ступенькам, и мы вваливаемся в открытую дверь квартиры сторожа. Что ж, здесь я, можно сказать, не бывал, разве что заходил пива выпить. Она подталкивает меня, я так и пячусь задом, натыкаясь на зачехленную мебель, мы падаем на диван и любим друг друга среди белых призраков, осуждающих нас своей неподвижностью.
Ну то есть «любим»… Едва раздевшись, она сама надевает мне презерватив, крестится и усаживается на меня верхом, поджав ноги. Смотрит в стену, дышит в такт: вдох – выдох. Я пытаюсь подстроиться под ее дыхание, хочу погладить грудь, но она удерживает мои руки, как будто я ее отвлекаю. Сколько-то времени мы двигаемся молча, потом я спрашиваю, нравится ли ей. Она замирает, потом, опершись руками по обе стороны от моей головы, наклоняется, приподнимается, раз-два, вдох – выдох, вверх – вниз, целуя меня на каждом выдохе в губы.
– Хорошая поза, – шепчет она, – укрепляет ягодицы.
Я киваю с видом знатока. Впервые вижу, чтобы женщина на мне отжималась. Она, конечно, не дает остыть, облизывая мои губы и нашаривая своим язычком мой на счет «два», но все равно это как-то расхолаживает. Я не против совмещать приятное с полезным, но пока не очень понимаю, где тут приятное.
– Ты чувствуешь?
Она водит моими руками по своему телу, напрягается, чтобы я оценил. Нет, точно, эрогенные зоны у этой штучки – мускулы. Мы меняем позу каждые три минуты, ей неймется, и каждый раз она просвещает меня, что сейчас работает: квадрицепсы, брюшной пресс, приводящие мышцы…
– Ляг, обопрись на локти, а я сяду на тебя, вот так, отлично.
Она усаживается сверху, спиной ко мне, выгибается, идет штопором вниз и снова вверх, отталкиваясь ладонями.
– Руки, плечи, грудь, – перечисляет она. – А если я сяду на корточки, еще и бедра будут работать. Здорово… Хочешь, кончим так?
– А это для чего полезно?
– Для грудных мышц.
И тут я прекращаю упражнение, переворачиваю ее, подминаю под себя и, стиснув зубы, неотрывно глядя в ее глаза, чтобы довести до белого каления, кончаю на ней, не думая больше о мышцах, пусть делает с ними что хочет.
– Ты меня все-таки поимел, – улыбается она, отдышавшись.
Я бы удивился, будь это правдой, но сказано скорее от гордыни, чем по доброте душевной. Такие, как она, всегда и во всем первые, берут свое и подчиняют мир своей логике: трахаюсь – значит, кончаю.
Мы встаем под душ вместе, по-приятельски, пошатываясь на ватных ногах и вежливо улыбаясь друг другу. Она горда своим телом, а я горд тем, что узнал благодаря Эмме любовь с настоящей женщиной: мне теперь трудно угодить, зато я стал терпимее. Ее ладони лежат в мыльной пене на моей груди; она говорит, что я ведь все равно кого-то люблю, у нас это только и могло быть гимнастикой для здоровья. Я киваю, сумев выдержать ее взгляд. И впервые чувствую к ней нежность – за это понимание, за эту прямоту, за то, что она на свой манер уважает мои чувства. Иной раз мы деликатность принимаем за эгоизм.
Полная луна освещает террасу, торт превратился в лужицу, в которой лежат три потухших огарка. Она сжимает мою руку: «Спасибо». «С днем рождения», – говорю я. Она вдруг крепко обнимает меня и шепчет, что я потрясный парень, только ей сейчас не нужны потрясения. Я шепчу в ответ, что понимаю, целую ее в щеку и ухожу, с легкостью во всем теле, по мокрой от росы траве.
На часах без четверти десять. Посплю-ка я в фургоне на паркинге «Дарнелл-Пула»: завтра все равно на работу, и потом, не хочется смотреть в глаза своему отражению в зеркалах Эммы. Хотя сегодня впервые с тех пор, как она меня бросила, я чувствую, что мы стали ближе.
Я не знал, что разочарование может быть благом. Щурясь от бьющего в стекло солнца и горячего пара над чашкой с кофе, я уплетаю яичницу за стойкой Уолната. Вчерашняя любовь по-быстрому, от знакомства до расставания ровно пятьдесят минут, – это мне и было нужно, чтобы прийти в себя. Моя страсть к Эмме будто окрепла сегодня, и я начинаю думать, что наша встреча – а она непременно состоится рано или поздно! – будет куда лучше, если я сумею ждать ее вот так, за чередой женщин, для всех доступный и всем полезный, вместо того чтобы сохнуть, храня тупую верность из мазохистского мужского тщеславия. Жизнь-то продолжается! Как написал один русский в какой-то из книг, что мне давала миссис Неспулос, «когда дом рухнул, между развалин вырастают цветы».
– Здравствуйте, мистер Вуд.
Я оборачиваюсь – мне протягивает руку незнакомый пожилой негр в сером пиджаке. Портфельчик под мышкой, добрая улыбка, а взгляд встревоженный. Лицо с пухлыми щеками и седыми бровями смахивает на картинку с упаковки риса «Анкл Бенс». Я здороваюсь тоном для клиентов: мол, дел по горло, но для вас, если очень надо, свободен.
– В «Дарнелл-Пуле» мне сказали, что я найду вас здесь… Отец Доновей, – представляется он после паузы, буравя меня взглядом.
Действительно, к лацкану пиджака приколот крест. Священник в бассейне – редкая птица. Наверное, устраивает какой-нибудь летний лагерь для детей.
– Надеюсь, я вам не слишком помешал.
Ничего, отвечаю, пять минут у меня найдется. Показываю глазами на столик в углу, но он, улыбаясь, молча кивает на дверь. Поди пойми, здесь все пристойно, спиртного не подают до семи вечера, и шлюшки в будни не заглядывают. Ладно, доедаю яичницу, залпом выпиваю кофе и выхожу вслед за ним. На улице он оборачивается и знакомит меня с молодым человеком, лысым, в квадратных очках:
– Доктор Энтридж.
Мы здороваемся. Похоже, у них проблема, аллергия на хлорку, что ли? Точно, целый лагерь может заболеть от неверной дозировки.
– Вы можете уделить нам немного времени, мистер Вуд? – спрашивает доктор, удерживая мою руку в своей, и смотрит на меня с надеждой и тревогой, взглядом игрока в телевикторине, как будто я знаю правильный ответ.
Священник между тем сходит с тротуара и направляется к огромному черному лимузину, метров восемь длиной, с шестью дверцами и тонированными стеклами. Интересные дела… Пытаюсь разглядеть номер. Я, между прочим, обеспечиваю водоснабжение фонтана перед частной резиденцией губернатора, так что правительственную машину всегда узнаю. Лагерь-то не иначе для детей больших шишек. Средняя дверца распахивается, мелькает синий рукав с золотой пуговицей, и доктор приглашает меня внутрь. В салоне холодина от кондиционера, кремовая кожа, сверкающий хрусталем бар, домашний кинотеатр. Меня усаживают перед краснолицым стариком с напомаженными волосами, который позвякивает льдинками в стакане, – этакий яхтсмен.
– Судья Клейборн. Очень рад с вами познакомиться.
Отвечаю, что я тоже, чувствуя себя немного неловко: уж очень уважительно он это сказал. Похоже, моя слава бежит впереди меня. Не знаю, кто меня порекомендовал, но, раз такое дело, ставки надо повысить.
– Выпьете что-нибудь прохладительного? – предлагает священник.
Они расположились в ряд на сиденье напротив и все трое уставились на меня, скрестив пальцы и выжидающе улыбаясь: можно подумать, мой выбор напитка повлияет на будущее страны.
– Спасибо, кока-колу, если можно.
Они тихо переговариваются с сокрушенным видом. Кока-колы нет. Действительно, она же под запретом в Коннектикуте. Я киваю на графин.
– Не важно, тогда того же, что вы пьете. Так какое у вас ко мне дело?
Судья и доктор смотрят на меня, потом на священника и опять на меня, как будто что-то сравнивают.
– Вы никогда раньше не встречались? – спрашивает судья.
Я отвечаю «нет» и добавляю, что мне очень жаль. Да уж, контракт на обслуживание их бассейна меня бы сейчас очень устроил. Судья наливает мне апельсинового соку, серебряными щипчиками кладет в него два кубика льда и, протягивая мне стакан, спрашивает:
– Что вы знаете о своей семье, мистер Вуд?
Это прозвучало как бы между прочим, таким тоном он мог бы спросить о бейсбольном матче или о погоде.
– О моей семье?
– О ваших предках, – уточняет доктор Энтридж.
Я сглатываю слюну. Представлять послужной список и рекомендации мне не привыкать, для администрации губернатора пришлось делать аж четыре экземпляра, да еще каждый год я должен подавать письменный запрос на ремонт их фонтана, но справки о семейном положении с меня еще никто не требовал.
– Я с рождения сирота. У меня были приемные родители, но мы жили в штате Миссисипи, и они уже умерли. Больше у меня никого нет, и я не женат, вот.
На всякий случай я добавляю, что живу в гражданском браке с женщиной, которую обожаю. А то еще, не дай бог, вообразят себе что-нибудь вроде педофилии. Лагерь – это дети, а где дети, там всегда есть место подозрениям: мне, случалось, и не из-за такого отказывали.
– С каких пор вы себя помните? – спрашивает доктор.
Мне вдруг становится смешно. Я не хочу никого обидеть, но глядя на них – сидят передо мной рядком, подались вперед, слушают внимательно, разыгрывают участие, – чувствую себя ни дать ни взять смертником перед казнью. Я им так и говорю. Они переглядываются без улыбки.
– Как в кино: тюремный священник, врач и судья. Герою осталось жить час, вот они и пришли, все такие добрые, угостить его выпивкой, удостовериться, что он сядет на электрический стул в добром здравии, и исповедовать напоследок, авось выболтает то, чего не сказал в суде.
Судья отставляет свой стакан.
– Простите, если я буду излишне резок, мистер Вуд, но нам поручено открыть вам ваше происхождение.
– Не спешите, – одергивает его «Анкл Бенс».
– Вы нашли моих настоящих родителей?
Слова вырвались сами собой, это было сильнее меня; я смотрю на смущенные лица троицы.
– В каком-то смысле да, – тихо произносит священник.
– Я психиатр, – зачем-то сообщает мне лысый с успокаивающей улыбкой.
– Как они поживают?
Повисает молчание, и до меня начинает доходить вся нелепость этой сцены. Каким боком мое семейное положение может касаться правосудия, медицины и церкви? Разве что я побочный сын пастора Ханли, этого телепридурка и миллиардера… А что, шесть каналов, три авиакомпании, двенадцать тысяч судебных исков и пятое место в рейтинге популярности «Нью-Йорк Пост»!
– Напрасно вы так ощетинились, – улыбается психиатр. – Мы в некотором роде принесли вам благую весть.
– Истинно так, – с серьезным видом кивает священник.
– Но приготовьтесь к потрясению, – добавляет судья.
Я довольно сухо отвечаю им, что мне тридцать два года и все это меня больше не волнует: на своем дерьмовом детстве я давно поставил крест, выбросил воспоминания на помойку и путешествую налегке. Кто произвел меня на свет – мне до лампочки.
– Почему же? – нестройным хором возмущается трио.
– Родители меня бросили.
Судья и психиатр смотрят на священника, а тот опускает глаза:
– Вы не должны так говорить, даже если…
Он не договаривает, сконфуженная улыбка повисает многоточием. Мне вдруг приходит в голову, что мои биологические родители, возможно, захватили самолет или что-то в этом роде; власти выяснили, кто они, а меня нашли по генетической карте и хотят использовать как средство давления. Тогда понятно, откуда и лимузин, и эта троица. Психолог преподносит мне новость, судейский предъявляет ордер, священник благословляет, а потом меня везут на место, чтобы я вел переговоры.
– Это что-то ужасное?
– Ужасное? – без всякого выражения переспрашивает доктор Энтридж.
– Да, что они натворили?
– Ну ладно! – решительно вступает судья и хлопает в ладоши, упершись локтями повыше колен. – Хватит ходить вокруг да около. Никаких родителей нет.
– В смысле зачатия и рождения, – уточняет психиатр.
– Но родство есть, – с нажимом добавляет священник.
– Не будем спорить по мелочам, – осаживает его судья и, протянув руку, хлопает меня по колену. – Как бы то ни было, вы должны знать, мой мальчик: все, что будет здесь сказано, – государственная тайна. Вам ясно? Ни под каким видом и ни при каких обстоятельствах вы не имеете права разглашать ее никому.
– Да что разглашать? – срываюсь я. – Пока, уж извините, я вообще не въезжаю, о чем речь! У вас ко мне дело – валяйте, говорите, что нужно, поедем на место, составим смету, а вы вместо этого выпытываете, что я помню про свое детство, а потом оказывается, что и помнить-то нечего, у меня, стало быть, вообще нет родителей. Ну спасибо, просветили! Все, кончайте бодягу, мне некогда, работа ждет.
– Мы вас понимаем, – умиротворяюще кивая, лопочет судья, похожий сейчас на откормленного цыпленка, – но это не то, что вы думаете, мистер Вуд.
– Что же тогда? Программа «Розыгрыш»? Вы наняли актеров и надеетесь запродать ваш фильм каналу CBS, на премию метите?
Эти три шута гороховых вздыхают, перешептываются, потом достают свои удостоверения и суют мне под нос. С виду вроде настоящие, хотя я в этом мало что смыслю. Вижу только, что из трех документов два – пропуска, с фотографиями, магнитными и штриховыми кодами, печатью Белого дома, все честь по чести.
Сглотнув, я киваю и с покаянным видом говорю:
– Ладно, понял, я сын президента. А он у нас гей, так что все ясно про государственную тайну.
Три документа скрываются во внутренних карманах.
– Сделайте одолжение, не дурачьтесь, мистер Вуд.
– Все, все, молчу, – издеваюсь я, подняв руки: мол, сдаюсь, мир. – Можете успокоить папочку, я вообще не родился, мне ничего не надо. И кстати, на выборы я не хожу.
Судья топает ногой, священник призывает к спокойствию, а сам, сразу видно, злится еще пуще.
– Ну хватит, перейдем к делу! – рявкает психиатр. – Что вы можете сказать о клонировании?
– Это что – «уличный микрофон»? Опрос общественного мнения? Меня выбрали наугад из толпы и я буду гласом народа?
– Что вы можете сказать о клонировании? – повторяет доктор, чеканя слова.
Отвечаю: ничего хорошего. Взять хотя бы Баррингтона: старый хрыч выстроил олимпийский бассейн для себя одного, никогда не здоровается, а свои заплывы на десяток гребков устраивает точнехонько во время перемен, чтобы подразнить ребятишек из соседней школы, так вот, он отстегивает целые состояния какой-то лаборатории, чтобы ему делали копии его кота. У него перс, голубых кровей, с медалями, эта глупая тварь тонет каждые два года и тут же воскресает, моложе и здоровее, ума только не прибавляется, зато шерсти еще больше, вечно она закупоривает мои фильтры.
Они ерзают от нетерпения, но не перебивают меня. Дослушав до конца, судья говорит:
– Мы имеем в виду клонирование человека. Вы знаете, как это делается технически?
– Я знаю, что это запрещено, но все этим занимаются и скоро правительство даст разрешение, чтобы и ему процент капал.
Судья хочет возразить, но его опережает доктор Энтридж:
– В конце прошлого века, мистер Вуд, были осуществлены важнейшие опыты, совершившие революцию в биотехнологии. Я сейчас говорю не о саморекламе некоторых сект, объявлявших о чудесном рождении, чтобы поживиться кредитами…
– Короче, – вмешивается судья, – еще в 1994 году американские ученые, разумеется, в строжайшей тайне, владели методом пересадки ядра из клетки, взятой у живого существа…
Я непроизвольно поднимаю руку, услышав дату моего рождения. Но он продолжает:
– …и даже делали попытки клонирования на основе молекул ДНК от умерших. Слушаю вас?






