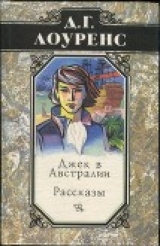
Текст книги "Джек в Австралии. Рассказы"
Автор книги: Дэвид Герберт Лоуренс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
ГЛАВА XXI
Заблудился
Спустился вечер, а он все еще ехал. Но лошадь прихрамывала и не хотела больше повиноваться. Темнота надвигалась с неимоверной быстротой. Он мечтал найти колодец или ручей, ибо мучительная жажда давно заставила его выпить все содержимое фляжки.
На его счастье лошадь встрепенулась и пошла бодрее. Через несколько минут она остановилась. Стало совсем темно. Он понял, что лошадь обнюхивает деревянный колодец. Джек соскочил, с трудом вытянул ведро, так как вода была очень глубоко, напился сам и напоил лошадь. Затем, не без труда, расседлал ее и привязал к дереву. Попил еще и съел кусок хлеба с сыром. Его клонило ко сну и он скоро задремал. Во сне он увидел Казу, приближающегося к нему с топором. Как хорошо, что Казу умер – теперь его зароют для удобрения земли. Разве старик Джордж не говорил этого? – «Земле нужно, чтобы люди были зарыты в нее, ради удобрения». Люди, подобные Казу – умершие и обратившиеся в удобрение, и люди, подобные старику Эллису! Бедный, старый Па!
Джек вспомнил о Монике. Об ее нежном, как цветок, личике. Испачканное этим грязным животным, Казу! Его следовало убить дважды! Но и в ней – Джек ясно сознавал это – было теперь что-то отталкивающее. Как могла она позволить этому негодяю приблизиться к себе! Нет, никогда его руки не дотронутся до того, к чему прикасались руки Казу. С Моникой все было покончено.
Тетя Матильда сказала: «Довольно одного скандала в семействе». Ну что же, теперь смерть Казу была скандалом не хуже первого!
Как пустынно в лесу! Какие большие, яркие звезды и как страшна одна из них! – «руку мою я обагрил в крови». И разглядывая при свете звезд свою окровавленную, больную руку, он не отдавал себе отчета, чья это была кровь, его или Казу. Он поднял руку к самой большой и яркой звезде и громко произнес: – Вот, вот моя окровавленная рука; возьми ее. Между нами всегда будет кровь.
Звук собственного голоса разбудил его. Он осмотрелся. Услышал поблизости свою лошадь и позвал ее. Она тихо заржала в ответ, продолжая пастись. Джек встал, чтобы убедиться, не нужно ли ей чего-нибудь, и ласково погладил ее.
– Видишь ли, – говорил он ей, – я не могу представить себе, чтобы Моника путалась с этим мерзавцем. Но верно такова моя судьба. Надеюсь, что если у меня будут дети, то они будут воинами. У моих детей должны быть зубы дракона и бесстрашие бойца. В Казу не было ничего воинственного, вот почему он погубил Монику. Она же, наоборот, создана для воина. Странно, ведь мой отец тоже совсем не воин. Он настоящий мещанин. Поэтому он и стал генералом. А я воин.
Он снова уселся, прислонившись к дереву и вглядываясь в далекие звезды и в темные пространства между ними. Рука болела сильно, но он не отрывал глаз от звездного неба.
Спал он беспокойно, лихорадочно, видел тревожные сны и встал с рассветом, чтобы напиться и окунуть в воду голову. Подошел его конь, которого он с трудом напоил и оседлал. Затем направился к колодцу наполнить фляжку, а когда вернулся, лошади уже не было.
Он позвал ее и услышал ответное ржание. Он сделал несколько шагов вперед, она снова где-то ржала; Джек стал искать, но найти нигде не мог. Странно! Ведь она должна была быть в нескольких шагах. Он стал осматриваться по сторонам. Тропинка исчезла. Колодца тоже не было видно. Одна лишь безмолвная, мстительная чаща. Заблудиться он не мог. Это было невозможно. Ферма и поселок должны были быть в каких-нибудь двадцати милях отсюда. Но идя дальше и проходя мимо редеющих зарослей резиновых деревьев, мимо гниющих стволов упавших гигантов, он понял, что действительно заблудился. И все-таки это казалось немыслимым. Он должен был набрести на какую-нибудь хижину, или напасть на след дровосека или охотника. Он ведь был так близко от жилых мест. В австралийских дебрях есть что-то таинственное. В них царит абсолютная тишина и тем не менее кажется, что где-то совсем рядом они полны жизни. Получается впечатление, что какие-то враждебные силы вас окружают и сбивают с пути.
Джек остановился, громко и продолжительно аукая. Ему послышался какой-то ответ, и он устремился вперед. Голова немного кружилась. Жаль, что он ничего не поел! Он вспомнил, что у него вышел весь запас воды. А он так быстро шел, что пот ручьем катился с него. Глупо. Он заставил себя идти медленнее. Снова остановился, оглянулся, и снова стал звать, но испугался при этом звука собственного голоса.
Джек собрался с мыслями и выработал план действий. Сперва надо было взглянуть на небо и сориентироваться. Затем он решил идти к западу от фермы «рыжих». Когда вчера вечером он от них уехал, солнце светило ему прямо в глаза. Или может быть разумнее было взять направо, в сторону дома? Если держать путь на запад, то предстояло пройти много-много миль. Нет, положительно, лучше идти домой. Быть может, кто-нибудь найдет его лошадь и придет за ним.
Он шел, имея прямо перед глазами солнце. Было очень жарко и он устал. Хотелось пить, ныла рука и сердце надрывно билось. Он снял с себя куртку и бросил ее. Вскоре за ней последовал и жилет. Стало немножко легче. Но все тело представляло собой невероятную тяжесть.
Он сел под кустом и крепко заснул. Долго ли проспал – он не помнил. Но проснувшись, привскочил, увидав себя в одних штанах и рубашке.
Что случилось? Первое, что он ощутил, было чувство страха – безумного, угрожающего страха. Во-вторых – томила жажда. В третьих – ужасно болела рана. Он снял с себя рубашку и сделал из нее повязку для руки. В четвертых – он вспомнил, что убил Казу и что это мучает его. Последнее обстоятельство больше всех остальных заставило вернуться его сознанию.
– Хорошо, – рассуждал он, – я убил Казу. Австралийские дебри поймали меня и теперь требуют моей жизни. Теперь умру я. Хорошо, пусть так будет. Я вечно буду бродить по зарослям с моей окровавленной рукой.
Но внезапно он в ужасе вскочил на ноги. На этот раз он действительно взглянул в лицо смерти. Казалось, для него наступило вторичное пробуждение и угасшая было жажда жизни проснулась с новой силой.
Боже, до чего может быть сильна жажда! Не стоит обращать внимания; дальше, дальше! Зачем сдаваться! Его вдруг осенила мысль о Монике. Почему она изменила ему? Почему все изменили ему и всему тому, чем он дорожил в жизни. Он опустил голову и горько заплакал, но тотчас же, поняв всю тщетность слез, снова успокоился. Сердце его, из которого только что лились слезы, ожесточилось. В нем не было больше сострадания. Оно исчезло. Взамен его появилась суровая, твердая, мужская воля. И он ее сохранит до конца своей жизни.
Повязка давила шею, он сбросил ее, пошел, держа руку на груди. Подтяжки тоже мешали. Он не хотел никакой тяжести. Остановился, сбросил сперва их, а потом насквозь пропотевшую фуфайку. Ему не нужно было всего этого, совсем не нужно. Пройдя несколько шагов, он в недоумении остановился, припомнив: он ведь только что намеревался снять с себя и брюки. Это было какое-то наваждение. «Сними с себя всю одежду, так поступают заблудившиеся в лесу люди, а потом находят их обнаженные трупы».
Он неуверенно взглянул на только что сброшенные рубашку и подтяжки. Все это происходило полчаса тому назад. Сознание как будто издевалось над ним, стирая из памяти все промежутки времени. Он закатал штаны до икр, прижал больную руку к груди и пошел дальше. Шляпа его давно уже потерялась. Все время в нем боролось желание сбросить с себя всю одежду и обувь и идти голым. Но одновременно какое-то другое чувство боролось против этого желания. С одной стороны, хотелось перейти границы. С другой – что-то, таившееся глубже сознания, противилось этому.
Дух его изнемогал, но ноги продолжали двигаться. Он пришел к неприятному и жуткому ощущению, что заперт и копошится в какой-то темной, непролазной пещере и что стены пещеры – его собственное тело. И он шел и шел по этой пещере, разыскивая в ней колодец и воду, пока, наконец, не споткнулся. Теперь он ждал одного – что стены пещеры рухнут и задавят его. А колодца все не было. Люди и события исчезли тоже: Моника, Казу, Том, Мери, Мать, Отец, Ленни. Они были подобны сухим, опавшим листьям, кружившимся где-то вдали. А здесь не было никого, ни души, он еще раз споткнулся, упал, острая боль, как молния, пронзила все тело, и он потерял сознание.
ГЛАВА XXII
Найден
Подсознательное «я» проснулось прежде всего остального, оно звучало где-то вдали, – непонятно, бессмысленно, упорно, все нарастая – подобно далекому шуму моря.
Темные волны сознания подымались все выше и наконец разбились. Глаза юноши раскрылись, и он спросил:
– Том, это ты?
Звук его голоса, странно шуршащий, подобно бумаге, так поразил его, что он снова опрокинулся в беспамятство. Ответа он уже не расслышал.
Но надвигающиеся волны все чаще и чаще обрушивались на него и глаза его снова открылись. Он ничего не узнавал. Что-то произошло с ним, но это было где-то вне его.
– Что это было?
Он неожиданно задал этот вопрос. Кто-то подносил к его губам чашку, в рот ему влилась жидкость.
Кто-то приподнял его голову и снова влил в рот воду. Он проглотил с трудом. Жизнь возвращалась. Перед глазами всплыли зеленые деревья на фоне голубого неба. Сам он был еще где-то далеко. Но мрак постепенно рассеивался. Он постарался улыбнуться, но из улыбки ничего не вышло. Его снова заставляют выпить глоток воды и ощутить дергающую боль руки. Ах, наконец-то он сообразил, как вкусна вода. Раньше он этого не понимал. Он стал жадно пить, забыв все остальное. И мысль его вдруг озарилась сознанием.
– Это ты, Том?
– Да. Тебе лучше?
Он разглядел, словно сквозь красный туман, лицо Тома. Верного Тома! И на этот раз душа его шевельнулась, словно тоже утолив жажду водою верности. Он продолжал пить маленькими глотками.
Джек мало-помалу возвращался к жизни. Но его налитые кровью глаза лихорадочно блестели, и сознание то и дело покидало его. Он понял только, что возле него Том, Мери и еще кто-то – он долго не мог узнать Ленни; чувствовал, что горит огонь, пахнет жареным мясом и что наступает ночь. Да, положительно, наступает ночь, или, быть может, сознание снова покидает его? Этого он понять не мог.
– Который час?
– Вечер! Зачем тебе?
Джек опять потерял сознание. Ему и не было охоты удерживать его, Том и Мери были с ним. Он предоставит себя верности Тома, нежной заботливости Мери и прозорливой бдительности Ленни.
Они перенесли Джека домой; но он был тяжко болен. Казалось, жизнь то возвращалась к нему, то снова исчезала, как вспыхивающий огарок, и все боялись, что он погаснет. Несколько раз Мери тревожно следила за его умиранием, но он вновь возвращался с рубежа смерти, вперив в них чуждый, затравленный взгляд.
– Что с тобой, Джек? – спрашивала его тогда Мери. Но взгляд оставался нем. Сидящий рядом Ленни пояснил:
– С него довольно жизни, вот и все.
Мери, бледная от страха, побежала к Тому:
– Том, он опять умирает. Ленни говорит, что это потому, что он не хочет жить.
Том молча бросил работу и вошел в дом. Ясно, он снова умирает.
– Джек, – каким-то странным голосом произнес Том, нагнувшись над ним, – товарищ, товарищ! – Как будто звал его обратно в лес.
Бессмысленные, лихорадочные, налитые кровью глаза Джека раскрылись.
– Неужели ты хочешь бросить меня? – с грустным упреком произнес Том. – Хочешь бросить меня, товарищ?
Джек поглядел на Тома и слабо улыбнулся. Том в своей отваге доходил до фатализма. Но это была та отвага, которая знала: важно лишь одно – идти вперед, навстречу смерти. Он как мужчина пойдет ей навстречу, а не станет сидеть и ждать. Джек слабо улыбнулся и бодрость вернулась к нему. Он ожил. На следующее утро он обратился к Мери со словами:
– Я все еще хочу Монику.
Мери опустила голову и ничего не ответила. Она увидела в этом заявлении надежду, что Джек останется жив. А в его голосе она узнала знакомую нотку непреодолимого упорства.
– Я и за тобой приду, когда подойдет время, – сказал он, взглянув на нее страшными, исстрадавшимися глазами.
Девушка ничего не ответила, но рука ее дрожала, когда она подавала ему лекарство. Было что-то пророческое и жуткое в его исхудалом, осунувшемся лице и налитых кровью глазах.
– Тише, – прошептала она, – тише, не разговаривай!
– Я никогда не откажусь от тебя, – сказал он, – но сперва мне нужна Моника. – Странно! Произнося все это, он казался победителем.
ГЛАВА XXIII
Золото
Юноша Джек не встал больше с одра болезни. Встал мужчина, с которого слетело все ребяческое и мальчишеское, сменившееся непоколебимой отвагой.
Он был бледен, худ и выражение ангельской чистоты навсегда исчезло с его лица. Щеки слегка ввалились, но вместе со здоровьем и силой вернулась и красота. Но, конечно, это не была уже та красота, при виде которой женщины, подобные тете Матильде, восклицали: «Ах, какой милый мальчик!» Больше всего изменились его глаза. Темно-синие, преисполненные чувства и теплоты глаза мальчика были теперь полны непроницаемости. В них чувствовался знак смерти, который придавал им особую силу. Когда он начал ходить, то и в походке своей заметил перемену. Он иначе ставил ногу, иначе держался. Исчезла прежняя легкая, застенчивая походка. Он сам замечал суровую костлявость и прямоту своей осанки; но к этой костлявости он привык за время болезни и примирился с нею.
На следствии Джек совершенно справедливо заявил, что застрелил Казу в целях самозащиты. Когда он ехал, у него не было ни малейшего желания убить кого бы то ни было. Проезжая, он остановился у фермы «рыжих», чтобы поздороваться. Он выстрелил в Казу потому, что знал, что если он этого не сделает, то топор опустится на его голову. Герберт дал такие же показания. Таким образом, Джек остался на свободе. Имя Моники было упомянуто только раз, когда Джек сказал, что собирался ехать на юг, чтобы повидать ее, так как всегда ее очень любил. Никто не намекнул на то, что отцом ребенка был Казу, хотя и миссис Эллис и мистер Джордж знали это.
Позднее Джек спрашивал себя, что, собственно, заставило его в то утро заехать к «рыжим»? Хотел видеть Казу, вот почему. Но кто может сказать, ради какой неведомой причины? Смерть объяснили старой враждой, существовавшей между Джеком и Казу. Только старый Джордж подозревал правду, но он, с хитростью и бесстрашием австралийца, заставил идти правосудие по тому пути, который казался ему справедливым.
Тем временем он вел с Моникой и Перси переписку. Они были в Альбани и как раз намеревались отплыть в Мельбурн, где собирались жить по-семейному. Моника снова ожидала ребенка. Узнав об этом, мистер Джордж решил их предоставить собственной судьбе, но на всякий случай переговорил с Мери, которая заявила, что Джек хочет Монику во что бы то ни стало.
– Если он вобьет себе что-нибудь в голову, то не отступится, – сказала Мери. – Таков уж он.
– Упрямый молодой осел, которого мало секли, – сказал старик. – Дьявольская кровь дьявола – отца его матери! Но мне-то все равно, пусть получает ее, да еще двух детей впридачу и пусть становится посмешищем всей колонии.
Поэтому он написал Монике: «Если ты желаешь видеть Джека, то оставайся в этой колонии. Он упорно стоит на том, что хочет тебя видеть, потому что, в отличие от остальных австралийцев, он скорее дурак, чем подлец». Она – не менее упрямая, чем он осталась в Альбани, несмотря на огорчение и недовольство Перси, уехавшего в одиночестве в Мельбурн. Он предоставил ей возможность, если она пожелает, ехать вслед за ним. Он только дождался рождения ребенка и затем немедленно уехал, не желая встречаться с Джеком.
Джек отправился морским путем. Для сухопутного он был еще слишком слаб.
Моника, более стройная, чем когда-либо, с грудным ребенком на руках, и с личиком, превратившимся в замороженный цветок, вышла на пристань встретить его.
Он сейчас же узнал ее, и сердце страстно забилось. Он шел ей навстречу, и взгляды их встретились. Она смотрела на него по-прежнему желтыми глазами пантеры, таящими в себе какой-то вечный, ожидающий ответа вопрос.
Этот взгляд делал ее обычно бесстрашной и бесстыдной. Но когда с ней был Перси, страх леденил ее, страх, что вопрос останется навсегда без ответа, что жизнь отвергла ее.
Это застывшее выражение лица и странная вспышка вопрошающих глаз были причиной того, что щеки Джека постепенно покрылись густым румянцем. И страсть глухо забурлила в нем. Он чувствовал: его страсть к ней осталась неизменной.
– Ты ужасно похудел, – сказала она.
– Ты тоже, – ответил он.
Она рассмеялась, обнажив свои мелкие, острые зубки. Она увидела в глазах его отпечаток смерти и это был – хотя и горький, но все-таки ответ на ее вопрос. Она нагнулась, чтобы поправить чепчик на головке ребенка. Джек молча наблюдал за ней.
– Куда ты собираешься идти? – спросила она, не глядя на него.
– К тебе.
Моника жила в крошечном домике в одной из боковых улиц. Но сперва она зашла к соседке за другим ребенком. Это была маленькая девочка с упрямым взглядом голубых глаз.
В домике оказались две бедно убранные комнаты. Но было опрятно, на окнах висели пестрые, ситцевые занавески, а вместо кровати стоял диван. Вдоль окна вились голубой вьюнок и страстоцвет.
Она положила младшую девочку в люльку, а с старшей сняла чепчик. Ее звали Джейн. Джек с любопытством разглядывал ребенка. У нее были шелковистые, рыжеватые вьющиеся волосы, с необыкновенно красивыми отливами. Глазенки были голубые и упрямые, цвет лица нежный, как у всех рыжих.
– Папы нет, – прощебетала она совсем равнодушно своим тоненьким голоском.
– Да, папы нет, – так же равнодушно сказала Моника.
– Новый папа? – спросила Джейн.
– Не знаю, – ответила Моника.
– Да, – несколько резко и насмешливо представился Джек. – Я твой новый папа.
Ребенок улыбнулся ему в ответ, тоже как будто насмешливой, еле заметной улыбкой и засунул палец в рот. День в чужом доме тянулся долго. Монике приходилось все время возиться с детьми и по хозяйству. Бедная Моника! Она уже успела превратиться в ломовую лошадь.
Наконец лампа была зажжена. Оба младенца уложены. Моника готовила легкий ужин. До того, как сесть за стол, Джек спросил:
– Ведь Джейн – ребенок Казу?
– Я думала, что ты это знаешь.
– Никто мне этого не говорил. Но это верно?
– Да, – ответила она и прибавила: – Ты возненавидишь ее?
– Не знаю, – медленно проговорил он.
– Не надо, прошу тебя, – умоляюще сказала она, – я сама чуть ли не ненавижу ее.
– Она слишком мала, чтобы ее можно было ненавидеть.
– Знаю.
Моника поставила еду на стол, но сама не притронулась ни к чему.
– Тебе нездоровится? Ты ничего не ешь.
– Не хочется.
– Надо есть, когда кормишь ребенка, – заметил он.
Но она стала еще грустнее и уныло сложила на коленях руки. Закричала младшая, и Моника встала, чтобы успокоить ее.
Когда она вернулась, Джек уже встал из-за стола и сидел в деревянном кресле Перси.
– В ребенке Перси как будто мало жизни, – сказал он.
– Да, не много, – ответила она, и руки ее дрожали, когда она собирала тарелки. Окончив работу, Моника принялась ходить взад и вперед; ей страшно было сесть.
– Моника! – подозвал он ее кивком головы. Она не спеша, с подернутым грустью лицом и безвольно опущенными руками, подошла и стала перед ним.
– Моника, – сказал он, вставая и взяв ее за руки. – Я хотел бы тебя, даже если бы у тебя была целая сотня детей. Так что об этом не стоит больше и говорить. Ты ведь не будешь противиться моей воле, не правда ли?
Она покачала головой.
– Нет, я не буду противиться тебе, – сказала она убитым, тихим голосом.
– Тогда позволь мне прийти к тебе. Я разыскал бы тебя и в Мельбурне, и на краю света. И пришел бы радостно и охотно, даже если бы меня там ждал ад.
– Но ведь это не ад? Не правда ли? – страстно и немного упрямо спросила она.
– Нисколько. Слишком много норова в тебе, чтобы кто-нибудь мог испортить тебя. Ты для меня та же, что была раньше. Один только Казу мог испортить тебя.
– Но ты убил его, – быстро, с легким упреком сказала она.
– Ты предпочла бы, чтобы он убил меня?
Она внимательно посмотрела на Него тем самым пристальным взглядом, который раньше так уязвлял его. Теперь он не причинял никакой боли.
Моника покачала головой.
– Я рада, что ты убил его. Я не могла вынести мысли, что он жив и издевается надо мной. Я действительно любила только тебя.
– Ах, Моника! – с улыбкой воскликнул Джек, слегка поддразнивая ее. Она вспыхнула от досады.
– Ты сам виноват, если не знал этого раньше.
– Действительно, – повторил он ее собственные слова и, не переставая дразнить, добавил: – Ты действительно любила только меня, но недействительно любила и других?
– Да, – упрямо ответила она, чувствуя себя побежденной.
– Ну, хорошо, – это теперь все в прошлом. Твою недействительную любовь ты уже получила, теперь получай твою действительную.
В соседней комнате спал ребенок Казу. Раздеваясь, Джек посмотрел на это его беспомощное наследие. Странное маленькое, бессердечное существо! Любить он его не сможет, но его бесстрашие и смешное упрямство забавляли его; он позаботится о восстановлении ребенка в его правах.
Джек заключил Монику в свои объятия и был счастлив обрести наконец то, что так давно было ему предназначено. Ему было хорошо, потому что он не растерял и не разбросал самого себя. Подобно жнецу, он снимал осеннюю жатву. Моника, сидя в кровати и кормя грудью ребенка, смотрела на спящего. Он был для нее вечным чужестранцем, которого она боялась, твердо зная, что никогда всецело не будет знать его, никогда полностью не будет обладать им. Она будет ему принадлежать, а не он ей. В его появлении было что-то роковое, против чего она восставала, но вместе с тем устоять не могла. Ибо пустота остальных – Перси, Казу, всех мужчин, которых она вообще знала – была хуже порабощения этим человеком. В нем было что-то верное и неизменное, но никогда, никогда он всецело не будет принадлежать ей. С этим надо было примириться.
Все равно. С нее по крайней мере снималась тяжесть ответственности перед жизнью. Правда, она теряла свое необыкновенное, соблазнительное могущество женщины, утрата которого для нее была невыносимой. Но одновременно это было и спасением, ибо свобода действий привела ее к пустоте, граничащей с безумием.
Она положила ребенка обратно в люльку и разбудила Джека. Он тотчас же протянул к ней руки, словно она была для него новым откровением. Моника задрожала. Сердце ее замерло, и она решила предоставить ему разрешать все вопросы. Это его дело, если он так хочет.
* * *
Они обвенчались в Альбани и остались там еще с месяц, до прихода корабля. Затем, всей семьей отплыли к северу. Они решили не ехать ни в Перт, ни в Вандоу. Джек только повидался проездом в Фриментле с мистером Джорджем. Начались два месяца скитаний с двумя малолетними детьми. В конце второго месяца умер ребенок Перси, и Моника почти не горевала о нем. Глядя на его заостренное в гробу личико, Джек подумал: «Смерть была лучшим для него исходом». И это было верно.
Но маленькая Джейн не собиралась умирать. Казалось, что странствования шли ей только на пользу. Моника была все так же худа. Для нее эта жизнь была адом: постоянное, мучительное, – в жару и в пыль, – передвижение с места на место, отсутствие достаточного количества воды для мытья, ночевки и еда где и чем бог пошлет. Она же любила порядок, привыкла держать себя в чистоте, наряжаться и жить в уютной обстановке. Какой дьявол уготовил ей такую жизнь, в качестве жены бродяги? Ответа она дать себе не могла, поэтому не стоило и задавать вопроса. Джек, казалось, знал, на что он шел. Моника стала его собственностью. Внешне он был добр и деликатен с ней. Но в душе он деликатен с нею не был. Он просто обладал ею, как своей собственностью. Иногда она пыталась было сопротивляться. Но тогда лицо его становилось таким злым и далеким, а взгляд таким чужим, холодным и надменным, что ей становилось невыразимо страшно. Она боялась тогда, что он бросит ее, отправит в Перт и выкинет из своей жизни. Это был какой-то особенный страх, как будто тогда ее выкинут из мира живых в царство мертвых. Откуда он брал эту власть над ней? Она этого не знала. Когда, бывало, он отлучался на неделю, она снова старалась отвоевать свою утраченную свободу, снова становилась прежней. Но стоило ему возвратиться – усталому, загорелому, почти в лохмотьях и все еще не достигшему никакого успеха, но с горячим желанием в своих синих глазах, – она испытывала такое счастье, что забывала все терзания, которые причиняло ей это его желание. И она изнемогала от радости, а не от страха. Вся ее пресловутая свобода не стоила минуты такого счастья. Иногда, наоборот, она была довольна, когда он уходил. Тогда она предавалась своим маленьким женским заботам, могла полениться, дольше поспать, беспечно играла с малюткой Джейн. Иногда заходила поболтать к соседкам, или же кокетничала с каким-нибудь молодым золотопромышленником. Но если кто-нибудь из мужчин пытался ее поцеловать, она сразу становилась неприступной и враждебной. Теперь уже не было того, что в прежние времена, когда объятия и поцелуи, будь то Перси, Казу или другой, опьяняли ее. Тогда между ней и молодыми людьми зажигалась искра. Ах, теперь эта искра не хотела зажигаться! Мужчина мог быть как угодно хорош и предприимчив, искра угасала как только он прикасался к ней. Это до боли, до слез злило и огорчало ее.
Казалось, плутовка Джейн отлично понимала, что происходит с матерью, и злорадствовала, принимая всегда сторону Джека. Она только и ждала его возвращения. Когда его не было, она как-то безучастно жила своей маленькой жизнью, но стоило ей услышать стук копыт его лошади, как девочка оживала и бросалась к дверям. Ребенок навел Монику на мысль, что Джек может интересоваться и другими женщинами. Ее поражала та искра, которую он зажег в этой крошечной женщине. Когда Джека не было дома, Джейн ни за что не хотела ложиться спать. Она капризничала и была несносна. Тогда и Монику охватывало беспокойство, страх за дом, оставшийся без мужской защиты. Зато когда за дверью раздавались его шаги, радостное волнение охватывало ее. Она чувствовала, что он возвращается к ней, именно к ней. Но откуда и от кого – этого она никогда точно не ведала. Она всегда знала, где Перси и что он делает. С Казу было бы, наверное, то же самое. Но с Джеком – она не знала и это бесило ее. Он отвечал ей на вопросы, но она знала, что были вещи, о которых нельзя было спрашивать. Проходили месяцы. Он взялся за шурфование и работал как простой рабочий. Да, он был обыкновенным землекопом, а она – женой землекопа, занимавшей комнату в маленькой землянке, спавшей на обтянутых холстом козлах; посуда была из жести и кушанья приготавливались только самые простые.
Ребенок Перси умер и был зарыт в песок – жалкая капля для жаждущей земли. Сама она была снова в ожидании и худа как щепка. Но теперь это был его ребенок! Он продолжал работать как вол. Он потратил больше года на поиски золота и не нашел его ни на грош. Они сильно бедствовали, задолжали лавочнику. Но Джек пользовался у всех исключительным уважением. Никто не осмеливался быть с ним запанибрата, но никто и не чуждался его. Правда, иногда мужчины подсмеивались над его неприступностью, утонченностью и гордостью. Но когда к нему обращались с вопросом, он отвечал так внимательно и приветливо, что невозможно было враждебно относиться к нему. В повседневных вопросах он был с ними всегда заодно и вполне им ровня. Но во внутренний его мир никто не допускался. Он не умел, как это часто бывает, сходиться совсем близко. Он мог выпить со всеми, поболтать, посмеяться, позубоскалить, но всегда в глубине его взгляда таилось что-то особенное, что сдерживало и останавливало других.
Они прозвали его по отцу – генералом. Но никогда еще не было генерала с такой маленькой армией. Товарищ, с которым он работал вместе, в один прекрасный день бросил его; генерал продолжал работать один. Он беспечно расхаживал по своему лагерю. Сидя в баре и распивая с приятелями пиво, он в действительности был всегда один и все прекрасно знали это.
Он перетерпел все неудачи, не падал духом и не унывал. Когда дела шли из рук вон плохо, он временно уходил и работал поденщиком, затем снова возвращался к поискам золота. Он превратился в настоящего золотоискателя и знал, что жилка эта должна еще более развиться. Знал также, что не принадлежит к тем баловням судьбы, которых преследует слепое счастье. Все давалось ему упорной борьбой.
От плохого питания, климата и суровой жизни у него сделалась лихорадка и экзема. Пустяки – это было лишь бренное тело, платящее подать. Могучий скелет его был крепок, как всегда. Тело, внутренние органы, мускулы могли лишь на время сломить его мужество. Иногда он изнемогал. Тогда он начинал раздумывать, чем бы помочь своему телу и крови. И все, что мог – делал. А когда ничто не помогало, ложился где-нибудь в тени и ждал возвращения сил.
Он знал, что в этой борьбе с землей и золотом он медленно приближался к победе. Конечно, он мог умереть и до победы. Тогда Монике придется покориться и все предоставить судьбе.
Но пока что он боролся. Предстояло рождение ребенка, денег не было. Он должен был из-за Моники оставаться дома. Несчастная родила близнецов-мальчиков. От нее самой почти ничего не осталось. Он должен был забросить все, вплоть до собственных мыслей, и направить все свои заботы на нее, чтобы спасти ее и обоих здоровенных мальчишек.
Он был в течение целого месяца врачом, сиделкой, хозяйкой и отцом семейства и работал на них, не покладая рук. Бедная Моника! Она цеплялась за него как за свою собственную жизнь. Но в этот раз он был близок к тому, чтобы бросить начатое дело, приискать себе место, чтобы обеспечить семью, и на всю жизнь превратиться в наемного работника.
В то самое время, когда он сидел погруженный в свои тяжелые думы, пришло письмо от мистера Джорджа со вложением чека из Англии на пятьдесят фунтов – наследство вовремя умершей тетки. Он решил, что, очевидно, судьба против его поступления на службу.
Таким образом, он вернулся к своей прежней работе. А через три дня, очищая свою кирку, он заметил на кончике ее крупинку золота. Он был совсем один и не позволил себе разволноваться, но чутье подсказало ему, что это была обильная рудная жила. Он продолжал работать и ощущал тяжесть желтой массы, которую он из нее извлекал.
Джек немедленно известил об этом Ленни, предложив ему приехать. Ибо Ленни туго приходилось с женой и ребенком.
Ленни приехал вдвоем с Томом. Джек не ожидал Тома. Но Том поднял на Джека свои карие глаза и сказал:
– Знаешь, я не мог вынести, чтобы Ленни стал твоим товарищем, а меня бы с вами не было. Я был твоим первым товарищем, Джек. И я сам не свой с тех пор, как мы не вместе.








