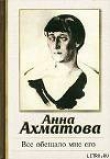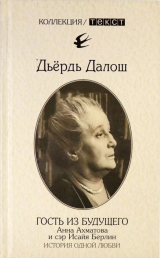
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
В преклонном возрасте, когда мало-помалу слабел строгий самоконтроль над собственным поведением на людях, все более явными становились черты, которых у нее прежде не было или которые она скрывала: любовь к самой себе, к истории своей жизни, к своей поэзии. Она часто восторгалась своими старыми фотографиями, стихами, написанными во времена Серебряного века, статьями в западных газетах, где упоминалось ее имя. Все чаще обнаруживала в себе жажду славы, которую прежде презрительно называла «игрушкой мира».
Ее подруга, Наталья Ильина, так вспоминает об этом: «А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему „без внимания“ (ее выражение), в новой ленинградской квартире практически не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето – в Комаровской Будке, и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение, и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступать или хотя бы только присутствовать – это стало нужным».
Славу, однако, означал для нее не тоненький или толстый сборник, к которому напишет предисловие Сурков. Поэтесса, самое одинокое существо в мире, хотела, чтобы весь мир был у ее ног. В разговорах Ахматовой и ее друзей все чаще звучали магические слова «Нобелевская премия».
В то же время Анна Ахматова стала более обидчивой, чем когда-либо. Особенно ее волновали, порой выводя из себя, вести из-за рубежа. Если, скажем, Глеб Струве, русский литературовед-эмигрант, пренебрежительно отзывался о ее роли в жизни Николая Гумилева или упоминал о ее «молчании», говоря о 20-х годах, она сердилась, иногда очень сильно. Итальянским и французским переводам ее стихов (в самом деле далеко не безупречным) она, как об этом пишет беседовавший с ней немецкий журналист Бонгард, давала оценки от «неудовлетворительно» до «невыносимо».
«Она принимает нас, сидя в высоком кресле за своим маленьким письменным столом, который стоит под прямым углом у окна, единственного источника света в комнате, обставленной по-крестьянски просто, – пишет Бонгард. – Кровать из досок, еще одна кровать, застеленная шерстяными одеялами, у другой стены. В углу – несколько книжных полок, они даже не заполнены; на столике – старый радиоприемник и проигрыватель. Ни шкафа, ни ковра; зато две иконы».
На прощанье Ахматова захотела передать посетителю стихотворение и позвала из другой комнаты своего помощника, молодого человека в свитере с высоким воротом (это был поэт Анатолий Найман, с которым она переводила в то время Леопарди; Найман выполнял при ней обязанности литературного секретаря). «Ди Цайт» опубликовала подарок – монолог из драмы «Пролог, или Сон во сне», и по-русски, и в немецком переводе.
Все серьезные исследователи творчества Ахматовой сходятся в одном: «Пролог» – свидетельство того, что Ахматова готовилась заново написать свою созданную в ташкентской эвакуации, а потом сожженную драму. Об этой драме она упоминает ноябрьской ночью 1945 года Берлину; о ней же говорится в обращенном к нему прощальном стихотворении:
Знаешь сам, что не стану славить
Нашей встречи горчайший день.
Что тебе на память оставить,
Тень мою? На что тебе тень?
Посвященье сожженной драмы,
От которой и пепла нет…
Фрагмент воскресающего из пепла «Пролога» Ахматова, уже грезившая о новой встрече, и отослала на Запад.
«Ахматова, – вспоминает Анатолий Найман, – говорила о нем всегда весело и уважительно <…>, считала его очень влиятельной на Западе фигурой <…>, и что это „он сейчас о нобелевке хлопочет“ для нее <…>. В разговоре она часто называла его иронически-почтительно „лорд“, реже „сэр“ <…>. „Сэр Исайя – лучший causeur Европы, – сказала она однажды. – Черчилль любит приглашать его к обеду“».
Легенда об Исайе Берлине и его теплых взаимоотношениях с Черчиллем обрастала новыми подробностями. Историк литературы Юлиан Оксман, принадлежавший к дружескому кругу Ахматовой, пишет в своем дневнике: «С 1946 года (с 1945-го. – Д. Д.) она знакома с Исайей Берлиным – он был у нее в Ленинграде чуть ли не до рассвета. Оказывается, Берлин – референт Черчилля в то время».
Ахматова, даже давая волю фантазии, старательно следила за тем, чтобы оградить свою тайну от всех, кого не считала близким себе. Например, Корней Чуковский, которого она, правда, уважала, но от которого держалась на определенной дистанции из-за его лояльности режиму, почти ничего не знал о ее отношениях с сэром Исайей Берлиным. Пожилой писатель ни о чем не догадывался даже в июне 1962 года, когда его избрали почетным доктором Оксфордского университета. Лишь весной 1965 года, когда Ахматова тоже собралась в Оксфорд, Чуковский что-то заподозрил.
«Звонила вчера Анна Ахматова, – читаем мы в его дневнике (запись от 27 мая 1965 года). – Я давал ей по телеф. довольно глупые советы насчет ее предстоящего коронования. И между прочим рассказывал ей, какой чудесный человек сэр Исайя Берлин, какой он добрый, сердечный и т. д. И вдруг Лида (Лидия Чуковская. – Д. Д.) мимоходом сказала мне, что А. А. знает Б-на лучше, чем я, так как у нее в 40-х был роман с ним в Л(енинград)е (или в Москве), что многие ее стихи („Таинственной невстречи…“) посвящены ему, что он-то и есть инициатор ее коронования. А он очень влиятелен и устроит ей помпезную встречу. Какой у нее, однако, дивный донжуанский список. Есть о чем вспоминать по ночам».
О регулярных контактах между оксфордским профессором и поэтессой не могло идти речи даже теперь, в относительно более свободные времена. На мой вопрос, пытался ли он, прямо или пускай через посредников, как-то связаться с Ахматовой, сэр Исайя дал мне (в 1995 году в Лондоне) лаконичный и очень решительный ответ: «Никогда».
Анатолий Найман, который, видимо, лучше кого бы то ни было знал Ахматову в последние годы ее жизни, вспоминал, что она получила от Берлина сборник эссе, «Еж и лиса», потом, вернувшись из Англии, отдала ему, Найману, солдатскую фляжку, которую подарил ей Берлин. Однако никаких следов переписки за период с 1956 по 1965 год нет.
Находились, однако, общие знакомые: например, Мартин Малия, американский славист, профессор Калифорнийского университета, который одно время работал в московских архивах. Его тема, творчество Александра Герцена, была областью исследования и Исайи Берлина; Герценом занималась и Лидия Чуковская. Малия и Чуковская долго и обстоятельно беседовали друг с другом; их беседы вскоре заинтересовали и Ахматову.
«Начала расспрашивать меня о Malia, – записывает в дневник (16 ноября 1962 года) Лидия Чуковская. – Я мельком пожаловалась, что он слишком поздно засиживается, и я от разговоров устаю, хотя мне и интересно разговаривать с ним. <…> „Ничего удивительного, что Malia засиживается, – сказала она, – Malia ведь приятель сэра Исайи, а тот просидел у меня однажды двенадцать часов подряд и заслужил Постановление…“»
Крайне интересно то, что американский профессор передал поэтессе слова своего учителя, Берлина: «Ахматова и Пастернак вернули мне родину». Берлин имел в виду свои встречи летом и осенью 1945 года: эти встречи пробудили в нем «русские» чувства. «Лестно, не правда ли?» – отозвалась на это Ахматова. Насколько пафосно – для англичанина – прозвучало это из уст Берлина, для которого слово «родина» уже было чем-то вроде молитвы, – настолько же прохладной была реплика Ахматовой. А ведь похвала эта должна была стать для нее бальзамом на сердце, утешением в несчастьях, которыми, по ее твердому убеждению, она обязана той ноябрьской ночи 1945 года.
Из «нобелевки», однако, к сожалению, так ничего и не вышло. Видимо, Шведскую королевскую академию напугал скандал с Пастернаком. Если посмотреть на географию последующих нобелевских решений, возникает впечатление, что высокая Академия старалась за версту обходить Россию. Итальянец Сальваторе Квазимодо получил премию в 1959 году, француз Сен-Жон Перс – в 1960-м, югослав Иво Андрич – в 1961-м, американец Джон Стейнбек – в 1962-м, грек Йоргос Сеферис – в 1963-м. Все они жили в странах, у которых не было даже общей границы с СССР. Решения, принятые в их пользу, не грозили осложнениями. Лишь Жан-Поль Сартр вызвал шум своим отказом от премии в 1964 году. Среди прочего он упрекал Нобелевский комитет в том, что тот непростительным образом обошел вниманием Михаила Шолохова.
И в следующем году Нобелевская премия была присуждена автору «Тихого Дона». Московские функционеры от культуры купались в лучах славы. А спустя полгода Шолохов на XXIII съезде КПСС потребовал едва ли не смертной казни для Андрея Синявского и Юлия Даниэля. В конце концов двух этих писателей за публикацию их произведений – без разрешения – за рубежом приговорили одного к семи, другого к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.
«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные двадцатые годы, – заявил новоиспеченный нобелевский лауреат, – когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а „руководствуясь революционным правосознанием“ (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты). А тут, видите, еще рассуждают о „суровости“ приговора».
Едва ли есть смысл сравнивать единственный настоящий роман Шолохова с лирикой Анны Ахматовой. Но если бы премию получил не Шолохов, а, в последние годы своей жизни, Ахматова, то и уважаемый стокгольмский ареопаг, и советское правительство сэкономили бы себе немного нервов, испорченных досадной выходкой Шолохова.
Одним из последних всплесков хрущевской «оттепели» в сфере культуры стал в августе 1963 года ленинградский «круглый стол» Европейского литературного сообщества (COMES). По случаю этого мероприятия Ахматова встречалась с председателем COMES’a итальянцем Джанкарло Вигорелли, который сообщил ей почти невероятную новость: в следующем году город Катания намерен присудить поэтессе престижную литературную премию «Этна-Таормина». Видимо, тогда же зашла речь о приглашении приехать в Италию.
Если можно найти в мире человека, который способен был задумать и осуществить такой смелый план, то им мог быть только Вигорелли. На ленинградское международное совещание удалось пригласить не только Жан-Поля Сартра, но даже Тибора Дери, который пару лет назад еще сидел в тюрьме за участие в событиях 1956 года в Венгрии. Вигорелли приехал не с пустыми руками: он пообещал Советскому Союзу членство в ПЕН-клубе, что в те времена означало громадный рост престижа.
«Литературное предприятие синьора Вигорелли, – пишет Анатолий Найман, – было просоветского направления, если не прямо коммунистическое. Союз писателей, возглавлявшийся тогда Сурковым, искал случая подружиться – не теряя собственного достоинства – с „реалистически мыслящими“ литераторами Запада. Недавний скандал с Пастернаком затруднял сближение, желательное и той, и другой стороне. Ахматова оказалась фигурой, <…> идеальной для создавшейся коллизии („Реквием“, гонимость и, вообще, несоветскость – для них <…>)».
Как можно предположить, Вигорелли еще летом 1963 года начал прощупывать настроения советских компетентных организаций и, посылая Ахматовой приглашение в Ленинград, уже не сомневался в результате. Как опытный дипломат в вопросах культуры, он объединил две вещи: награждение Анны Ахматовой премией «Этна-Таормина» и очередную встречу Европейского литературного сообщества в Катании. То есть Ахматова могла поехать в Италию практически как официальный член советской писательской делегации.
В первом порыве воодушевления поэтесса ответила Джанкарло Вигорелли письмом на итальянском языке (написанном с помощью друзей). За вежливыми оборотами ощущается едва сдерживаемая эйфория – что неудивительно, если вспомнить, что в последний раз Ахматова была за границей пятьдесят два года назад и давно похоронила все надежды увидеть когда-нибудь Западную Европу. В 1958 году, когда первая, весьма многочисленная делегация советских писателей отправилась – без нее – в Рим, она спрятала свое разочарование в меланхолическом стихотворении:
Все, кого и не звали, в Италии, —
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем Зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.
Под святыми и грешными фресками
Не пройду я знакомым путем
И не буду с леонардесками
Переглядываться тайком.
Причин для меланхолии было более чем достаточно. Советский Союз почти так же строго оберегал государственные границы от собственных граждан, как и от действительных или мнимых шпионов и диверсантов. Для того чтобы кто-то мог покинуть страну в западном направлении, требовались нечеловеческие усилия. Индивидуального туризма в капиталистические страны не существовало, групповые поездки случались очень редко, и, если в список возможных участников попадал обычный человек, это считалось большой наградой. Притом никогда нельзя было знать заранее, стоит ли затрачиваемых усилий деятельность по заполнению бесчисленных анкет, по добыванию рекомендаций по месту службы и характеристик от парторганизации. Решения о поездках принимались в обстановке строгой секретности, загранпаспорт выдавался лишь за день-два до отъезда. Исключение из этих строгих правил делалось лишь для некоторых служебных командировок, а паспорт, позволяющий неоднократный выезд, имели только некоторые привилегированные деятели искусства (например, Евтушенко и Вознесенский). Однако по каждому отдельному случаю вердикт выносил выездной отдел ЦК КПСС, и решающее слово тут принадлежало КГБ.
Имея в виду все эти обстоятельства, трудно было представить, чтобы Ахматова сама смогла когда-нибудь увидеть Этну. Так что таскать для нее каштаны из огня пришлось опять-таки Суркову; надо отдать ему должное, он и на сей раз не выглядел чрезмерно нерешительным. Прежде всего он официально сообщил своей давней протеже, что Союз писателей СССР не имеет возражений ни против награды, ни против поездки. И лишь после этого, 25 мая 1964 года, обратился с письмом в ЦК.
В письме он описал состав жюри, упомянув, что один из его членов, профессор Дибенедетти, состоит в Итальянской коммунистической партии. Как он писал, среди прежних лауреатов премии были такие «прогрессивные писатели», как Умберто Саба, Сальваторе Квазимодо и Тристан Тцара. Денежная часть премии составляет один миллион лир (две тысячи долларов); советскому писателю, подчеркнул Сурков, премия присуждается впервые.
Затем он обрисовал творческий путь «старейшего русского советского поэта», то есть Анны Ахматовой, которой скоро исполняется 75 лет. Не забыл упомянуть, что «ее муж, Н. Гумилев был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре», однако «Анна Ахматова осталась в Ленинграде и в годы Великой Отечественной войны писала мало оригинальных стихов, но много переводила и занималась исследованием творчества Пушкина. Великая Отечественная война застала ее в Ленинграде и была временем коренного перелома ее отношения к советской действительности. Начиная с цикла стихов, посвященных обороняющимся от врага ленинградцам, и таких стихов, как „Мужество“, напечатанное в начале 1942 г. в „Правде“, Ахматова по праву занимает свое место в ряду советских поэтов, помогавших народу своей патриотической лирикой <…> После войны у Ахматовой возникает рецидив ее прежних настроений и ее стихи подвергаются справедливой (но очень резкой по тону) критике в постановлении ЦК ВКП(б) „О журналах „Звезда“ и „Ленинград““. Постановление это не проходит для Ахматовой бесследно. В 1948 (правильно: в 1949-м. – Д. Д.) году на страницах журнала „Огонек“ и в других периодических изданиях начинают публиковаться новые ее стихи, возвращающие ее в ряды советской поэзии. <…> Во всех случаях, когда иностранные журналисты и иностранные студенты пытались спровоцировать Ахматову на какие-либо жалобы или антисоветские высказывания, она давала им резкий отпор и вела себя как достойный советский гражданин. Принимая во внимание все это, а также то, что наше положительное отношение к присуждению ей итальянской премии больно ударит по рукам иностранных клеветников, было бы полезно не препятствовать принятию Ахматовой этой премии».
Виртуозная демагогия Суркова состояла не только в том, что он, как и в письме Хрущеву летом 1959 года, великодушный жест хотел сделать особенно приятным для государства, изобразив его как «болезненный удар» по классовому врагу. Особое его умение проявилось в том, что он не сказал. Некоторые произведения Ахматовой, среди них «Поэма без героя» и «Реквием», к этому времени уже были опубликованы во многих зарубежных странах. Их напечатали даже русские эмигрантские издательства – правда, с осторожным примечанием: «Без ведома и согласия автора». На данный момент Ахматову ни в каких политических проступках нельзя было упрекнуть, и Постановление от августа 1946 года аппарат не мог уже обратить против нее, если не желал выставить себя на посмешище. Запрет же на выезд легко мог вызвать на Западе возмущение, то есть стать опять же «болезненным ударом», но не по классовому врагу, а по советской внешней политике, которой в этом случае непросто было бы отразить обвинение в бесчеловечности.
Попытка мягкого шантажа, предпринятого Сурковым, оказалась удачной. Товарищи Снастин и Поликарпов, сотрудники идеологического отдела ЦК, своего рода Розенкранц и Гильденстерн советской культурной политики, поначалу ограничились тем, что в адресованном Политбюро письме от 27 мая 1964 года попытались слегка очернить председателя Союза писателей: «Как явствует из шифровки Советского посла (и отца будущего министра иностранных дел России. – Д. Д.) т. Козырева, т. Сурков дал предварительное согласие на приезд в Италию А. Ахматовой без согласования вопроса на месте». Далее следует фраза, которую можно было бы назвать «безыдейной», если бы это понятие в официальном советском лексиконе не было закреплено за буржуазно-декадентской духовностью. «Присуждение итальянской литературной премии А. Ахматовой, несмотря на то что эта премия присуждалась ряду прогрессивных писателей, в том числе коммунистов, имеет тенденциозный характер, является поддержкой поэтессы, творчество которой критиковалось в нашей стране». Таким образом, августовская анафема 1946 года спустя двадцать лет осталась единственным, хотя и успевшим затупиться оружием в руках недругов Ахматовой, к которым, еще с 1940 года, принадлежал и Дмитрий Поликарпов.
В финале письма можно даже расслышать нечто вроде зубовного скрежета: «В сложившейся обстановке Идеологический отдел считает возможным согласиться с предложением т. Суркова о поездке А. А. Ахматовой в Италию на десять дней для получения премии…»
11 июня 1964 года небожители из Политбюро: Леонид Брежнев, Леонид Ильичев, Петр Демичев, Борис Пономарев, Михаил Суслов – поставили свои подписи под самой, пожалуй, короткой записью в огромной кипе папок с делом Ахматовой: «Согласен».
Престарелый Корней Чуковский в эти дни записал в своем дневнике следующее: «Ахматова в Италии – это фантастика. У нее, – тут он процитировал своего любимого поэта, Некрасова, —
Нет косточки неломаной,
Нет жилочки нетянутой, —
и вдруг в Италии, где ее коронуют». Однако Чуковский не был бы русским писателем, если бы встретил эту новость с безоблачной радостью. Он ворчливо добавляет: «А что с моим Зощенко для Литгазеты?» Словно существовала какая-то логическая связь между неожиданным разрешением на выезд Ахматовой и свободой писать правду о соратнике по судьбе спустя шесть лет после его смерти; словно вообще существовала логика в хаосе плохо осмысленных старых грехов режима и новых ошибок, совершаемых в последующие годы.
Сама Ахматова смотрела на перспективу поездки уже гораздо более скептически, чем в момент получения приглашения. Даже перед самым отправлением поезда Москва – Рим она не могла преодолеть свое недоверие. Пока провожавшие помогали занести в купе багаж (как вспоминает Анатолий Найман, все эти сумки и саквояжи были одолжены у знакомых), Ахматова стояла на перроне, под холодным декабрьским ветром, кутаясь в длинный шерстяной шарф, подарок вдовы Алексея Толстого, и все еще как будто колебалась. «Ну что ж, еду представлять коммунистическую Россию», – якобы сказала она Льву Копелеву и его жене, Раисе Орловой. Ее утешали: она будет представлять там великую державу – Русскую поэзию; она отвечала: «Нет уж, мои дорогие, я-то знаю, зачем меня посылают».
Одним из тех, кто лично присутствовал при вручении Ахматовой премии, был немецкий писатель Ганс Вернер Рихтер. Сразу после возвращения из Италии он послал репортаж радиостанциям «Зендер Фрайес Берлин» и «Норддойче рундфунк». Репортаж, в сущности, представляет собой оду в прозе, воспевающую Ахматову как явление, хотя как поэта он ее совершенно не знал – и сначала даже перепутал с молодой поэтессой Беллой Ахмадулиной.
Джанкарло Вигорелли организовал для почти сотни участников Европейского литературного сообщества серьезную культурную программу. В бывшем монастыре Сан-Доменико писателям показали фильм присутствовавшего там Пьера Паоло Пазолини «Евангелие от Матфея». Рихтер многозначительно замечает о Пазолини: «Коммунист и, скорее всего, член партии». После этой фразы автор не может остановиться в выражении восторга: «Будь я знаком с Христом, я сейчас должен был бы сказать: никогда я не видел Христа более сияющим, более привлекательным, более вдохновенным. <…> Никто в этом зале к концу сеанса не остался атеистом. Даже русские спешили к Пазолини с объятиями и поцелуями, а один из них пытался скрыть выступившие на глазах слезы».
«Одним из них» был, по всей вероятности, Александр Твардовский, главный редактор «Нового мира». Возвратившись в Москву, он рассказывал своему молодому коллеге, Владимиру Лакшину: «„Уже ради одного этого (фильма. – Д. Д.) стоило поехать“. Целый час пересказывал картину. „Я ведь, откровенно говоря, к самой фигуре Христа относился как к чему-то отжившему и не ожидал, что все это меня так тронет… А когда в конце запели русскую песню, так, казалось бы, некстати и так понятно, – меня чуть слеза не прошибла“».
Ахматова на киносеанс не пошла. Содержание фильма ей пересказал, спустя полгода, Найман, который видел «Евангелие от Матфея» в каком-то эксклюзивном московском кинотеатре; скорее всего, в «Иллюзионе». Слушая изложение Наймана, Ахматова тоже расплакалась. Но давайте читать дальше восторженный отчет Ганса Вернера Рихтера. «О, итальянский коммунизм, эта неповторимая смесь классовой борьбы, христианства, социализма, католической церкви, толерантности, упорства, хвастливых жестов и глубокой потребности в социальной справедливости, к тому же все это – на сицилийской земле <…> в наполненном сигаретным дымом кинозале. Да, мы чуть не закричали: Christus ante portas… Христос у ворот коммунизма…»
Некоторые утверждают, что пошлостью, китчем может быть не только фотография или картина, но и настоящий пейзаж – например, берег моря с закатом солнца. Поэт, один из основателей Gruppe 47, который отправился в Катанью от скуки, пресытившись филистерским благополучием аденауэровского христианского социализма (Wirtschaftswunder), наверное, искренне восхищался средиземноморским католическим социализмом. И тем не менее все то, что так прочувствованно описывал Ганс Вернер Рихтер и что большинство присутствующих переживали так же, как он, было не реальностью, а самовнушением, продиктованным историческим моментом.
В Итальянской компартии в начале 60-х годов сформировалась точка зрения, что социализм на Апеннинском полуострове можно построить мирными средствами, путем так называемых структурных реформ. Компартия все более критически относилась к советской и восточноевропейским моделям. Посмертный меморандум Пальмиро Тольятти, который вынуждена была напечатать (14 сентября 1964 года) и «Правда», пробуждал надежду, что западный коммунизм может способствовать демократизации восточноевропейских государств. Иллюзия эта, однако, продержалась недолго.
Нестойкой оказалась и та странная писательская солидарность в Катанье, когда советская делегация по-братски грелась в лучах славы поэтессы, не так давно преданной анафеме. Несколькими годами позже советские писатели, только-только, как говорится, принятые в обществе, уже наперебой лезли из кожи, клеймя Солженицына, поздравляли партийную верхушку с оккупацией Чехословакии, помогали изгонять замученного цензурой Твардовского из редакции «Нового мира» – и вплоть до 1988 года ни словом не обмолвились о том, что пора бы приступить к полной моральной и политической реабилитации лауреата премии «Этна-Таормина» Анны Ахматовой.
Как я уже говорил, Анна Ахматова не была на просмотре фильма Пазолини: долгая дорога утомила ее. Не пришлось ей принимать участие и в заседаниях. Ахматову сопровождала дочь Пунина, Ирина; это было вынужденное решение: Ахматова хотела взять с собой Нину Ардову, но ту в сентябре 1964 года разбил инсульт.
Из-за плохого самочувствия Ахматовой церемония награждения тоже была сокращена. Сурков пытался уговорить Ахматову прочесть стихотворение о ленинградской блокаде, но поэтесса, в соответствии с атмосферой места, выбрала написанное в 1924 году стихотворение «Муза».
Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».
«Она, – рассказывает Ганс Вернер Рихтер, – читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется эта гроза или только еще приближается. Ее темный, рокочущий голос не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, очень короткое. Едва она кончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ни слова. <…> Все происходившее напоминало <…> новогодний прием при дворе монархини. Царица поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы <…> Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходит – высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста, женщина, подобная статуе, о которую разбивалась волна времен с 1889 года и до наших дней. Видя, как величественно она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени правили не цари, а царицы».
Рихтер описывает, как поэты разных стран едва ли не с благоговением подходили к руке Ахматовой. «Среди них только один оказался насмешником – я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, насмешник сказал: „А знаете ли, в 1905 году, в пору первой русской революции, она была очень красивой женщиной“».
Лев Копелев рассказывал: когда к нему попал текст Ганса Вернера Рихтера, он тут же принес его Ахматовой и перевел ей славословие немецкого поэта. Но конечно, из тактичности опустил приведенный выше эпизод. Однако по невнимательности оставил немецкий текст у Ахматовой. Спустя некоторое время она позвонила ему и сказала: «Я все прочла и оценила ваше джентльменство. А теперь очень прошу – переведите для меня все. Полностью, без купюр».
Анна Ахматова была убеждена в том, что своим признанием за рубежом она обязана сэру Исайе; усилия его она обозначала тем же словом – «хлопоты», что и собственные усилия по вызволению сына из лагерей. Она видела, что к ней приходит поздняя слава, и кульминацию ее поместила рядом со своей смертью:
Светает – это Страшный суд,
И встреча горестней разлуки.
Там мертвой славе отдадут
Меня – твои живые руки.
Это четверостишие Ахматова снабдила необычно длинным заголовком: «Из дневника путешествия. Стихи на случай». Датировка во всех изданиях одна – декабрь 1964 года. Путешествие могло быть только путешествием в Катанью, а «случай», вдохновивший поэтессу, связан был, скорее всего, с мифизированной личностью Гостя из будущего, который, по убеждению Ахматовой, и выхлопотал для нее премию «Этна-Таормина».
С датировкой, однако, все обстоит не так просто. 20 октября 1964 года Ахматова писала Иосифу Бродскому в деревню под Архангельском, куда его сослали: «Иосиф, о бесконечных разговорах, которые я веду с Вами днем и ночью, Вы должны знать все, что было, чего не было. Что было:
И вот уже славы
Высокий порог,
Но голос лукавый
Предостерег:
„Сюда ты вернешься…“
А чего не было: „Светает – это Страшный суд…“ и т. д.».
Первая цитата взята из поэмы «Путем всея земли», написанной в 1940 году, и отсылает к «славному» этапу ее творческого пути, когда вышел сборник «Из шести книг» и когда поэтессу приняли в Союз писателей, а несколько соратников по перу даже выдвигали ее на Сталинскую премию. Это – то, что «было» и что завершилось конфискацией книги. Столь же недолгой была послевоенная слава. И каждый раз за славу приходилось платить: в 40-е годы – отлучением, в 60-е же, как она полагала, смертью. Вероятно, это она имела в виду под словами «чего не было».
Со времен Пушкина опала – нормальное для больших русских поэтов положение, считала Ахматова. Когда весной 1963 года Бродский был осужден ленинградским судом «за тунеядство» и приговорен к пяти годам ссылки, Ахматова очень тревожилась за его участь, предпринимала всякого рода попытки спасти его, но в то же время и восхищалась его судьбой: «Какую биографию делают нашему рыжему! Будто он специально их нанял!»
В связи с этим нужно сказать, что, переводя с Анатолием Найманом стихи Леопарди, она все чаще говорила ему, что ее дни сочтены. Смерть она, однако, воспринимала не как биологический финал, а как мрачную спутницу неизбежной славы. Иными словами: чтобы обрести бессмертие, ты должен умереть.
Впрочем, если на минуту всерьез допустить, что связь между растущей славой и приближением смерти действительно имеет место (зависимость эта реально существовала в фантазии Анны Ахматовой – и не ее одной, – воспитанной на уайльдовском Дориане Грее), нам пришлось бы сделать вывод, что заправилы советской культурной политики совершенно неповинны в смерти Ахматовой. Уж они-то ничем не баловали поэтессу, не праздновали официально ни семидесятилетнего, ни семидесятипятилетнего ее юбилеев. Можно говорить разве что о каких-то нерешительных попытках выразить, на не слишком высоком уровне, почтение к ней. От Игнатия Ивановского мы узнали, что после операции по удалению аппендикса и случившегося после этого инфаркта один из представителей ленинградского отделения Союза писателей пришел к ней в больницу с букетом роз и предложил помочь перейти в другую, более комфортабельную больницу. Ахматова холодно ответила: «Благодарю. Я уже перерезана пополам».