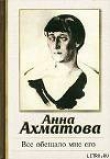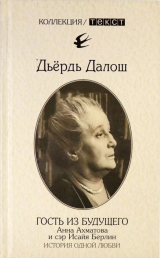
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Дипломат Берлин был чрезвычайно доволен своей ленинградской поездкой. «Ленинградская интеллигенция чувствует себя гораздо свободнее по сравнению с московской. <…> Ленинградцы выглядят нормальнее, чем москвичи, и отношение к своему городу у них более здоровое. Восстановление города продвигается быстро. <…> в Ленинграде я не замечал ксенофобии, хотя в Москве много об этом слышал. Люди воспитанны, да и питаются лучше, чем в Москве». Из увиденного он делает оптимистический вывод: «Стоило бы создать в Ленинграде консульство». Весьма характерно для того периода, предшествовавшего началу «холодной войны», что Фрэнк Робертс, тогдашний посол Великобритании в Москве, с воодушевлением поддержал предложение Берлина и переслал его министру иностранных дел Эрнесту Бевину.
В то же время Берлин смотрел на вещи трезво и прекрасно видел неустойчивость, переходность послевоенной ситуации в СССР. Даже относительную свободу ленинградской интеллигенции он объяснял тем, что там пока «не обосновались зарубежные организации, учреждения и граждане». Он заметил, как велика разница в положении привилегированных и рядовых писателей: «Члены партии, правда, не обременены материальными заботами, зато вынуждены писать по партийному заказу».
Положение писателей он оценивал в общем скептически: «Для литературы нынешние времена выглядят довольно спокойными. Однако это, скорее всего, затишье перед бурей. <…> Писатели <…> должны избегать неофициальных контактов с иностранцами. Тех, у кого такие контакты есть, чаще всего преследует тайная полиция. Писатели, как правило, с иностранцами не встречаются, даже если те – коммунисты».
Некоторые места в отчете Берлина имеют прямое или косвенное отношение к Ахматовой; иногда в его словах можно услышать отзвуки ее мнения. Более того, Берлин упоминает о посещении «одного писателя, которое организовал ему знакомый из книжного магазина», и добавляет, что писателю этому впервые после 1917 года пришлось разговаривать с иностранным гражданином. Из контекста становится ясным, кто имеется в виду под «одним писателем».
«С новыми знакомыми, – пишет Берлин в отчете, – мы с большой осторожностью касались политических тем. У меня создалось впечатление, что публика ясно понимает, кто из советских писателей чего стоит <…>. Каждый считает, например, само собой разумеющимся, что Пастернак – гениальный поэт, Симонов же – болтливый журналист». Цитировавшийся выше донос, написанный практически одновременно с отчетом Берлина, позволяет без труда установить, кто послужил Берлину первоисточником в таком бескомпромиссном разделении зерен и плевел.
Несмотря на свой скепсис, Берлин, конечно, не терял надежды на относительную либерализацию Советского Союза, надежды, которая в то время питала и многих российских интеллигентов. Вернувшись в Оксфорд, что означало для него одновременно и возвращение к научной деятельности, Берлин затеял головокружительную по тем временам авантюру: он попытался организовать приглашение в Оксфорд Бориса Пастернака, где его должны были избрать почетным доктором литературы. Конкретный план этого благородного, но заведомо обреченного на неудачу намерения можно восстановить по письму (от 1 июля 1946 года), в котором мистер Ливингстон, проректор университета, пытается открыть младшему коллеге глаза на истинное положение дел.
«Несмотря на всю убедительность вашего письма, у меня есть некоторый скепсис относительно вашей идеи. Прежде всего, я не уверен, что степень почетного доктора стоит присуждать по политическим мотивам (хотя, знаю, в случае с Пастернаком есть и причины другого характера). Кроме того, я полагаю, настоящий момент не самый лучший, чтобы делать какие бы то ни было жесты в адрес России. Если Баура захочет поставить этот вопрос перед Британским советом, то учреждение, конечно, выскажет свое мнение на этот счет. Во всяком случае, идея визита Пастернака в Англию представляется мне сомнительной, да и август, как вы сами говорите, не лучший момент для церемонии награждения».
Если иметь в виду катастрофу, которая произошла с Пастернаком позже, в связи с присуждением ему Нобелевской премии, то, пожалуй, можно испытывать даже некоторую благодарность к мистеру проректору, предотвратившему это опасное для жизни приглашение. С другой стороны, возможно, это и хорошо, что Исайя Берлин не отказывался от этой идеи в течение целых двух десятилетий до того момента, когда она стала реальной. Правда, Пастернака уже не было в живых, однако была жива Ахматова – и во время последней своей зарубежной поездки она попала-таки в Оксфорд.
Во втором случае, когда Берлин, направляясь по дипломатическим делам в Финляндию, остановился проездом в Ленинграде, в отчете своему послу он написал, что поездка в дипломатическом плане прошла без событий. И, подводя итог двум своим посещениям Ленинграда, добавил: «Думаю, в Ленинграде самым интересным для меня было посещение поэтессы. Сразу после нашего ночного разговора она написала новое стихотворение».
Позже, уже в Оксфорде, Берлин получил от Бориса Пастернака письмо, датированное 26 июля 1946 года. Поэт взял на себя экзотическую роль любовного почтальона. «Когда здесь была Ахматова, – писал он, – каждое третье слово ее было о вас. Как драматично и загадочно она о вас говорила! Например, однажды ночью, в такси, возвращаясь домой с литературного вечера, усталая и в то же время воодушевленная, почти на небесах, она вдруг шепнула мне по-французски: „Notre ami…“ Ее друзья, которые невероятно завидовали Ахматовой за то, что она встречалась с вами, засыпали меня вопросами: „Борис Леонидович, опишите нам Берлина: кто он, что за человек?“ Я принялся расписывать вас – и тем причинил Ахматовой настоящую сердечную боль. Здесь вас все очень любят и говорят о вас с большой теплотой».
Когда писалось это письмо, Анна Ахматова, как можно предположить, ходила по ленинградским улицам, все еще ощущая «солнце в теле» («иду, как с солнцем в теле») и готовясь творить все новые и новые чудеса. Однако власть хотела совсем иного. Вскоре после встречи Ахматовой с Берлиным в ее комнату поставили подслушивающее устройство, вокруг нее засуетились стукачи. Как вспоминает Надежда Мандельштам, в те летние месяцы Анна Ахматова уже находилась под неприкрытым наблюдением органов.
АНАФЕМА
7 августа 1946 года Анна Ахматова вышла на сцену ленинградского Большого драматического театра. Город отмечал 25-ю годовщину смерти Александра Блока, основателя русского символизма. Выступление Ахматовой в Ленинграде было прямым продолжением ее московского триумфа. «При ее появлении на сцене, – вспоминает литератор Дмитрий Максимов, – все присутствующие в зале, стоя, приветствовали ее полными жара и восторга, несмолкающими аплодисментами».
Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз.
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Чем объяснить необычайное очарование подобных стихов? Слушателей, надо полагать, захватывал не только поэтический уровень, но и тема, наполненность стихов личным чувством. Русские в те времена были не слишком избалованы настоящей, высокой поэзией: ведь советские стихи 40-х годов, мягко говоря, пропахли тенденциозностью, лирики выступали как глашатаи государства, которое объявляло себя превыше всего. К тому же девять из десяти стихотворений воспевали войну, воспевали примерно так, как это делал Алексей Сурков в «Песне смелых»:
Стелются черные тучи,
Молнии в небе снуют.
В облаке пыли летучей
Трубы тревогу поют.
С бандой фашистов сразиться
Смелых Отчизна зовет.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.
Однако воинственные марши успели набить оскомину даже «смелым». Особенно в Ленинграде, городе, который пережил блокаду и оплакал пятьсот тысяч своих жителей. После войны здесь остро ощущался своего рода авитаминоз – нехватка чистой, теплой душевности, пускай хотя бы только в поэзии. Стихотворение, в котором Анна Ахматова в январе 1914 года склоняла голову перед Блоком, как раз и было для слушателей образцом душевного тепла канувших в прошлое счастливых времен, последней представительницей которых являлась сама Анна Ахматова.
«Это была встреча, – продолжает очевидец, – с полузабытым и вновь обретенным поэтом». Добавлю от себя: большинство публики в тот вечер видело Ахматову в последний раз – следующего публичного выступления пришлось ждать почти двадцать лет.
Ибо в тот самый вечер два высокопоставленных бюрократа, поставленные руководить культурой, Григорий Александров и Александр Еголин, послали секретарю ЦК КПСС Андрею Жданову докладную записку под названием «О неудовлетворительном состоянии журналов „Звезда“ и „Ленинград“». В этом документе они критиковали многих ленинградских писателей, в том числе Михаила Зощенко и Анну Ахматову, – хотя, надо сказать, Ахматова никак не являлась главной мишенью их нападок. На девятое августа в Москву были срочно вызваны ленинградские партийные руководители, руководство местного отделения Союза писателей и редакторы двух провинившихся журналов. В Москве состоялось заседание оргбюро ЦК, на котором присутствовал сам Иосиф Виссарионович Сталин. Принятый на заседании документ и стал Постановлением ЦК от 14 августа 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». Через несколько дней Андрей Жданов выступил перед ленинградской интеллигенцией с докладом, в котором разъяснил смысл и задачи этого постановления.
А на следующей неделе ленинградские писатели, деятели искусства, редакционные работники получили приглашения на «важное» мероприятие. Цель мероприятия конкретно не называлась. Михаил Зощенко, который тогда официально был членом редколлегии журнала «Звезда», также получил приглашение, однако его под различными отговорками постарались не пустить на собрание. Так что встреча Жданова с ленинградской интеллигенцией (16 августа 1946 года) прошла без него.
Ровно в 17 часов Андрей Жданов вошел в Большой зал Смольного, где Ленин когда-то провозгласил советскую власть. Жданов вел собрание; в президиуме сидели самые именитые писатели и литературные функционеры. «Первые же минуты в Смольном насторожили, – пишет очевидец события, который даже в 1977 году, предоставляя свои воспоминания для публикации в русском эмигрантском журнале, предпочел укрыться под инициалами Д. Д. – <…> Исторические залы, трехкратная проверка документов, большое число приглашенных писателей, работников газет, кино, радио, издательств, общая атмосфера торжественности и строгости придавали всему не только деловой характер, но и чего-то большего. <…> Зал немел, застывал, оледеневал, пока не превратился в течение трех часов в один белый, твердый кусок. <…> Писательнице Немеровской стало дурно. Она хотела выйти, бледнея, встала. Шатаясь, пошла между рядов. Ей помогали. Вышла в боковой проход, дошла до входной двери, но… ее не выпустили. Огромная белая дверь зала плотно закрыта, двое часовых с винтовками по бокам. Оказывается, выход из зала запрещен. <…> Уходили с собрания молча. Шел первый час ночи. <…> Несколько сот человек выходили из здания медленно и бесшумно. Так же молча прошли они длинную прямую аллею до пустынной в этот час площади и молча разъехались на последних троллейбусах и автобусах».
«Перехожу к вопросу о литературном „творчестве“ Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке „расширенного воспроизводства“. <…> Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного литературного болота[4]4
Имеется в виду декадентская литература 1907–1917 гг.
[Закрыть]. Она принадлежит к так называемой литературной группе акмеистов, вышедших в свое время из рядов символистов, и является одним из знаменосцев пустой, безыдейной, аристократическо-салонной поэзии, абсолютно чуждой советской литературе. <…> Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии, – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-эротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности, – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, – мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, „добрых старых екатерининских времен“. Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. <…> Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа».
Когда Жданов добрался до этого пункта (шел к концу первый час его доклада), он уже успел расправиться с Михаилом Зощенко, заклеймив его как «антисоветского писателя», «лицемера», «пресного мещанина», «подонка» и даже как «дезертира», – последний эпитет был намеком на то, что во время блокады Зощенко уехал из осажденного города. Обвинения в дезертирстве не избежала, в ходе травли, начавшейся после ждановского доклада, и Ахматова. Хотя документы однозначно показывают, что и Зощенко, и Ахматова были эвакуированы – один в Алма-Ату, вторая в Ташкент – по прямому указанию ЦК.
Что касается Зощенко, то ему инкриминировали маленький рассказик, опубликованный в первом номере журнала «Звезда» за 1946 год; собственно, это была перепечатка: редакция взяла рассказ из детского журнала «Мурзилка». Если не принимать во внимание это обстоятельство, а также юмористический характер произведения, то партийных функционеров в какой-то мере можно понять. «Похождения обезьяны» представляют собой гротескное описание – глазами сбежавшей из зоопарка обезьяны – ленинградских будней. Читателей, для которых чтение газет стало основной профессией, не могло не раздражать зощенковское пародирование официозного пафоса и идеологизированного языка советской реальности; каждое новое его произведение они воспринимали с возмущением. Потому-то им на руку оказалась повторная публикация в «Звезде»: она давала удобную возможность предъявить писателю суровый счет.
Трагедия Зощенко крылась в природе его сатирического таланта. Главный персонаж лучших его рассказов 20–30-х годов – советский мещанин, объект же его сатиры – тот стиль, тот способ, каким этот очень распространенный тип встраивал официальное словоблудие в свой филистерский лексикон. Из-за этого враги Зощенко называли его певцом мещанства; он же пытался опровергать подобную демагогию с помощью тоже не вполне искренних аргументов, что он-де на самом деле – критик советского мещанства. В действительности его критика шла гораздо дальше: на семантическом уровне он разоблачал всю лживую идеологическую фразеологию.
Маленький человек у Зощенко, например, следующим образом интерпретирует официальную версию советского взгляда на историю:
«Я всегда симпатизировал центральным убеждениям.
Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.
Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.
И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться – сиди, в чем пришел. Это было достижение» («Прелести культуры»).
На иностранцев же homo sovieticus у Зощенко смотрит так:
«Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы» («Иностранцы»).
И наконец, выдержка из торжественной речи некоего управдома по случаю столетия смерти Пушкина:
«Так вот я кончаю, товарищи… Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А, как говорится, взятки гладки… Вообще темная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос» («В пушкинские дни»).
Если принять во внимание, что этот насыщенный едва ли не фашистскими настроениями, открыто враждебный культуре монолог Зощенко написал в 1937 году, когда он и сам еще принадлежал к привилегированному слою, то легко будет представить, чего он ждал от тех, кто вовсе не собирался Пушкина «носить на руках». То есть он ни минуты не мог надеяться на то, что подрывная сила, прячущаяся в квази цитатах советского общеупотребительного языка, долго будет оставаться незамеченной цензорами. Просто чудо, что имя Зощенко замелькало в секретной переписке высших партийных инстанций и органов цензуры только с 1943 года.
Но какие криминальные произведения можно было найти у Ахматовой? В докладе Жданова дословно процитированы только четыре строчки из ее стихов, три стихотворения упоминаются прямо, еще одно – косвенно.
С точки зрения коммунистов, достаточным поводом для осуждения могло служить, с большими или меньшими основаниями, лишь стихотворение, в котором поэтесса вспоминает старый Петербург. Жданов приводит из него одну строчку: «…Все расхищено, предано, продано…» Правда, стихотворение это было написано в 1921 году и тогда же опубликовано. Критики нашлись сразу же – в лагере Пролеткульта; они увидели в стихотворении «контрреволюционное содержание». Однако критик Н. Осинский – он же крупный партийный деятель Валериан Оболенский – в центральном органе партии, газете «Правда», в номере от 4 июля 1922 года, выступил в защиту Ахматовой, не побоявшись сказать: «Действительно, многое расхищено, предано и продано всей той мутью, которая поднялась вместе с революцией…» Этот факт в свое время признали даже многие коммунисты.
Жданова возмутило и другое стихотворение, опубликованное в журнале «Ленинград». В нем поэтесса говорит о своем одиночестве в ташкентской эвакуации, о том, что одиночество это она вынуждена делить лишь с черным котом. «О черном коте Ахматова писала и в 1909 году», – многозначительно и зловеще замечает верховный командующий советской культурой. Что тут скажешь: наверное, даже в том, 1946 году нелепо звучало, что советские люди – во время Великой Отечественной войны! – не должны были испытывать чувства одиночества.
Но особую ярость у Жданова вызвали строки из сборника «Anno Domini»:
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…
Верховный идеолог так старается заклеймить религиозную метафорику стихотворения, что в своем благородном гневе забывает упомянуть мотив, вызвавший клятвенные слова: «Я к тебе никогда не вернусь». (Любопытный штрих: в опубликованном в ГДР немецком тексте доклада Жданова «ангельский сад» переведен как «английский сад», – видимо, это должно было служить намеком на то, что поэтесса преклоняется перед британским империализмом.)
Жданов, разумеется, умалчивает, что и данное стихотворение было написано в 1921 году, то есть имеет очень мало отношения к критике в адрес двух ленинградских журналов. Это особенно бросается в глаза, если принять во внимание, что гневный выпад против Ахматовой, особенно слово «блудница», фигурирующее здесь как клеймо, опирается исключительно на эти три строчки. Невольно складывается впечатление, что адресатом злобных выпадов Жданова является не поэзия, а поэтесса.
Полноты ради нужно сказать, что в поисках уничижительных аргументов Жданов обращался к весьма авторитетным источникам. Литературовед Борис Эйхенбаум в 20-х годах, анализируя взаимосвязь религиозно-мистических и эротических элементов в поэзии Ахматовой, пришел к следующему выводу: «Тут уже начинает складываться парадоксальный своей двойственностью (вернее – оксюморонностью) образ героини – не то „блудницы“ с бурными страстями, не то нищей монахини, которая может вымолить у Бога прощенье».
Любому читателю, обладающему хоть каким-то опытом в работе с книгой, предельно ясно, что Эйхенбаум говорит здесь о героине Ахматовой, о ее лирическом «я». Различие между реальной личностью и поэтической проекцией ее души примерно столь же велико, как различие между поэзией и жизненной правдой, между мечтой и реальностью. Когда Жданов, по злонамерению или по чистому невежеству, отождествляет лирическое «я» поэтессы с ее личностью, то слово «блудница», с его библейской окраской (грешница, распутная жена), становится заурядным ругательством. Если же его произнести с соответствующим выражением, кривя губы, то оно выступает аналогом низких словечек «курва», «блядь». Жданов в данном случае апеллировал к примитивным сексуальным инстинктам общества, которое жило в атмосфере запретов на эротику. А поскольку в общественном сознании доклад Жданова и Постановление ЦК означали одно и то же, то двойное оскорбление «монахиня и блудница» было возведено в ранг официально одобренной «характеристики» поэтессы. Ахматову, можно сказать, назначили «монахиней и блудницей».
Не намного утешительнее была ситуация с понятием «эротика». У Эйхенбаума это слово являлось частью нормального словарного запаса образованного человека. Советская эпоха скоро положила конец такому употреблению этого слова, и оно перестало быть свободным от моральной оценки. Даже словарные статьи обрели официозно-идеологическую трактовку. Дрожь берет, когда читаешь статью «Эротика» в новой Советской энциклопедии: словно у издателей уже тогда, в 1935 году, в голове были Ахматова и доклад Жданова: «В отмирающих общественных классах <…> эротика носит признаки утонченной извращенности, <…> часто связана с мистикой <…> и служит способом бегства от действительности». А в более позднем (1957 год) издании этой настольной книги статья получилась еще более резкой и еще более невыгодной для Ахматовой: «Эротика в искусстве – откровенное, подчас грубое изображение любви, половой жизни».
Незадолго до смерти Ахматова сказала, что «в жизни эротической строчки» не написала. Слова эти, к счастью для всемирной литературы, не отвечают действительности: они были жестом защиты от официальной пошлости.
Тогдашнее советское общественное мнение не знало, что первая репетиция будущего разгрома состоялась задолго до 1946 года. Об этом свидетельствуют недавно рассекреченные архивы ЦК КПСС, точнее, отдела агитации и пропаганды ЦК.
Когда Ахматовой в мае 1940 года, после девятнадцатилетнего молчания, удалось издать сборник стихов «Из шести книг», многое, казалось, уже предвещало тот недолгий взлет, который она пережила сразу после войны. В начале того же 1940 года ее приняли в Союз писателей, после чего такие авторитетные советские писатели, как Алексей Толстой и Александр Фадеев, выдвинули ее на Сталинскую премию. Борис Пастернак в то время не сомневался, что привилегии, которые были предоставлены поэтессе и которые едва ли могли бы иметь место без ведома Сталина, в конце концов помогут и Льва Гумилева вызволить из заключения.
Однако вскоре кто-то на самом высоком уровне счел, что шум вокруг Ахматовой слишком уж велик. В сентябре 1940 года управляющий делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крупин направил Жданову весьма тенденциозную подборку из сборника Ахматовой, сопроводив ее таким комментарием: «Два источника рождают стихотворный сор Ахматовой, и им посвящена ее „поэзия“: бог и „свободная“ любовь, а „художественные“ образы для этого заимствуются из церковной литературы». Далее следуют три страницы примеров, подтверждающих этот тезис; среди них фигурируют и те три строки, которые через шесть лет, выступая в Смольном, процитирует Жданов. Но тогда, в 1940-м, Жданов ограничился тем, что переправил записку Крупина в ЦК, заведующему отделом агитации и пропаганды, снабдив ее собственной припиской. Мнение его столь же лаконично, сколь и инструктивно: «Просто позор <…> Как этот Ахматовский „блуд с молитвой во славу божию“ мог появиться в свет? Кто его продвинул? Какова также позиция Главлита? Выясните и внесите предложения. Жданов». После того как товарищи Александров и Поликарпов сформулировали соответствующее решение, остаток тиража без лишнего шума был изъят из торговли.
Анна Ахматова до конца жизни упорно придерживалась мнения, что и Постановление ЦК от августа 1946 года, и безобразная атака Жданова, и исключение ее из Союза писателей в конце 1949 года – все эти роковые события стали прежде всего следствием посещения Исайей Берлиным Фонтанного дома. В июне 1965 года, находясь в Оксфорде, она даже сказала Берлину, что их ночной разговор в конце ноября 1945 года вызвал гнев Сталина и тем самым способствовал развязыванию «холодной войны».
Сэр Исайя Берлин и в своих воспоминаниях, и в нашей приватной беседе комментировал это мнение нейтральными, осторожными фразами, в которых я расслышал недоверчивый скепсис человека с рациональным складом ума. «Она придавала этим словам самый буквальный смысл, <…> была совершенно в этом убеждена и рассматривала себя и меня как персонажей мировой истории, выбранных роком, чтобы начать космический конфликт – таким именно образом это впрямую отражено в одном из ее стихотворений». Это убеждение являлось частью «исторически-метафизического видения, которое так сильно питало ее поэзию».
По-видимому, Ахматова в самом деле не сомневалась в том, что ее встреча с Гостем сыграла роль в мировой истории. В «третьем посвящении» «Поэмы без героя» эта мысль выражена четко:
Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый век.
Историк в моей душе всеми фибрами протестует даже против тени предположения, будто подобная любовная история хоть в какой-то мере способна была повлиять на конфликт двух супердержав. И в то же время меня самого как-то смущает этот категорический протест: может, во мне просыпается тот высокомерный всезнающий фатализм, с которым я в свое время – изыди, Сатана! – отвергал любое объяснение мира, если оно не опиралось на строгие каноны диалектического и исторического материализма? Такая позиция строилась на том, что я (подобно многим и многим) считал неопровержимыми определенные марксистские тезисы: например, теорию об упадке и загнивании капиталистического общества и о постепенном отмирании государства – и верил в них с убежденностью религиозного фанатика. Нынче же ни одна из подобных аксиом не кажется мне более рациональной, чем, скажем, огнепоклонничество. Что же касается убеждения Ахматовой, будто ее ночной разговор с Берлиным в Фонтанном доме стал толчком к началу «холодной войны», то оно уходит корнями в реальный образ мысли людей той эпохи. В конце концов, встреча выдающейся поэтессы с западным дипломатом в момент растущего напряжения между союзниками носила характер символический, а потому ее могли воспринимать в Советском Союзе как событие политическое, притом весьма значимое. Ведь если первый секретарь посольства Великобритании позволял себе свободно разгуливать по Ленинграду с сыном главного врага СССР, Рандольфом Черчиллем, то у Кремля и так были все причины, чтобы всерьез заволноваться.
Конечно, если принять во внимание общее ощущение угрозы, разлитое в атмосфере, то действительная опасность того ночного разговора играла столь же ничтожную роль, как и его содержание – насколько оно могло стать известным властям. Борис Пастернак летом и осенью 1945 года встречался с Исайей Берлиным каждую неделю. Причем разговаривали они – о чем бы вы думали? – о наполовину уже написанном «Докторе Живаго». Тем не менее Пастернак в то время преследованиям не подвергался. Скорее всего, определяющее влияние на ход вещей оказывали какие-то произвольные или случайные элементы: например, хорошее или плохое настроение, симпатия или антипатия высших лиц, принимавших решение.
Сталинский режим не являлся современной формой диктатуры: это была типичная архаическая деспотия, в которой гнев ли, хорошее ли расположение духа властителя воспринимал и передавал миллионам подданных какой-нибудь десяток приближенных, у которых имелись свои десятки приближенных. Суть была даже не в том, чем порождалось то или иное решение: зубной болью, похмельем или каким-то другим конкретным состоянием духа; суть сводилась к тому, что не существовало общественной силы, которая могла бы противостоять данному изъявлению воли диктатора. Сегодня уже невозможно сказать, действительно ли возмущение Сталина поведением Ахматовой и Берлина повлияло на советско-британские отношения. Однако если бы Сталину пришло в голову воспользоваться встречей в Фонтанном доме как поводом для ухудшения этих отношений, то никто не силах был бы остановить этот процесс. Ахматова ясно это понимала; однако у западного человека подобный ход мысли мог встретить лишь полное непонимание или, в лучшем случае – как у Берлина, – вежливую, недоверчивую улыбку.
Что же касается связи между ночным посещением британским дипломатом Анны Ахматовой и последовавшей вскоре после этого опалой поэтессы, то здесь связь вполне очевидна. Легенда гласит, что, узнав о визите Исайи Берлина в Фонтанный дом, Жданов тут же сообщил об этом Хозяину. Тот якобы сказал: «Значит, наша монахиня теперь принимает иностранных шпионов». И разразился такой непристойной бранью, что Анна Ахматова и двадцать лет спустя не решилась передать его слова сэру Исайе.
«Значит, наша монахиня принимает иностранных шпионов», – доказать, что прозвучала именно такая фраза, разумеется, невозможно. Это такая же легенда, как и предположение о том, что Сталин лично интересовался, как и чем живет самая выдающаяся поэтесса его империи. Те, кто ссылался на эту легенду, любили повторять, с утрированным грузинским акцентом, слова, которые якобы иногда произносил Сталин: «Што дэлает наша манахиня?»
Другая легенда связывает гнев Сталина с быстро растущей популярностью Ахматовой: информация о триумфальных выступлениях поэтессы, конечно, доходила до него. В своих воспоминаниях Ника Глен, Нина Ардова, Лев Горнунг в один голос пишут, что при появлении Ахматовой публика вставала и десять – пятнадцать минут приветствовала ее аплодисментами. Когда Жданов сообщил об этом Сталину, тот якобы тут же спросил: «Кто организовал вставание?» Надежда Мандельштам утверждает, что этот жутковатый анекдот принадлежит Зощенко, и добавляет: «По-моему, это „цитатно“, как говаривал Пастернак, то есть фраза из лексикона человека, которому ее приписывают».