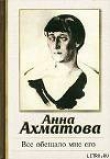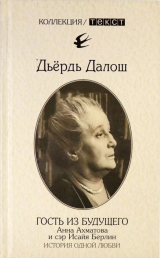
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Бренда Трипп пыталась успокоить Берлина, посылая ему вести из московского бюро Британского совета. «С Ахматовой все хорошо, – пишет она 12 февраля 1947 года. – Она живет в своей квартире счастливо и безмятежно, на свою государственную пенсию 600 рублей в месяц». Бренда Трипп тоже советует Берлину не терзаться сознанием ответственности за тяжелый удел Ахматовой.
С Борисом Пастернаком, как можно предположить, удалось установить контакт Анне Калин. Однако сведения, поступавшие от него, были обрывочны и неточны. «19 февраля 1947 года. Анне Ахматовой разрешили оставаться дома, но отобрали продовольственные карточки, материальное ее положение и без того плачевно». На самом деле все обстояло наоборот: Ахматова получила карточки, квартиру же у нее хотели отобрать. «А вообще, насколько известно Б. Л., с нею все в порядке. Букинисты получили разрешение продавать ее книги» (видимо, речь идет о прежних изданиях).
А кто были эти «букинисты»? Источником информации мог быть только один «букинист», а именно Геннадий Моисеевич Рахлин, директор Книжной лавки писателей, той самой, через которую в свое время Исайя Берлин попал в Фонтанный дом.
Анна Ахматова уже «Поэму без героя» писала «симпатическими чернилами», прибегая к сложной системе тайнописи, намеков, отсылок и полуцитат, чтобы сохранить ее главное содержание до лучших времен. Для того же, чтобы сберечь свои самые важные переживания и связанный с ними миф, у нее существовала одна-единственная возможность: полное молчание. О своей встрече с Берлиным она даже самым близким и самым доверенным людям говорила лишь от случая к случаю.
«Таинственный „Гость из Будущего“, вероятно, предпочтет остаться не названным», – сообщает она в 1961 году, в одной из записей к «Прозе о Поэме». И в самом деле: если кто-нибудь попытается найти на дисках, содержащих все тексты Анны Ахматовой, имя сэра Исайи Берлина, он, скорее всего, получит один ответ: «Не обнаружено». Имени любимого мужчины нет нигде.
В то же время с момента той судьбоносной встречи едва ли проходил день, чтобы Анна Ахматова не думала об Исайе Берлине. Оксфордский профессор, рижский еврей по рождению, придал смысл жизни великой поэтессы именно тем, что стал невольной причиной постигшей ее катастрофы. Чрезвычайно чуткая к символам и трансцендентальным связям, Анна Ахматова сохранила свою встречу с Берлиным для себя, для собственного, так сказать, пользования.
Маргарита Алигер, посетив в октябре 1946 года Фонтанный дом, нашла Ахматову в состоянии глубочайшей депрессии. Та почти не выходила из дома, у нее не было никакой охоты вступать в отношения с внешним миром. Однако тут произошло нечто, на что гостья никак не рассчитывала. «…Вдруг Анна Андреевна сказала, что проводит меня. День был хотя и без дождя, но под ногами хлюпала обычная ленинградская осенняя сырость. Свернув с Фонтанки на Невский, мы поравнялись с Книжной лавкой писателей, и меня что-то остановило у витрины. Анна Андреевна предложила зайти, я с радостью согласилась. Но едва мы вошли, нас остановила гардеробщица и попросила снять калоши. Это относилось только к Анне Андреевне – я была в толстых башмаках на резине, у нее же на ногах были старые ботики, и она сказала, что их трудно снимать и уж лучше, пожалуй, и вовсе не заходить. Мне бы догадаться, вызвать кого-нибудь, попросить сделать исключение, но я растерялась. Впрочем, поступи я иначе, Анна Андреевна, может быть, была бы и недовольна. И вот мы снова идем по Невскому в дневном его потоке».
На первый взгляд тут произошло нечто банальное и скандальное одновременно: величайшего поэта России не пустили в Книжную лавку писателей. Анну Ахматову это вряд ли потрясло: она-то прекрасно знала, что могущественней дворников и гардеробщиков никого на свете нет. В то же время Анна Ахматова одержала в этот день маленькую, но важную победу: впервые с тех пор, как ее предали анафеме, она по своей воле вышла из дому. И до Лавки писателей прошла тот путь, которым в конце ноября 1945 года прошел, в противоположном направлении, Исайя Берлин. Сама дорога должна была напомнить поэтессе о той встрече, которая именно из-за своих «роковых» последствий обрела для нее столь большое значение. А так как на обратном пути она тоже повернула «налево с моста», как сказано в «Поэме», то можно считать, что символически она снова встретилась с Гостем. Едва ли случайность, что в этот критический момент своей жизни все свои творческие силы она вложила в работу, о которой говорила с Берлиным: в статью о «Каменном госте» Пушкина.
Свои стихи Ахматова делила на две категории: те, о которых она знала, когда они появились, и о которых не знала. Но была еще одна группа: несколько стихотворений, которые она с удовольствием не написала бы. Таких стихотворений всего шесть, все они входили в цикл «Слава миру». Впервые они были напечатаны в 1949-м и 1950 году в «Огоньке». Одно из них называется «21 декабря 1949 года»: это был день семидесятилетия Сталина.
Жалкий этот цикл вынужден был появиться, разумеется, из-за ареста Льва Гумилева. Ахматова рассматривала его как «прошение на высочайшее имя»: так прежде называли обращение к царю с просьбой о помиловании. Ситуация походила на ту, когда Льва Гумилева арестовали в первый раз, в 30-х годах, и когда она, уже после его освобождения, писала:
Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой,
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.
До конца жизни Ахматову терзало сознание, что она, пускай по необходимости, пускай всего лишь на один исторический момент, но предала свое поэтическое «я». По четко высказанной ее воле, цикл «Слава миру» никогда не должен включаться в неподцензурные собрания ее стихов. Хотя в стихотворениях цикла есть прекрасные строки и чистые поэтические образы, я, уважая волю Ахматовой, не стану их цитировать: ведь речь тут идет не о поэзии, а, как сказал бы Юрий Тынянов, о «литературном факте». (Сообщу любопытное обстоятельство: стихи эти в свое время были включены в венгерскую поэтическую антологию, в переводе еще одной «опальной» писательницы, Магды Сабо.)
Не стану цитировать и тот архивный документ, относящийся к поздней осени 1949 года, который свидетельствует о глубоком отчаянии, овладевшем тогда поэтессой. Как выясняется из ее письма Илье Эренбургу, после ареста Пунина она решила, что может предотвратить еще большую беду, если публично отречется от своих западных приверженцев. Эренбург переслал это ее письмо Фадееву, председателю Союза писателей, а тот сообщил о нем Михаилу Суслову, члену Политбюро. Для сведения Фадеев приложил несколько стихотворений из «Огонька». Однако намерения Ахматовой он не поддержал: возмущение на Западе, вызванное ждановским постановлением, уже более двух лет как улеглось, так что публичное самобичевание «вряд ли принесет нам особую пользу». О приложенных стихах он отозвался снисходительно: мол, стихи вообще-то так себе, но вместе с тем свидетельствуют об определенных изменениях в «образе мысли» Ахматовой. Пренебрежительный тон показывает, что Фадеев считал проблему исчерпанной. А дело – закрытым. В январе 1951 года Ахматову снова приняли в Союз писателей.
Льва Гумилева приговорили к десяти годам лагерей. Наказание он отбывал сначала в Караганде, потом – в Сибири, под Омском. Не помогли ни стихи матери, ни ее «прошение на высочайшее имя».
Последняя большая волна сталинского террора косила людей без разбора. В ходе кампании 1948 года против евреев-интеллигентов, заклейменных как «безродные космополиты», был арестован и книготорговец Рахлин. Его обвинили в тайных контактах с Голдой Меир, первым послом Израиля в Москве, позже – премьер-министром; в бытность свою послом она приезжала и в Ленинград. Те ленинградские партийные руководители, которые в свое время плодотворно потрудились, участвуя в травле Ахматовой и Зощенко, теперь сами стали жертвами чистки. Многим из них «ленинградское дело» стоило жизни.
Произошла, однако, еще одна страшная вещь, которая вышла на свет Божий лишь в 1994 году, в результате исследовательской работы историка Геннадия Костырченко. Летом 1950 года советские секретные службы арестовали несколько врачей московской клиники питания; среди них – директора и главврача доктора Певзнера. Певзнер состоял в родстве с Менделем Берлиным, отцом Исайи Берлина. В начале 30-х годов они встречались в Карлсбаде, куда Певзнер ездил в служебную командировку. В воспаленном мозгу чекистов встреча эта превратилась в часть едва ли не всемирного заговора: Мендель Берлин-де завербовал доктора Певзнера, склонив его служить британской разведке. Под пытками Певзнер показал, что шпионом является и брат Менделя, доктор Лев Берлин, который работал в той же московской клинике.
От сэра Исайи Берлина я узнал, что его отец, Мендель Берлин, после Октябрьской революции в СССР не приезжал и впервые пересек границу своей родины лишь в 1935 году. Его пребывание в Москве, в том числе общение с братом, органы отслеживали скрупулезно. Десять лет спустя министр иностранных дел Молотов попытался отказать Исайе Берлину в аккредитации с мотивировкой: «Мы не хотим бывших»; конечно, он имел в виду то обстоятельство, что Исайя Берлин был когда-то гражданином Российской империи. Советникам удалось переубедить Молотова: ведь британский дипломат во время Октябрьской революции был еще ребенком. Тем не менее Берлину, который собирался приехать в Москву еще в июне, пришлось до 8 сентября ждать официальной аккредитации в качестве работника посольства. Можно быть абсолютно уверенными, что с первой минуты пребывания в СССР и до последней органы госбезопасности с особым вниманием следили за новым секретарем посольства. И совершенно исключено, что встреча племянника с дядей осталась бы незамеченной.
Доктора Льва Берлина арестовали в январе 1952 года и приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. Позже, когда в умах возобладала «теория», что врачи-евреи по указке империалистических спецслужб «намеревались залечить насмерть» советских руководителей, в том числе Сталина, Лев Берлин был доставлен из Тайшета в Москву. Четыре дня его пытали, добиваясь признания, будто он был посредником между евреями-«заговорщиками» и британским шпионом Исайей Берлиным. Хорошо хоть на день смерти диктатора у Льва Берлина было железное алиби: из лагеря его выпустили только весной 1954 года.
В глазах оксфордского профессора все эти события, о которых он мог узнать самое позднее летом 1956 года, во время своего второго приезда в Россию, стали лишь подтверждением той его мысли, что в Советском Союзе завязывание личных отношений чревато катастрофическими последствиями; для гражданина классического правового государства это вовсе не является утешительным фактом. Советский режим, скатившийся до позиции преступника, захватывающего заложников, ухитрился распространить границы своих лагерей до самого Оксфорда.
«ОКСФОРДСКИЕ» СТУДЕНТЫ В ЛЕНИНГРАДЕ
Шестого марта 1953 года ленинградские писатели собрались в Доме писателей имени Маяковского, чтобы почтить память только что скончавшегося Иосифа Сталина. На собрании присутствовала и Анна Ахматова. Она была членом Союза писателей, и манкировать таким мероприятием считалось бы серьезным проступком. Хотя показной скорби многих своих собратьев по перу она вовсе не разделяла, тем не менее наверняка понимала историческое значение случившегося.
Илья Эренбург назвал одну из своих повестей «Оттепель»; это слово оказалось крылатым: несколько лет, прошедшие после смерти Сталина, тоже стали называться оттепелью. Немного позже этой метафорой воспользовался и Григорий Чухрай в своем фильме «Чистое небо». Образ огромных льдин, громоздящихся друг на друга, реки, пробивающей дорогу через все препятствия, запечатлелся в сознании целого поколения.
Начало «десталинизации» действительно напоминало грандиозный природный катаклизм. Со смертью Хозяина в стране возник вакуум власти, развернулась ожесточенная борьба за наследование высшего поста: природа не терпит пустоты даже в Кремле. Процесс этот был далеко не однозначным. В верхах развернулась жестокая, циничная, лишенная каких бы то ни было идейных принципов схватка за власть, жертвами которой становились подчас и ее участники. Лаврентий Берия, например, в конце марта 1953 года стал инициатором освобождения врачей-евреев, которых всего месяц назад арестовали по обвинению в подготовке политических убийств и шпионаже. Этим он собирался ослабить своих врагов в секретных службах, на деле же подготовил собственный крах.
«Ночью я несколько раз просыпалась от счастья», – говорила Анна Ахматова в апреле 1953 года подруге, Лидии Чуковской. Счастье объяснялось тем, что были выпущены на свободу врачи-евреи, последние жертвы сталинских репрессивных кампаний. В самом деле, произошло нечто невероятное: «Правда» публично осудила пытки, с помощью которых у врачей добивались признания.
Уже само по себе то обстоятельство, что орган партии – в соответствии со своим названием – на сей раз написал правду, было достаточной причиной для радости. Однако Анна Ахматова надеялась на дальнейшие чудеса: освобождение сына и бывшего мужа, Николая Пунина. Обвинение, выдвинутое против них, было таким же фальшивым, высосанным из пальца, как и обвинение кремлевских врачей в шпионаже. Кроме того, Ахматова, видимо, рассчитывала на то, что оттепель рано или поздно растопит и унесет Постановление августа 1946 года.
Не только Ахматова питала такие надежды. Корней Чуковский осенью 1953 года записал в своем дневнике: «Был у Федина. Говорит, что в литературе опять наступила весна. <…> Ахматовой будут печатать целый томик…»
Государственное издательство художественной литературы послало на Большую Ордынку, к дому семьи Ардовых, где гостила, приехав в Москву, Анна Ахматова, машину с шофером. В издательстве ее встретили с почетом и действительно пообещали издать книгу ее стихов (как мы знаем, последний тоненький сборник вышел в 1943 году в Ташкенте).
Несомненно, все эти жесты во многом связаны с именем Алексея Суркова, который в 1953 году стал первым секретарем Союза писателей СССР. В годы, когда Анну Ахматову обливали грязью, преследовали, травили, Сурков старался по возможности смягчать последствия ударов. А сейчас решил восстановить справедливость и компенсировать поэтессе ее несчастья.
Фигуру Суркова можно понять при том условии, если добро и зло воспринимать не как несовместимые противоположности, а как неразделимые части одного целого. Сурков представлял собой советский тип мольеровского мещанина во дворянстве. Он всей душой и всем сердцем служил режиму, который eo ipso приходил в панику от любого бесконтрольно произнесенного или написанного слова, а следовательно, и от поэзии. В то же время у Суркова был какой-никакой – пускай и не абсолютный – поэтический слух, и он знал, что такое настоящая большая поэзия. Со временем он стал слугой двух господ: агентом поэзии в стане власти и в то же время последовательным проводником интересов партии в литературе. Двойную эту роль он играл – особенно когда речь шла об Ахматовой – с неоспоримой долей грубоватого шарма. Каждый раз, навещая ее, он был элегантно одет, гладко выбрит и приносил букет цветов, так что Ахматова, говоря о нем, называла его не иначе как «жених». Однако за его лаской и вниманием таилось примерно то же, что за вниманием Николая I к Пушкину: «Я сам буду твоим цензором».
В 1963–1964 годах, учась в Московском государственном университете, я часто видел Суркова на многолюдных поэтических вечерах в Центральном Доме литераторов на улице Воровского. Аккуратный, подтянутый, с белоснежными волосами и румяным лицом, он привычно занимал место в президиуме. По правую и по левую руку от него сидели известные советские и зарубежные поэты: Маргарита Алигер, болгарка Елизавета Багряна, немец Ганс Магнус Энценсбергер, пакистанец Фаиз Ахмад Фаиз, венгр Ференц Юхас. Сурков уверенно, явно получая от этого удовольствие, с непосредственностью кавказского тамады дирижировал такими поэтическими вечерами. Наверняка он был рад, что хотя бы в эти часы он – высокопоставленный культурный дипломат своей страны – не обязан лгать и соглашаться (как раз в то время готовилось это событие) с высылкой Иосифа Бродского.
В первые годы после смерти Сталина интерес Европы к Советскому Союзу стал быстро расти, и внешняя политика Кремля весьма содействовала этому. Соглашения о перемирии в Корее и Вьетнаме, первая встреча в верхах в Женеве – все это были реальные шаги к смягчению противостояния; но такой же курс надо было поддерживать и в области культуры. Первые зарубежные гастроли балета Большого театра, турне самых известных советских музыкантов немало способствовали созданию позитивного образа страны, укреплению иллюзии, что в Советском Союзе и в плане внутренней политики, и в экономике все в полном порядке.
Рассуждая теоретически, советский режим мог бы обратить в свою пользу и тот интерес, который зарубежье проявляло к Ахматовой, Пастернаку и Зощенко. Однако здесь приходилось считаться с опасностью, что «классовый враг» не захочет удовлетвориться той благостной картиной, которую советские руководители предлагали вниманию внешнего мира, и станет выискивать в советской литературе то, что можно с успехом использовать в арсенале «холодной войны». Лишенный какой бы то ни было гибкости пропагандистский аппарат, унаследовавший кадровый состав классической эпохи сталинизма, совершенно не был готов к новым обстоятельствам. Так подошел черед еще одного болезненного удара, который если и не прервал, то, во всяком случае, замедлил процесс творческой реабилитации Анны Ахматовой.
Вскоре после смерти Сталина в ГДР, в Лейпцигскую литературную высшую школу, отправилась делегация советских писателей, возглавляемая Алексеем Сурковым. Студенты ЛВШ, ободренные изменениями, начавшимися после восстания в Восточном Берлине (1953 год), принялись задавать делегации, прибывшей из великой братской страны, щекотливые вопросы.
Спустя двадцать с лишним лет об этом событии вспомнил гэдээровский поэт Адольф Эндлер в стихотворении, посвященном поэтессе-песеннику Беттине Вегнер, в те годы обреченной на молчание.
ВИЗИТ ИЗ МОСКВЫ В 1954 ГОДУ, ИЛИ ВОПРОСЫ ОБ АХМАТОВОЙ
Фадеев! Паустовский! Корнейчук!
Кетлинская! Катаев! Щипачев!
Бажан! Кассиль! Ажаев! Шагинян!
«А что Ахматова: жива ль она еще?»
Фадеев! Исаковский! Луговской!
Бек! Лебедев-Кумач!.. Иль – Кумачев?
Асеев! Либединский! Полевой!
«А что Ахматова: жива ль она еще?»
Луконин! Первомайский! Федин! Бек!
Да слушайте же! Да, жива, жива…
Фадеев! Либединский! А. Сурков!
«Она жива, Ахматова? Ура!»
«Что с Ахматовой? Жива ли она?» – этот вопрос задавали и члены группы английских студентов, которая приехала в СССР по приглашению Комитета советской антифашистской молодежи и Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС). Двухнедельная поездка эта была из тех мероприятий, отчасти туристического, отчасти пропагандистского характера, с помощью которых советское руководство пыталось повысить реноме страны в среде западной интеллигенции.
«В Москве мы жили в „Метрополе“, – вспоминал в 1995 году оксфордский профессор Гарри Шукман, когда-то студент-филолог Ноттингемского университета. – Каждый прием пищи, каждый обед превращался в настоящий банкет. А люди в те годы жили бедно. Было это через десять лет после окончания войны <…>. Люди очень осторожно разговаривали при нас».
Два десятка молодых людей, из которых один лишь Шукман знал русский язык, держались весьма недоверчиво. Сначала они приставали с вопросами к переводчице Светлане. Потом стали донимать официальных представителей, которые занимались их приемом. Во время посещения Библиотеки им. Ленина едва не произошел скандал. «Нас не интересовали сочинения Ленина, мы требовали Оруэлла и Троцкого. „Где Достоевский?“ – спрашивали мы. Мы постоянно провоцировали наших сопровождающих, так что, думаю, после этой встречи отношение к подобного рода гостям резко изменилось. Полагаю, мы им просто ужасно надоели».
В таком вот возбужденном состоянии делегация в начале мая приехала в Ленинград. Здесь юные «туристы-революционеры» выступили с требованием: они хотят встретиться с опальными писателями Ахматовой и Зощенко. И принимающая сторона решила сделать уступку; встреча состоялась 5 мая 1954 года в Доме писателей.
Летом 1953 года Анна Ахматова, приехав в Москву, на похоронах художника Осьмеркина встретилась со знаменитым архитектором Львом Рудневым, который был дружен с маршалом Ворошиловым, тогдашним главой государства. Руднев (среди прочего – автор проекта здания Московского государственного университета имени Ломоносова) пообещал лично передать Ворошилову прошение о помиловании Льва Гумилева. Свое обещание он выполнил; произошло это самое позднее в феврале 1954 года.
В это время Ахматова регулярно приезжала в Москву, чтобы хлопотать об освобождении сына. Билеты на поезд она могла достать только через Союз писателей. С просьбой о билете она позвонила в Союз и 4 мая 1954 года. Сотрудница, которая говорила с ней, упомянула кстати, что завтра Анна Андреевна должна быть в Доме писателей, на встрече с английскими студентами. А час спустя ей позвонила Елена Катерли, секретарь правления Ленинградской писательской организации, и повторила просьбу. Ахматова попыталась отказаться от участия во встрече, ссылалась на нездоровье, но Катерли была неумолима: «Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили».
Через четыре дня, приехав в Москву, Ахматова рассказала Лидии Чуковской, как прошла встреча. «За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидит Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. Еще переводчица, девка из ВОКСа – да, да, все честь честью… Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? долго ли это тянется? чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов (член руководства ленинградского отделения Союза писателей. – Д. Д.). Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом? отошли ли от речи (Жданова. – Д. Д.), от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-r Зощенко сказать им, как он относится к постановлению ЦК 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо… Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: „Оба документа – и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии – я считаю совершенно правильными“.
Молчание. <…> Потом кто-то из русских сказал переводчице: „Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали m-me Ахматовой?“ – „Ее ответ нам не понравился…“ – или как-то иначе: „Нам неприятен“».
В сущности, похоже описывает встречу со студентами Казьмин, тогдашний секретарь Ленинградского обкома КПСС, в своем отчете, который он послал в Москву по просьбе отдела культуры ЦК: «Беседа продолжалась в течение трех с половиной часов. В ходе беседы один из студентов Англии заявил, что он не является сторонником советского строя. Далее был задан ряд вопросов, носивших провокационный характер. Например, почему в Советском Союзе всюду висят портреты руководителей и плакаты, призывающие к повышению производительности труда, рекордам в спорте и т. д., не надоело ли это все народу? Почему не издаются произведения такого крупного писателя, как Достоевский? Какие взаимоотношения писателей и правительства? Как пишутся литературные произведения: по заданиям или как хочет писатель? Почему так узко знают английскую литературу советские студенты? Один из делегатов поставил вопрос в такой форме: „Где бы я ни был, всюду видел плакаты, лозунги, призывающие к чему-то. Все это надоедает человеку, он ищет легкого, бежит от всего этого. Так было после войны. Не кажется ли вам, что социалистический реализм также надоедает?“ Руководитель делегации английских студентов, ссылаясь на статьи Ольги Берггольц и Ильи Эренбурга о задачах советской поэзии, опубликованных в „Литературной газете“ и прокомментированных английской радиостанцией Би-би-си, заявил, что из статей якобы явствует, что в нашей поэзии наметились новые тенденции, объясняющиеся некоторым послаблением в политике.
На все эти вопросы были даны четкие и правильные ответы и показано последнее издание произведений Достоевского в Советском Союзе.
Затем был задан вопрос Ахматовой и Зощенко в таком плане: вот в докладе Жданова вас критиковали – как вы считаете, не вступая в сделку со своей совестью, эта критика была правильной или нет? Зощенко ответил, что с критикой был не согласен, о чем он и написал в свое время письмо И. В. Сталину. Затем он путано доказывал, почему не согласен с критикой, что якобы в двадцатых годах не было советского общества, было мещанство, против которого он и боролся. „Сейчас снова остро поставлен вопрос о сатире. Но этим оружием надо пользоваться осторожно. Теперь я буду снова писать, как велит мне совесть“. Ответ Зощенко был встречен аплодисментами со стороны английской делегации.
Второй выступила Ахматова. Она лаконично заявила, что постановление ЦК правильное и критика тоже. „Так я поняла раньше. Понимаю и теперь“. В ответ аплодисментов не было».
«Чувствую, что будет катастрофа», – сказала об этой встрече Анна Ахматова. На самом же деле произошли сразу две катастрофы: для нее и, гораздо большая, для Михаила Зощенко. То, что случилось в этот вечер с Ахматовой, было, в сущности, лишь повторением пройденного. Как и в 1949 году, сейчас, весной 1954-го, она думала: надо продемонстрировать лояльность режиму. И тогда, и сейчас она надеялась, совершив этот жест, добиться освобождения сына или хотя бы смягчения условий его заключения. В обоих случаях ее ожидало разочарование: для власти Лев Гумилев был не объектом торга, а заложником. Усилия, предпринятые Ахматовой неофициально, тоже не дали желаемого результата: Климент Ворошилов не захотел пускать в ход свой авторитет ради сына поэтессы и отправил прошение по правовому пути – словно не знал, что словосочетание «правовой путь» было в то время выражением, совершенно лишенным смысла.
В отличие от первого случая, когда Ахматова ради сына опубликовала стихотворение, прославляющее Сталина, и никто не упрекнул ее за это, – после нового выражения лояльности она оказалась в весьма двусмысленном положении. Студенты-англичане не аплодировали ее словам, то есть разочаровались в ней. И хотя Ахматова была убеждена, что в данной ситуации не могла поступить иначе, тем не менее, видя, как повел себя Зощенко, попыталась оправдать себя.
Эмма Герштейн тоже упоминает тот момент, когда Ахматова проявила слабость. Справедливо, хотя и несколько чрезмерно оправдывая ситуацию, она предваряет свой рассказ тем, что Ахматова и Зощенко, лирик и юморист, в литературном смысле не имели почти ничего общего друг с другом; связывало их, в сущности, только Постановление ЦК от августа 1946 года. «А восемь лет спустя их обоих пригласили на собеседование с оксфордскими студентами, приехавшими в СССР в качестве туристов. <…> Анна Андреевна, конечно, была очень взволнована резким противоречием в поведении ее и Зощенко. „Но у него нет сына на каторге“, – несколько раз повторила она. Говоря о своем выступлении, она подчеркивала его несерьезность, показывала, как, „повернувшись в полоборота“ к публике, коротко сказала, что „совершенно согласна с постановлением и докладом тов. Жданова“. Этим, как ей казалось, она давала понять, что беседовать с приезжими студентами о своем политическом положении она не будет…»
Летом 1955 года, когда новые, пускай уже не такие прямые и грубые, как раньше, преследования со стороны партийных органов довели Зощенко до душевного краха, Ахматова говорила Лидии Чуковской: «Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить <…>. Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, он, – по моему ответу, догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым…»
Я не уверен, что Ахматова могла бы повлиять на Зощенко и он ответил бы по-другому. Позже, в своей страстной, достойной всяческого восхищения речи на пленуме Союза писателей он сам утверждал, что в Доме писателей лишь по чисто эмоциональным причинам открыто выступил против организаторов встречи. «На любой вопрос (английских студентов. – Д. Д.) я готовился ответить им шуткой. Но в докладе, в котором было сказано, что я подонок-хулиган, было сказано, что я не советский писатель, что с двадцатых годов я глумился над советскими людьми! Я не мог отвечать шуткой на этот вопрос, и я ответил серьезно – так, как думаю..<…> Я могу сказать: моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. Я не могу выйти из положения. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын! <…> У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не надо вашего снисхождения, ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков! Я больше чем устал! Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!»
Бывают пограничные ситуации, которые дают возможность для альтернативных – в моральном смысле слова – действий. Выступление Зощенко в Доме писателей и потом, на пленуме Союза писателей, несомненно, было героическим. Впервые за долгие десятилетия произошел случай, когда писатель решился с открытым забралом пойти против бесчеловечной машины культурной бюрократии, попытался отстоять свои человеческие права. В этом смысле Зощенко стал прямым предтечей всех тех писателей, которые в последующие десятилетия отвергали унизительный ритуал самокритики, ставя под вопрос самое моральную легитимность режима.
Однако, признавая героизм Зощенко, я ни в коем случае не хочу принизить смелость Ахматовой. Это нужно особенно подчеркнуть, так как десятилетия спустя, когда подули очистительные ветра перестройки, вдруг появились и стали ходить странные легенды. Андрей Битов, например, утверждал в одной телевизионной передаче, будто после встречи с английскими студентами Зощенко заявил об Ахматовой следующее: «Как она меня подвела!» Эта фраза (процитированная Эммой Герштейн, но не повторенная в ее мемуарах), даже если и в самом деле прозвучала, никаких оснований под собой не имеет. У Зощенко и Ахматовой не было никаких возможностей договориться о том, как вести себя при встрече. И во всяком случае, ни у Зощенко, ни у Ахматовой даже при самых тщательных поисках мы не найдем и намека на то, что в них когда-либо ослабевало или тем более исчезало чувство солидарности по отношению друг к другу.