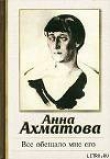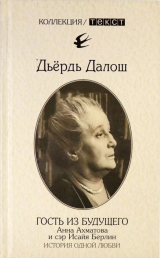
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Правда, главный скандал разразится только два года спустя, когда Шведская академия присудит Борису Пастернаку Нобелевскую премию по литературе; но и сейчас, в эти летние месяцы 1956 года, писатель был взбудоражен сверх всякой меры. Это важно упомянуть потому, что душевное состояние Пастернака, несомненно, оказало определенное влияние на поведение британского гостя.
«Пастернак сказал, – вспоминает сэр Исайя Берлин, – что хотя Ахматова и хочет меня видеть, но ее сын, который был вновь арестован вскоре после нашей встречи, только недавно вышел из заключения, и свидания с иностранцами были бы ей сейчас некстати, особенно потому, что она приписывала яростные нападки Партии на себя, по крайней мере частично, моему посещению в 1945 году. Пастернак сказал, что сомневается, что мой визит причинил ей какой-то вред, но так как она, очевидно, считает, что это так, и ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она не может встретиться со мной». До этого момента аргументацию Пастернака можно считать в целом рациональной. Однако потом он добавил: «Но она хотела бы, чтобы я позвонил ей по телефону, – это было безопасно, поскольку все ее телефонные разговоры, конечно же, прослушиваются, так же, как и его собственные».
Странное слово «поскольку» в этой фразе прямо вводит нас в иррациональный мир восточноевропейских страхов. Оно означает примерно следующее: когда твой телефон, твои частные разговоры постоянно прослушиваются спецслужбами, то их бдительность можно легко усыпить, если, не прячась, не прибегая к конспирации, во «всеуслышание» (во всеуслышание микрофонов и «клопов»), без стеснения говорить открыто. Ахматова считала: против подобного бесстрашного поведения власть, как бы решительно она ни была настроена, окажется бессильной. Самого Пастернака теория Ахматовой, по-видимому, несколько сбила с толку, так как он, забыв о логике и смысле, добавил: только пускай Берлин ни в коем случае не звонит ей из посольства или из его, Пастернака, квартиры: звонить лучше всего из уличного телефона-автомата.
Все это нужно иметь в виду, если мы хотим понять психологическую подоплеку того драматического события, которое вошло в поэзию Ахматовой и в литературу о ней под именем «невстречи». Ведь в это самое время Ахматова тоже находилась в Москве, так что с сэром Исайей Берлиным они в принципе могли бы встретиться и случайно, на улице или у кого-то из общих знакомых.
Большинство источников сходятся в предположении: Ахматова отказалась встречаться с Берлиным потому, что опасалась, как бы появление посетителя из Англии не повредило ее сыну, только что выпущенному из лагеря. Хотя опасение это в тот момент было безосновательным, однако беспричинным его назвать нельзя: тот, кто обжегся на молоке, до конца жизни будет дуть на воду.
Когда младший брат Ахматовой, Михаил Горенко, в 1956 году, впервые после нескольких десятилетий молчания, прислал ей письмо из США, поэтесса так испугалась, что обратилась в «Большой дом» (ленинградское управление КГБ) с вопросом, имеет ли она право получать письма из-за рубежа. И успокоилась, лишь получив ответ: да, такое право она имеет. Но в мае 1962 года, когда она уже была признана в Советском Союзе как поэт, она снова прислушалась к совету какого-то чиновника из ленинградского отделения Союза писателей и, под предлогом болезни, отказалась от встречи с американскими журналистами. Даже летом 1965 года, находясь в Оксфорде, на вершине славы, она со страхом думала о том, что по возвращении на родину какой-нибудь работник КГБ будет вежливо выспрашивать ее, как уже было после поездки в Италию, о впечатлениях от поездки на вражеский Запад.
Страх от общения с иностранцами был обычным явлением в советском обществе, зараженном насаждаемой сверху ксенофобией. В этом смысле отказ встретиться с Берлиным был с ее стороны всего лишь рефлекторным проявлением прочно усвоенных, ставших частью натуры норм. Надежда Мандельштам переводит это ее решение в философскую сферу: «Причина „невстречи“ была осязательно реальна: искусственная преграда, воздвигнутая между двумя мирами, глухая стена, непроходимый ров… Люди, которые имели что сказать друг другу, оказались абсолютно разъединенными в пространстве».
Литературовед Эмма Герштейн в своей статье 1995 года высказывает мнение, что встреча была бы вполне возможна. Помешали ей исключительно иррациональные страхи Пастернака, его предостережения, к которым Берлин отнесся слишком серьезно. «Да и, так сказать, – с иронией пишет Эмма Герштейн, – дружеская услуга, оказываемая Борисом Леонидовичем Анне Андреевне, ставила его в неловкое положение. Не менее неловко должен был чувствовать себя джентльмен, которому отказывают в приеме. Тем более что тут была замешана политика, совершенно фантастическая в глазах гражданина одного из самых правовых государств в Европе. Оба собеседника забыли о собственных наблюдениях над советской жизнью, в которой так явственно угадывали присутствие иррационального начала. Но тут верное чувство Истории им изменило, и они искали здравого смысла там, где его никогда не было и быть не могло».
Другой возможной причиной, по которой Анна Ахматова не захотела увидеться с Гостем, могла быть оскорбленная гордость; точнее сказать, горечь любовного разочарования.
Пастернак, опередив Берлина, позвонил Ахматовой и «тактично» предупредил ее: сэр Исайя прибыл в Москву не один, а с леди Берлин, которая, кстати говоря, совершенно очаровательна. После этого и состоялся тот телефонный разговор, в котором сэр Исайя Берлин, судя по всему, учел доброжелательные советы осторожного автора «Доктора Живаго»; хотя как раз для Пастернака-то всякая осторожность была абсолютно бессмысленной: «Доктор Живаго» был уже написан и вывезен за границу. Сэр Исайя Берлин так вспоминает об этом разговоре:
«В тот же день я позвонил ей. „Да, Пастернак сказал мне, что вы в Москве с женою. Я не могу вас видеть по причинам, именно вам хорошо понятным. Мы можем поговорить по телефону, потому что тогда они будут знать о чем. Как давно вы женились?“ – „Недавно“, – сказал я. „А точнее?“– „В феврале этого года“. – „Она англичанка или, может быть, американка?“ – „Нет, полуфранцуженка, полурусская“. – „Ага“. Последовала долгая пауза. „Жаль, что вам нельзя меня увидеть. Пастернак говорит, ваша жена прелестна“. Вновь долгая пауза».
В нескольких разговорах, в том числе во время нашей с ним лондонской встречи, Берлин корректно намекал, что его версия того телефонного разговора отличается от версии Ахматовой. Фактических противоречий между двумя версиями почти нет, но реальна пропасть в том, что касается эмоционального контекста. То, в чем поэтесса призналась 23 августа 1956 года Лидии Чуковской, было ни более ни менее как новым трагическим звеном в длинной цепи трагедий, переполнявших жизнь Ахматовой.
«Один господин – вы, конечно, догадываетесь, о ком речь, вы и двое-трое друзей знают, в чем дело, – позвонил ко мне по телефону и был весьма удивлен, когда я отказалась с ним встретиться. Хотя, мне кажется, мог бы и сам догадаться, что после всего я не посмею снова рискнуть… Сообщил мне интересную новость: он женился только в прошлом году. Подумайте, какая учтивость относительно меня: только! Поздравление я нашла слишком пресной формулой для данного случая. Я сказала: „Вот и хорошо!“, на что он ответил… ну, не стану вам пересказывать, что он ответил…»
Для Чуковской смысл происшедшего не остался тайной за семью печатями. «Она говорила хотя и с насмешкой, но глубоким, медленным, исстрадавшимся голосом, и я поняла, что для этого рассказа о „несбывшемся свидании“ она и вызвала меня сегодня…»
Многие русские писатели верили в мистику чисел. У Владимира Высоцкого есть песня, в которой он ищет взаимосвязи между определенными числами и судьбой поэтов. Лермонтов, например, умер на двадцать шестом году жизни, а Есенин в 1926 году повесился в номере ленинградской гостиницы «Англетер». Пушкину было тридцать семь, когда он был убит на дуэли, столько же было Маяковскому, когда он застрелился. Тридцать семь лет прожил Рембо; тридцать семь было лорду Байрону, когда он умер в Миссолунги (Греция). Самому Высоцкому тоже было тридцать семь, когда он написал эту песню. 37-й год был для него символом Большого террора.
В мифологии Анны Ахматовой тоже есть годы и числа, которые обладали для нее символическим смыслом. Поэтесса обнаружила, например, что Хрущева вынудили подать в отставку 14 октября 1964 года, в день стопятидесятилетней годовщины со дня рождения Лермонтова; а сотая годовщина смерти поэта совпала с днем, когда Германия напала на Советский Союз. Современники обратили внимание, что Ахматова умерла 5 марта, в тот же день, что и Сталин, только на тринадцать лет позже. Кто-то из литературных критиков утверждал, что Ахматова получила четвертый – и последний – инфаркт, читая в «Правде» статью, посвященную семидесятилетию со дня рождения Жданова. Хотя я не хочу отрицать, что чтение центрального органа КПСС в принципе могло усугубить опасность инфаркта, но тем не менее должен сказать: инфаркт у нее случился еще 10 ноября 1965 года, когда ее срочно пришлось везти в Боткинскую больницу.
Сама Ахматова была твердо убеждена, что самые тяжкие удары судьбы обрушиваются на нее каждый раз в августе месяце. 7 августа 1921 года умер ее кумир, Александр Блок. 25 августа того же года был расстрелян Николай Гумилев. 14 августа 1946 года появилось печально знаменитое Постановление ЦК. 26 августа 1949 года в Фонтанном доме арестовали Николая Пунина; четыре года спустя, 21 августа 1953 года, он скончался в лагере. Лишь два ареста Льва Гумилева, в марте 1938 года и в ноябре 1949-го, выпадают из этой закономерности.
Прежде чем покинуть сферу мистики чисел, назову, в качестве дополнительной отправной точки в исследовании причин «несостоявшейся встречи», еще одну мистическую дату. 14 августа 1956 года, в десятую годовщину публичного предания ее анафеме, Ахматова, находясь на подмосковной даче семьи друзей, Шервинских, написала стихотворение под названием «Сон», которое позже, вместе с другими стихами, включила в цикл «Шиповник цветет». Здесь мы встречаем первое упоминание о том, что в ее жизни произошло нечто исключительное, обладающее судьбоносным значением.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!
Спустя девять дней Лидия Чуковская записала в своем дневнике рассказ Ахматовой об ее телефонном разговоре с Берлиным. Из того же источника мы знаем, что Ахматова и Чуковская встречались 15 или 17 августа, после того как поэтесса вернулась в Москву. Во время этой встречи Ахматова ни словом не упомянула Берлина. На вопрос, хорошо ли она чувствовала себя у Шервинских, поэтесса «с упреком» ответила: «Разве мне может быть где-нибудь хорошо?» «И я увидела, – пишет Чуковская, – какие усталые у нее глаза».
Что же это была за «весть», настигшая ее уже 14 августа? Упомянутое стихотворение, в соответствии со своим названием, говорит о сне. «А мне в ту ночь приснился твой приезд». Что значит – «приснился»? Исайя Берлин вполне реально находился в Москве. Проведя некоторые изыскания, можно даже установить момент, когда его самолет приземлился во Внуковском аэропорту… Однако Ахматова говорит здесь о другом событии.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
Нет сомнений: прибыл кто-то, кто был с ней и до своего прибытия. Чакона Баха, мотив, использованный Ахматовой и прежде, достаточно ясно отсылает нас к тому моменту, когда Гость появился в Фонтанном доме. Да и музыка, Бах или Вивальди, это одна из тех сфер, где Ахматова охотно встретилась бы с тем, кого она всегда ждала.
И вот теперь во сне к ней приходит некто конкретный, с кем она не хочет встретиться наяву.
Возможно, Ахматова как женщина, движимая или тревогой за судьбу сына, или оскорбленной гордостью, или тем и другим вместе, отказалась от встречи с Берлиным. Но как поэтесса она пишет о других чувствах: об отчаянии, о панике.
Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
Подобные мысли приходят в голову нищему, ожидающему в гости богача… А несколькими днями позже, 18 августа, Ахматова пишет так, словно хочет прояснить досадное недоразумение или предупредить горькое разочарование.
Ты выдумал меня. Такой на свете нет,
Такой на свете быть не может.
………………………………………….…….
Мы встретились с тобой в невероятный год,
Когда уже иссякли мира силы,
Все было в трауре, все никло от невзгод,
И были свежи лишь могилы.
………………………………………….…….
Так вот когда тебя мой голос вызывал!
Что делала – сама еще не понимала.
Таким образом, у Ахматовой как у живой, из плоти и крови женщины могли быть аргументы или за, или против встречи с реальным Берлиным; в то же время Ахматова-поэтесса думает о Госте, испытывая, вне всяких сомнений, ужас. Ведь в свое время, утверждает Ахматова, Берлин пришел на их чудесное, историческое свидание по ее зову. Но что могла принести им новая встреча?
Лишь 14 сентября 1956 года, после отъезда Берлина, Ахматова показала Чуковской два процитированные выше стихотворения, пояснив: «Они уже были написаны, когда я вас видела, но я не решилась вам прочесть. И никто мне ничего про них не говорит. Сказали бы хоть вы два слова…» Чуковская послушала и сказала: «Скажу ровно два: великие стихи». – «Не хуже моих молодых?» – «Лучше».
Ахматова, таким образом, получила точно такой ответ, который хотела услышать. Исполнилось ее наивное желание: удостоиться за эти два стихотворения самой большой похвалы, причем из уст такого знатока поэзии. Но почему она заставила себя так долго ждать столь желаемого признания? И почему пыталась сначала добиться его у других читателей, которые к этим стихам, вырвавшимся из самой глубины сердца, могли бы прицепить, как блестящие побрякушки, разве что стандартное «замечательно!» или вежливое «бесподобно!»? Вернее, зачем ей понадобилось сначала (23 августа) сообщить о факте «несостоявшейся встречи», а уж потом, через три недели, прочитать связанные с этой «невстречей», но написанные раньше стихи? Я думаю, объясняется это тем, что в момент создания этих двух стихотворений, то есть 14 и 18 августа, она уже знала, что Исайя Берлин находится в Москве, но еще не приняла окончательного решения в связи с этим. То есть ей не хотелось, чтобы Чуковская, посвященная во все ее переживания, узнала о ее колебаниях и метаниях и, не дай Бог, не повлияла бы на решение, склонив ее в ту или иную сторону.
Само это понятие – «несостоявшаяся встреча», «невстреча» – возникло лишь после телефонного разговора с Берлиным. И уже тогда обрело – что характерно для Ахматовой – эпитет «таинственная».
Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Трудно избавиться от подозрения, что поэтесса, давая волю «радостным» слезам, и в самом деле испытывала что-то вроде торжества: ведь она одержала победу над собой. Несостоявшаяся встреча потому и стала таинственной, что спрятала в себе тайну Ахматовой. Поэтесса поступила с «Гостем из будущего», как государство, в котором она жила, поступало со стратегического значения предприятиями и людьми, работавшими на них: оно засекречивало их, объявляло «совершенно секретными». В написанной позже статье («Проза о поэме», 1961) Ахматова подтвердила этот статус: «Таинственный „Гость из будущего“, вероятно, предпочтет остаться неназванным…» Это – не пожелание, а повеление.
В то же время Ахматова, конечно, мечтала о как можно более тесных отношениях с Берлиным. У нее появляется даже мотив супружества; правда, в отрицательной форме. «Он не станет мне милым мужем», – написала она в третьем посвящении к «Поэме без героя». А в недавно обнаруженной строфе, изначально относившейся к стихотворению «Во сне» (написанному в 1946 году – не путать со «Сном», созданным десять лет спустя), но потом вычеркнутой в рукописи, она высказывается еще яснее:
Мы с тобою, друг мой, не разделим
То, что разделить велел нам Бог,
Мы с тобою скатерть не расстелем,
Не поставим на нее пирог.
Я убежден, что Ахматова и в ноябре 1945 года в принципе не отвергала мысль о браке с Берлиным, не видела в ней чего-то абсурдного и фантастического. Об этом, кстати, свидетельствует и ее разочарованная реплика, когда она узнала о его женитьбе («Он женился только в прошлом году»[5]5
В пересказе Л. Чуковской.
[Закрыть].) – словно до этого она надеялась, что встреча будет носить совсем другой характер. Воображение ведь не знает ни сословных условностей, ни государственных границ. В мире своих снов, в мире мечты Ахматова просто жила так, как чувствовала. И уж менее всего ее пугала разница в возрасте, которую она вообще воспринимала как космическую случайность: об этом свидетельствует хотя бы написанное в семидесятипятилетнем возрасте – и обращенное, разумеется, к Берлину – любовное стихотворение:
Мы по ошибке встретили год —
Это не тот, не тот, не тот…
Что мы наделали, Боже, с тобой,
С кем еще мы поменялись судьбой?
Лучше б нас не было на земле,
Лучше б мы были в небесном кремле,
Летали, как птицы, цвели, как цветы,
Но все равно были – я и ты.
На таком уровне одухотворенности любовь не подчиняется власти земных сил; тут был бессилен даже Сталин. Напротив, Исайя Берлин, явись он в телесном своем воплощении, очевидно, нарушил бы трансцендентную связь с ним. Вот почему в августе 1956 года Ахматова сослала его в мир снов. Возможно, ее занимала не столько даже любовь, сколько право на собственную трагедию. Реальное свидание лишило бы ситуацию трагизма, перевело бы греческую драму рока в банальный, хотя и доставляющий боль исторический эпизод.
Цена же такой связи была очень высокой. Ахматова еще годы ждала мистической весточки (1958):
Позвони мне хотя бы сегодня,
Ведь ты все-таки где-нибудь есть,
А я стала безродных безродней
И не слышу крылатую весть.
Я уже говорил: Ахматова, среди прочего, опасалась, что ее новая встреча с сэром Исаией Берлиным может повредить Льву Гумилеву; правда, я же и оговорился, что в 1956 году реальность такой опасности была незначительной. Ведь отмена амнистии, хотя бы в отношении одного человека, сразу после ее объявления, шла бы вразрез с курсом XX съезда КПСС.
У Ахматовой, однако, было и других проблем по горло. Договоры на переводы в условиях советского книгоиздательства означали довольно высокий, но нерегулярный заработок. Ахматова всем сердцем ненавидела эту работу, тем более что ей поручали переводить в основном китайские, корейские, румынские, болгарские стихи, и работать она вынуждена была с подстрочниками. Однако без этих гонораров ей пришлось бы жить в таких же нищенских условиях, как большинству советских пенсионеров.
Потенциально еще сильнее давило на нее то, не совсем уже нереальное обстоятельство, что в принципе она могла публиковаться в журналах; в ближайшем будущем даже брезжил новый сборник стихов. Чтобы показать, насколько трудным и призрачным было такое предприятие, упомяну лишь, что Ахматова сдала рукопись сборника в издательство 21 октября 1953 года, но тоненькая книжечка под названием «Стихотворения» увидела свет лишь 5 ноября 1958 года.
Такой невероятно долгий срок издательской подготовки объяснялся не только сверхнедоверчивой цензурой, за каждой печатной строчкой вынюхивавшей антисоветские помыслы, но и непроясненным писательским статусом Ахматовой. Новая официальная позиция, связанная с ее персоной, все никак не могла определиться. Попросту говоря, вопрос об Ахматовой был частью проблемы Жданова. Для того чтобы поэтесса обрела хотя бы тот статус, который был у нее до августа 1946 года, нужно было пересмотреть Постановление ЦК, отмеченное именем Жданова.
Доживи Андрей Жданов до XX съезда КПСС, он, скорее всего, протестовал бы против произнесенного Хрущевым секретного доклада (такое предположение можно сделать, помня об исключительной преданности Жданова Хозяину), и тогда его вывели бы из Политбюро, а то и исключили бы из партии, как позже – Молотова и Кагановича. В этом случае бывшие соратники с легкой душой свалили бы на него все ошибки прежней культурной политики, и Анна Ахматова (при условии, что сохранит лояльность режиму) вернула бы себе если не прежнюю славу, то хотя бы официальное признание. Однако покойный Жданов относился к неприкасаемому фонду советской идеологии, освободиться от которого было труднее, чем от самого Сталина.
Особенно нервно реагировало новое советское руководство на всякого рода попытки придать трагическим событиям сталинской эпохи принципиальный смысл, то есть увидеть в них нечто большее, чем историческую случайность или следствие капризной натуры диктатора. Когда Пальмиро Тольятти, лидер итальянских коммунистов, в июне 1956 года в интервью, данном журналу «Нуови аргументи», заговорил, в связи с Большим террором, о «некоторых формах перерождения» советского общества – «Правда» незамедлительно ответила на это, опубликовав гневное решение ЦК. С таким же возмущением советское руководство отвергло предложение югославских коммунистов осудить сталинские теорию и практику как «сталинизм».
Не пользовалась этим термином и критически настроенная советская интеллигенция: она употребляла слово с архаическим суффиксом – «сталинщина». Звучало оно примерно так, как если бы в Германии кто-нибудь сказал «Hitlerei»; однако семантика русского слова уходит глубже. Все прежние понятия в русской истории, снабженные этим суффиксом (как, например, «аракчеевщина», слово, образованное от фамилии сурового временщика и ставшее синонимом тупого преследования всякого свободомыслия), звучали с оттенком насмешки, даже издевки, так что понятие «сталинщина» плохо сочеталось с официальной линией партийной верхушки, пытавшейся найти золотую середину между «ошибками» и «заслугами» Сталина.
Когда Назым Хикмет, турецкий поэт, живущий в Москве, 15 июня 1956 года на собрании Союза писателей СССР впервые назвал культурную политику конца 40 – начала 50-х годов «ждановщиной», он встретил жесткий отпор со стороны писателей, верных режиму. Среди немногих, кто его поддержал, была Ольга Берггольц, ленинградская поэтесса, близкая подруга Ахматовой. Будучи членом партии, она должна была тщательно выбирать слова, но содержание ее выступления не оставляло сомнений.
«Считаю, что одной из основных причин, которые давят на нас и мешают движению вперед, являются те догматические постановления, которые были приняты в 1946–1948 годах по вопросам искусства… Давайте, товарищи, говорить о них теперь с полной откровенностью. Почему – теперь? Потому что именно теперь, после XX съезда, после доклада тов. Хрущева о культе личности, нам ясно, что эти постановления были выражением личных вкусов Сталина, то есть были порождены исключительно культом личности».
Партийное руководство забеспокоилось, но пойти на открытую дискуссию не отважилось, опасаясь вызвать выражения симпатии к литераторам, которые стали объектом преследований. Поэтому, например, чиновник от литературы Б. Рюриков, ополчившись против Ольги Берггольц в «Правде», не назвал ее по имени. «Нашлись отдельные литераторы, – писал он в конце августа 1956-го, – которые пытались представить как утратившие силу известные решения ЦК партии по вопросам литературы и искусства. Решения партии направлены против отрыва от жизни народа, от политических задач современности, против забвения общественно-преобразующей роли искусства – и это принципиальное содержание партийных документов мы будем отстаивать в интересах развития литературы».
Специфика формализованного партийного языка (новояза) заключалась в том, что ни используемые выражения, ни умолчания отнюдь не были произвольными, случайными. Если Рюриков в первой фразе говорит о «литературе и искусстве», а во второй – только об искусстве, это признак того, что к этому моменту партия стала немного более терпимой по отношению к невербальным видам искусства. И действительно, Постановление от 10 февраля 1948 года, ставшее своего рода лебединой песней Жданова, спустя десять лет другим решением ЦК – expressis verbis[6]6
Определенно, недвусмысленно (лат.).
[Закрыть] – отменили.
Чем можно объяснить такое великодушие? Большинство советских партийных документов представляет собой смесь иррациональных иллюзий и рациональных страхов. Пример здесь – хотя бы Постановление, направленное против советских композиторов, в том числе Шостаковича, Хачатуряна, Прокофьева и Мурадели. Разгромное выступление Жданова против оперы Мурадели «Большая дружба» я уже цитировал, приводя ставшие почти классическими фразы, в которых Жданов проявляет недовольство, что в опере не полностью использованы возможности оркестра и певцов московского Большого театра, и завершает все это словами: «Нельзя обеднять искусство».
Но, кроме подобных вопиющих глупостей, критика Жданова содержала и нечто такое, что в полной мере отвечало высшим государственным интересам. «Опера занимается созданием дружбы народов Северного Кавказа в 1918–1920 годах. Народы гор – среди которых опера занимается осетинами, лезгинами и грузинами <…>, прекращают борьбу против русского народа и особенно против казачества, заключают с ними мир и дружбу. Историческая ложь кроется в том, что эти народы не были (курсив А. Жданова. – Д. Д.) врагами русского народа. <…> Препятствовали дружбе народов на Северном Кавказе тогда чеченцы и ингуши».
Как мы знаем, осенью 1944 года советское правительство решительно устранило все «препятствия», мешавшие дружбе народов. Два народа, чеченцы и ингуши, были вывезены в Сибирь; жалкие остатки их смогли вернуться на родину лишь в 1956 году. Грозный, Буденновск, Первомайское и многие другие названия населенных пунктов – все это кровавые свидетельства того, что подобная половинчатая реабилитация принесла на Кавказ что угодно, только не «великую дружбу». Однако тогда, в 1956 году, проблема с советской точки зрения казалась решенной, а тем самым и речь Жданова, и без того не слишком-то богатая глубокими мыслями, утратила свою актуальность. Как сказал бы Оскар Уайльд, жизнь последовала за искусством – или, в данном случае, за официальной художественной критикой.
По-иному обстояло дело с решениями, относящимися к литературе. Высказанные Ждановым тезисы содержали, если не считать примитивной глупости и невежества, и многое из ленинских мыслей об искусстве. Во-первых, еще Ленин считал, что литература, даже в большей мере, чем искусство вообще, должно обслуживать идеологию. Во-вторых, тогдашние постановления были обращены своим острием против такого врага, образ которого не утратил с точки зрения официальной идеологии своей актуальности вплоть до конца 80-х годов. Ведь борьба против того, что в разные моменты называлось то «буржуазным декадансом», то «космополитизмом», то «преклонением перед Западом», шла всегда, и нагляднее всего эти пороки можно было выявить и заклеймить именно в письменных текстах.
Осуждение массовых репрессий и казней сталинской эпохи подразумевало обещание, что ужасы эти никогда больше не повторятся. И хозяева Кремля, несмотря на свою неодолимую тягу к насилию, после 1956 года в общем старались выполнять это обещание. В то же время на XX съезде КПСС не прозвучало принципиального несогласия с теми методами политического и морального подавления, жертвами которых стали Зощенко и Ахматова. Будь такое несогласие высказано, оно означало бы, что партия навсегда отказывается от публичного шельмования писателей, от запретов на публикацию и других, доказавших свою эффективность способов воздействия. Однако на такие уступки советские коммунисты пойти были не способны.
Уже некоторая степень легализации критических взглядов на систему, эвфемистически названную «культом личности», повела к тому, что в сфере культуры высвободились запасы оппозиционной энергии. Об этом свидетельствует, например, секретная справка отдела культуры ЦК КПСС от 1 декабря 1956 года «О некоторых вопросах современной литературы и о фактах неправильных настроений среди части писателей».
«Недавно на филологическом факультете МГУ была выпущена стенгазета, которая заполнена безудержным восхвалением трех „величайших“ поэтов нашей эпохи – Пастернака, Цветаевой и Ахматовой. Характерно, что никто из преподавателей-коммунистов не нашел в себе смелости открыто выступить против этих уродливых пристрастий студентов-филологов, раскритиковать и высмеять их дурные вкусы».
Растущая тревога высших инстанций становится понятной, если обратить внимание на дату справки: незадолго до этого части Советской армии вошли в Венгрию, чтобы подавить народное восстание, которое не в последнюю очередь было подготовлено именно писателями. Беспокойство в литературе воспринималось как симптом общей опасности, и осторожность представлялась вполне уместной.
Здесь следует видеть причину того, что официальные инстанции впервые – хотя пока и под грифом «Секретно» – начали в какой-то мере пересматривать взгляды Жданова. «В постановлении о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ есть неверные и нуждающиеся в уточнении оценки и характеристики, связанные с проявлением культа личности в методах руководства литературой и искусством в прошлые годы. В оценках отдельных (каких именно, не указывается. – Д. Д.) произведений литературы, музыки и кино иногда допускались ненужная регламентация, административный тон, окрик и грубость в отношении авторов (здесь тоже нет конкретных имен. – Д. Д.), имевших ошибки в своем творчестве».
В цитируемой справке, как и во многих других идеологических документах, одни положения нейтрализуются или искажаются другими, которые соседствуют с ними. Ждановизм подвергается критике словно бы для того только, чтобы одновременно обозначить и границы этой критики. «Однако основное содержание постановлений ЦК о журналах „Звезда“ и „Ленинград“ и о репертуаре драматических театров совершенно правильно и в важнейших своих положениях сохраняет свое значение и сегодня. Борьба за высокую идейность литературы, против аполитичности, безыдейности, пессимизма, низкопоклонства, призыв глубже изучать жизнь советских людей, запросы народа, освещать коренные вопросы современности, воспитывать средствами искусства нашу молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной Родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся трудностей, – все это было и остается важнейшей задачей деятелей литературы и искусства».
Таким образом, ни факт отлучения Анны Ахматовой от советской литературы, ни методы, какими совершались подобные вещи, в сущности, не были аннулированы. Правда, стихи ее теперь снова могли публиковаться, но любой цензор, рецензент или редактор имел право отвергнуть их, сославшись на Постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», Постановление о журналах, один из которых давно следовал правильным курсом партии, а второй десять лет как прекратил свое существование.