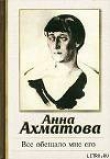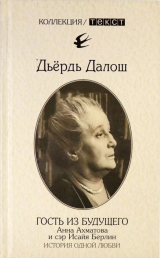
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Дьёрдь Далош
ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО
Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин
История одной любви
РОССИЙСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Над этой книгой я работал в 1996 году; в 1997-м она была издана по-немецки, спустя год – по-венгерски. С тех пор ахматоведение существенно продвинулось вперед; многие документы, которые в 90-х годах были практически недоступны, сегодня свободно висят в Интернете. И все-таки я решил не переписывать книгу. Меня успокаивал тот факт, что нынешний уровень знаний хотя бы в одном отношении остался прежним: я имею в виду представление о тех медленных, мучительных изменениях, которые происходили в советской культурной политике после 1953 года. Сейчас изменения эти не кажутся такими уж важными, но в свое время они выглядели почти невероятными. Взять хотя бы то обстоятельство, что в 60-е годы снова стало возможным произносить вслух имена Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Михаила Зощенко, Даниила Хармса и других – имена, до тех пор бывшие под запретом. Если бы в тот период не случилось ничего другого, все равно он заслуживает самого пристального внимания. Но тогда шел и гораздо более важный процесс: начиналась реабилитация дореволюционной русской литературы, – не столько даже в политическом смысле, сколько в плане, так сказать, ментально-психологическом. Так человеческий организм стремится восстановить свою жизнеспособность после продолжительной комы.
Хочу еще раз поблагодарить всех авторов, писавших об Анне Ахматовой, на которых я ссылаюсь и цитирую. Их трудно перечислить; назову здесь лишь прекрасного поэта, писателя, переводчика Анатолия Наймана, чья книга об Ахматовой очень помогла мне в моей работе. Благодарю также за помощь в подготовке русского издания Габриеля Суперфина, сотрудника Бременского научно-исследовательского института Восточной Европы.
Дьёрдь Далош
ПРЕДИСЛОВИЕ
В этой книге я излагаю историю одной ночи – ночи, которую Исайя Берлин провел в гостях у Анны Ахматовой. И рассказываю о том, какие роковые последствия – главным образом для поэтессы – имела эта встреча. Книга моя – история любви, история того, как эта любовь становится своего рода маяком, высветившим смысл бесчисленных испытаний, которые выпали на долю Ахматовой как в предыдущие, так и в последующие годы. А поскольку отношения между Ахматовой и Берлиным привлекли к себе пристальное внимание спецслужб, то история эта становится в значительной мере фокусом, в котором сосредоточились столь многие обыденные и абсурдные стороны советской действительности, в том числе – запутанный механизм взаимоотношений между властью и литературой.
Таким образом, я не предлагаю читателю биографию Анны Ахматовой; не нужно воспринимать мою книгу и как литературоведческое исследование. И уж тем более не являются предметом моего рассмотрения жизнь и творчество Исайи Берлина: я не философ, чтобы должным образом оценить его вклад в науку. К Берлину я подхожу с точки зрения писателя, глядя на него через призму жизни и поэзии Анны Ахматовой. Да, ночная их встреча и для Берлина была важной – но вовсе не судьбоносной; в то время как для Ахматовой та ночь оказалась едва ли не роковой.
В шестидесятые годы, когда я был молодым поэтом и учился в Московском университете, мне доводилось читать какие-то из доступных тогда стихов Ахматовой; конечно, знал я и о печально известном августовском Постановлении 1946 года, чреватом столь тяжкими последствиями для литературы, и о докладе Жданова, публично заклеймившего поэтессу как «не то монахиню, не то блудницу». Партийный идеолог никакого особого интереса у меня не вызывал: для этого я слишком был уже погружен в литературу; но стихи Ахматовой тоже не оставили в моей душе глубокого следа. Магическую власть ее поэтической речи я научился ценить лишь спустя полтора десятилетия, однако ее виртуозное стихотворческое мастерство и тогда еще оставалось для меня недоступным. Ахматова, чувствовал я в те годы, не притягивает меня – скорее отталкивает.
Английским я не владею, поэтому об Исайе Берлине услышал впервые лишь в 1989 году, когда его работы стали переводить в Восточной Европе. Английский философ, вроде довольно значительный, то ли еще жив, то ли уже умер…
Летом 1975 года я познакомился с Лидией Корнеевной Чуковской. Случилось это в Переделкине, в писательском поселке. К тому времени за свои смелые выступления в защиту преследуемых соратников по перу пожилая дама была уже вытеснена на периферию литературной жизни. Разговаривали мы всего несколько минут, но она успела рассказать о том, что ее особенно терзало тогда: зрение у нее быстро слабеет и она опасается, что сослепу пожмет руку кому-нибудь из тех, кто участвовал в травле Солженицына и Сахарова. И еще она сообщила, что работает над заметками об Анне Ахматовой.
В те годы я уже был писателем-диссидентом: это был мой, пускай несколько запоздавший, период Sturm und Drang’а. Мир моих чувств и симпатий все больше отдалял меня от Советского Союза в его официальной ипостаси. Моя политическая деятельность была связана с Венгрией и Центральной Европой, как писатель я все прочнее уходил в немецкоязычную среду. И в то же время я ощущал в душе нечто вроде угрызений совести по отношению к русской культуре, к России как к стране и вообще к русским; я словно бы что-то задолжал им. Ведь в России, в Москве, я провел лучшую часть своей молодости, узнал там немало искренних, с горячим сердцем людей. С Россией меня связывает много личных воспоминаний, я до сих пор с интересом слежу за ее историей, за ее жизнью.
Но я испытывал и ностальгию иного рода – по тем годам, когда я сам был начинающим поэтом. Не сказать, что мне так уж нравятся мои тогдашние литературные свершения: глядя сегодняшними глазами, оценить их можно лишь очень скромно. Дело в другом: я с некоторой тоской и завистью вспоминал себя, самоуверенного гимназиста, мечтавшего встать в один ряд с великими. Мне хотелось в зрелом возрасте так же упиваться стихами, так же спорить о поэзии, как это делал тот семнадцатилетний юнец, – и не ради того, чтобы выглядеть умным и культурным, а просто потому, что без поэзии невозможно было существовать.
Весной 1993 года я участвовал в семинаре «Госбезопасность и литература»; он состоялся в Москве и был организован Фондом Генриха Бёлля совместно с Библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино и Немецким культурным центром им. Гёте в Москве. Генерал-майор КГБ в отставке Олег Калугин выступил на семинаре с докладом о досье, которое в органах завели на Анну Ахматову. Упомянул он и о визите Берлина. Правда, где-то в это же время досье, содержавшее, по слухам, около 900 листов, бесследно исчезло; не удивлюсь, если рано или поздно оно всплывет в Америке, на черном рынке архивных материалов. Экс-генерал, кроме как в прочитанном на семинаре докладе, этой темой, похоже, больше не занимался. В его воспоминаниях (они вышли в 1995 году), многословных, но довольно пустых, имя Ахматовой вообще не встречается. Однако те цитаты из секретных документов, которые Калугин привел в своем докладе, зацепили мое внимание.
Я заглянул в последнее, уже без цензуры, русское издание Ахматовой, ища там стихи, связанные с Гостем из будущего – так Ахматова величает Берлина в «Поэме без героя». И тут слова, которые я давно знал – или думал, что знаю, – странным образом заискрились. Они обрели необычный вес и совершенно новое значение. Нечто странное произошло и со мной: из человека, читавшего стихи Ахматовой от случая к случаю, я превратился в читателя страстного, завороженного ее поэзией.
Эту книгу я писал, опираясь на архивные документы, воспоминания современников, а также на личные беседы с разными людьми. Например, я долго разговаривал с Лидией Чуковской незадолго до ее кончины, последовавшей в январе 1996 года. Консультировался по телефону с Эммой Герштейн и Анатолием Найманом. Ездил в Англию, чтобы задать несколько вопросов сэру Исайе Берлину в связи с его книгой «Личные впечатления» («Personal Impressions»). Особенно много значила для меня беседа с профессором Гарри Шукманом, который весной 1954 года в составе английской студенческой делегации побывал в Ленинграде и встречался с Анной Ахматовой. В московских разысканиях, в интервью, которые я брал в Оксфорде и Лондоне, а также в обработке собранных материалов мне помогала Андреа Дунаи.
Со словами благодарности за помощь и советы я обращаюсь к следующим людям:
Саймону Бейли, Оксфорд,
сэру Исайе Берлину, Оксфорд,
Ирине Бойко, Черновцы,
Елене Чуковской, Москва,
Лидии Чуковской, Москва,
Эмме Герштейн, Москва,
Генри Харди, Оксфорд,
Майклу Игнатьеву, Лондон,
Людмиле Карачкиной, Симферополь,
Льву Копелеву, Кёльн,
Геннадию Костырченко, Москва,
Анатолию Найману, Москва,
Хеннингу Риттеру, Франкфурт-на-Майне,
Людмиле Журавлевой, Симферополь,
Гарри Шукману, Оксфорд,
Жужанне Жохар, Лондон.
ВСТРЕЧА
Исайя Берлин не был профессиональным дипломатом. Перед войной он учился в Оксфордском университете, а когда закончил учебу, стал там же доцентом. В 30-е годы он написал монографию о Марксе, которая обеспечила ему известность в научном мире. В годы войны работал в британской службе информации в Нью-Йорке. Позже получил задание составлять для посольства Великобритании в Вашингтоне сводки о состоянии общественного мнения в США.
Во время войны Соединенному Королевству пригодились аналитические способности Исайи Берлина, после войны же оказались востребованными его прекрасное знание русского языка и знакомство с русскими реалиями. Сэр Исайя Берлин, в 50-е годы ставший в Оксфорде профессором социальной философии и истории идей, появился на свет в Риге в 1909 году как Исай Менделевич Берлин, сын русско-еврейского лесоторговца. Детство он провел в Санкт-Петербурге. После Октябрьской революции семья перебралась в независимую Латвию, откуда уехала в Англию; но юный Берлин сохранил о городе, где он рос, прочные и яркие воспоминания. Очевидно, глубокое изучение русских классиков тоже в немалой степени способствовало тому, что он никогда не забывал родной язык и говорил на нем без акцента. Я познакомился с ним – это было в Лондоне – в августе 1995 года и в его речи расслышал даже следы московского жаргона 90-х годов.
Когда у Берлина появилась возможность поступить на дипломатическую службу на родине, он был приятно взволнован. «Подобно чеховским трем сестрам, я твержу про себя: „В Москву, в Москву“, – пишет он 12 мая 1945 года из Вашингтона другу, британскому дипломату. – Один Господь знает, сколь долгим окажется это назначение. Скорее всего, мои ожидания, что жизнь там будет очень уж интересной, преувеличены. Я укладываю в чемоданы все, что можно увезти с собой на самолете, чтобы и там иметь возможность жить цивилизованно. Везу средства от насекомых, крем для обуви и Бог знает, что еще».
Жизнь дипломата в советской столице – 35-летний Исайя Берлин получил должность второго секретаря посольства Великобритании – оказалась не просто цивилизованной, но прямо-таки комфортной. Вскоре после приезда в Москву Берлин отмечал это в нескольких письмах. «Питание – отменное, театры – переполнены», – писал он 19 сентября 1945 года. Он слушал в Большом театре «Евгения Онегина» Чайковского, «свел тесное знакомство» с русским грибным супом и пирогами. Судя по письму от 11 октября, гастрономические и культурные впечатления превратились для него едва ли не в way of life[1]1
Образ жизни (англ.). (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть]: «Чуть ли не каждый вечер я в театре, в одиннадцать ем горячий борщ, до постели добираюсь лишь в половине двенадцатого <…> Потрясает все. Разговоры на улице, а особенно в театре. Я уж и забыл, что можно испытывать столько чувств и переживаний».
В конечном счете он вновь открывал для себя родину – этим в значительной мере и объясняется его восторженное мироощущение. Многие кулинарные удовольствия пробуждали в нем воспоминания детства, а на московских сценах оживали образы прочитанных когда-то русских классиков. Подслушанные на улице разговоры, песня марширующих солдат, монолог горничной, которая прибиралась в квартире, – все свидетельствовало о том, что, хотя этот мир чужд ему, неразрывные нити языка связывают его с ним теснее, чем он мог предполагать.
В то же время в нем не угасала страсть книголюба; среди прочего именно это побудило его планировать на сентябрь поездку в Ленинград. «Я слышал, что книги в ленинградских магазинах <…> стоят много дешевле, чем в московских; из-за ужасающей смертности во время блокады города и возможности поменять книгу на пищу, книги, особенно принадлежавшие старой интеллигенции, потоком хлынули в государственные магазины. <…> Я поехал бы в Ленинград в любом случае, потому что сгорал от нетерпения вновь увидеть город, в котором провел четыре детских года; книжная приманка прибавляла желания»[2]2
Здесь и далее воспоминания Исайи Берлина о встрече с Анной Ахматовой даны в переводе А. Наймана.
[Закрыть].
Ленинград обещал Берлину такие же развлекательные программы, как и Москва. Ему уже были заказаны билеты на «Спящую красавицу» Чайковского, на незадолго до того реабилитированную, проникнутую национальным духом оперу Глинки «Иван Сусанин» (прежнее название – «Жизнь за царя»), на балет армянского композитора Арама Хачатуряна «Гаянэ»: все эти спектакли составляли репертуар, едва ли не обязательный для иностранных гостей. Берлина поселили в фешенебельной гостинице «Астория», русская кухня которой наверняка не вызвала у него разочарования. Его спутница по ленинградской поездке, мисс Бренда Трипп, специалист по органической химии, также обладала статусом дипломата: она представляла в Советском Союзе Британский совет, международный британский культурный институт (British Council).
Контакты с советскими писателями в перечне дипломатических обязанностей Берлина изначально не предусматривались: его скорее готовили к общению с рядовыми аппаратчиками. Однако, направляясь в Советский Союз, он получил одно частное поручение. Две сестры Бориса Пастернака, которые жили в Англии, узнав, что Берлин собирается в Москву, попросили его отвезти брату теплые сапоги.
Поручение это и для самого Берлина оказалось в высшей степени полезным: в лице Пастернака он обрел настоящего друга. Кроме того, на дипломатических приемах он между делом познакомился и с другими известными представителями советской интеллигенции, например с кинорежиссером Сергеем Эйзенштейном, популярным детским поэтом и переводчиком английской поэзии Самуилом Маршаком.
Морис Баура, профессор Оксфордского университета, издатель стихов Анны Ахматовой в Англии, тоже проявил интерес к поездке Берлина в Россию. В их переписке часто шла речь о крупных фигурах русской поэзии. «Я почти уверен, что Мандельштама нет в живых, – писал Баура летом 1945 года. – И умер он, вероятно, от голода: за нелояльные стихи ему не выдали продовольственные карточки. А что там с Ахматовой? Говорят, она живет в Ленинграде». Берлин, отвечая коллеге, сообщил то немногое, что ему удалось узнать в первое время: «Ахматова живет в Ленинграде. Ходят слухи, что у нее за спиной тяжелые годы, и в этом вина не только фашистских дикарей». То обстоятельство, что даже Баура, лучший тогдашний знаток русской литературы на Западе, обладал такой скудной и недостоверной информацией, очень много говорит о самом строгом в современной истории информационном фильтре – «железном занавесе». Ведь к тому времени Осип Мандельштам уже семь лет как был мертв.
В начале 80-х годов Исайя Берлин издал книгу «Личные впечатления», в которую вошли его воспоминания о встречах с русскими писателями. Здесь он рассказывает, как, придя с Брендой Трипп в Книжную лавку писателей на Невском проспекте, разговорился там с человеком, листавшим какой-то стихотворный сборник. Человек этот оказался Владимиром Орловым, редактором готовящегося к изданию сборника стихов Ахматовой. Разговор зашел об ужасных испытаниях, выпавших на долю ленинградцев в годы блокады; Берлин спросил о судьбе ленинградских писателей. «Вы имеете в виду Зощенко и Ахматову?» – сказал Орлов, словно из двухсот членов местного отделения Союза писателей больше никто не был достоин упоминания. «„Ахматова жива?“ – спросил я. „Ахматова, Анна Андреевна? Ну да, естественно, она живет недалеко отсюда, в Фонтанном доме. Хотите встретиться с ней?“ Это было, как если бы меня пригласили встретиться с Кристиной Росетти. Я едва мог говорить: я пробормотал, что конечно же хотел бы встретиться с ней».
Орлов тут же пошел звонить Ахматовой и, вернувшись, сообщил: поэтесса ждет английского дипломата в три часа. Бренда Трипп не могла с ним пойти: у нее были запланированы какие-то дела. Так что Берлин и Орлов отправились из Книжной лавки вдвоем. Мы «повернули налево, – рассказывает Берлин, – перешли Аничков мост и повернули опять налево, по набережной Фонтанки». Вскоре они подошли к дому 34, который был когда-то дворцом графов Шереметевых, а теперь назывался Фонтанным домом. «Мы поднялись по крутой, темной лестнице на верхний этаж и были допущены в комнату Ахматовой».
Кристина Росетти (1830–1894) – английская поэтесса викторианской эпохи, известная своими полными мистических аллегорий стихами. Впрочем, потомство помнило о ней скорее как о младшей сестре Данте Габриеля Росетти (1828–1882), который был куда более знаменит. К тому времени, когда Исайя Берлин приехал в СССР, оба Росетти, и брат, и сестра, давно стали, что называется, фактом истории литературы. Что же касается жительницы дома 34 на Фонтанке, Анны Ахматовой, то она была очень даже жива и притом знаменита; знаменита в том печальном смысле этого слова, какой стал для него обычен в условиях диктаторских режимов Восточной Европы.
Родившись в 1889 году, Ахматова уже к концу первого десятилетия XX века вошла в число самых известных поэтов России. Вместе с мужем, Николаем Гумилевым, она возглавила поэтическую школу акмеизма (от греческого «акмэ» – острие), нацеленную на то, чтобы с помощью точных образов и чистых понятий преодолеть туманность, потусторонность символизма. Напомним, что одной из центральных фигур символизма был Александр Блок, поэт, высоко ценимый и горячо любимый Ахматовой.
Анна Ахматова была свидетельницей и активной участницей того недолгого, но блистательного расцвета русской поэзии, который позже получил название Серебряный век. Родившись в семье офицера, проведя детство и юность в Царском Селе, она с головой погрузилась в литературную жизнь Санкт-Петербурга и Москвы. Незадолго до Первой мировой войны Ахматова и Гумилев побывали в нескольких странах Западной Европы. В Париже у Ахматовой завязались близкие отношения с итальянским художником Амедео Модильяни.
Конец Серебряному веку положила Первая мировая война; затем последовали крах империи и установление власти «советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», или «советской власти», которая переродилась в диктатуру коммунистической партии.
В большой политике Анна Ахматова не очень разбиралась. После 1917 года она продолжала писать и публиковать стихи, воспитывала сына Льва, родившегося в 1912 году, и жила в своего рода свободном браке с Гумилевым. Правда, в 1918 году они разошлись, сохранив дружеские отношения. Несколько лет она была замужем за шумерологом Владимиром Шилейко. Главной ее заботой в этот период, в условиях безвременья и разрухи, были поиски средств для существования. Чтобы заработать на жизнь, она какое-то время служила в библиотеке Петроградского агрономического института.
В 1921 году в жизни Анны Ахматовой произошли драматические события. В августе Чека арестовала Николая Гумилева; после недолгого закрытого судебного разбирательства Гумилев – в числе шестидесяти участников так называемого заговора Таганцева – был расстрелян. Обнаруженные в последнее время документы не подтверждают факта активного участия Гумилева в заговоре, да и существование самого заговора – вопрос весьма сомнительный. Достоверно установлено лишь, что Гумилев передал какую-то небольшую сумму денег Владимиру Таганцеву, петербургскому профессору, известному своими антибольшевистскими взглядами, на поддержку печатания оппозиционных материалов. Известно также, что Гумилев и сам открыто критиковал большевиков; подобная позиция не была редкостью в среде русской интеллигенции, но в те годы еще не влекла за собой немедленных репрессий.
Арест и казнь Гумилева совпали с другим мрачным событием: 7 августа 1921 года умер Александр Блок. Причинами его безвременной смерти стали голод, болезнь, острая тревога за судьбу России; вероятно, сыграло роль и то обстоятельство, что ему отказали в просьбе выдать паспорт для поездки в Финляндию на лечение. Ахматова потеряла сразу двух очень важных в ее жизни мужчин. От этого потрясения она так и не смогла никогда оправиться до конца. Первым следствием стал сильный спад ее «поэтической продуктивности»: с 1922 по 1935 год, за четырнадцать лет, она написала меньше, чем за один только 1921 год. Однако утверждение, будто в 20–30-х годах она «замолчала», как считали ее литературные недоброжелатели, не соответствует действительности.
Хотя к тому моменту, когда Гумилев был расстрелян, Ахматова уже несколько лет состояла в разводе с ним и ей самой никаких политических обвинений предъявить было невозможно, «тень» бывшего мужа преследовала ее еще долго. В 1918 году она вышла замуж за Владимира Шилейко, потом, двенадцать лет, была женой искусствоведа Николая Пунина; однако в глазах властей и особенно в глазах тех, кто нес ответственность за расправу над поэтом, она так и осталась вдовой Гумилева. Тем более что она самоотверженно пеклась о его творческом наследии, да и вообще никогда не отрекалась от своей духовной общности с ним.
Для руководства советской культурной политики Ахматова всегда представляла собой непростую проблему. Правда, сегодня уже трудно проверить, действительно ли в 1925 году появилось специальное секретное решение ЦК о запрете на публикацию ее стихов, – так считали некоторые современники, да и сама она была в этом уверена. Косвенным свидетельством в пользу подобного предположения может служить тот факт, что следующий ее сборник, «Из шести книг», вышел лишь летом 1940 года – и вскоре был изъят из книжных магазинов; в Союз писателей ее тоже приняли только в 1940 году. Вместе с тем в 1925 году подобные решения – во всяком случае, касающиеся конкретных авторов – едва ли уже были в практике.
Как писатель Ахматова на протяжении 20–30-х годов находилась почти в полной изоляции, отношения с ней поддерживали лишь несколько литераторов, которые, подобно ей, или обретались на задворках литературной жизни, или относились к числу отверженных. На периферии ютился, например, Борис Пастернак; среди отверженных нужно упомянуть прежде всего Осипа Мандельштама. В то же время Ахматова, хотя и не появлялась в печати, оставалась довольно известной, и нет никаких свидетельств того, что ее когда-либо собирались арестовать и тем более судить. Власти сквозь пальцы смотрели даже на то, что в 1936 году она навестила Мандельштама, сосланного в Воронеж, и сохранила солидарность с поэтом после того, как его унес смерч Большого террора.
Зато тень расстрелянного Гумилева роковым образом повлияла на судьбу его сына Льва. В 1935 году в Фонтанном доме, в квартире Ахматовой, был произведен обыск, после чего Леву вместе с Николаем Пуниным арестовали. Ахматова написала драматическое письмо Сталину, друзья добились, чтобы оно попало в руки вождю, и Леву (тоже вместе с Пуниным) через неделю выпустили. Правда, в 1939 году арестовали опять, и на сей раз никакие ходатайства не помогли. Лишь в последний год войны, добровольно уйдя на фронт как солдат штрафного батальона, он обрел – на время – свободу и гражданские права.
В этот период, сразу после войны, несколько упрочилось и положение – как гражданское, так и писательское – самой Ахматовой. В первые месяцы блокады она выступала по радио, призывая население города стойко сопротивляться немцам; ее даже удостоили медали «За оборону Ленинграда». Из осажденного города ее вместе с другими писателями специальным самолетом эвакуировали в Москву, оттуда переправили в Ташкент. В узбекской столице ей удалось издать тоненький сборник стихов. Перед возвращением в Ленинград жизнь вроде бы обрела стабильность и перспективу. Ахматовой было пятьдесят пять лет.
Какое-то время казалось, что судьба улыбнулась ей даже в той сфере, на которой она давно поставила крест: к ней пришла счастливая любовь. Еще в конце 30-х годов она познакомилась с ленинградским врачом Владимиром Гаршиным; он очень помог ей, когда арестовали Льва. Гаршин недавно овдовел; ему, врачу, пришлось остаться в осажденном Ленинграде, но он пообещал Ахматовой: как только ей позволят вернуться, они поженятся и будут жить вместе. Они много переписывались; расстояние лишь укрепляло их романтическую взаимную тягу.
Но видимо, чувство это не захватило Ахматову целиком. В Ташкенте, когда она уже считала Гаршина мужем, в ней вдруг вспыхнула любовь к польскому контрразведчику (по официальной легенде – литератору) Юзефу Чапскому, который находился в столице Узбекистана как представитель генерала Андерса. Чапский стал первым с 1917 года иностранцем, с которым Ахматова имела возможность разговаривать. Она посвятила ему страстное стихотворение с многозначительной первой строкой: «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…» («Из восточной тетради»). С Гаршиным она рассчитывала не столько сходить с ума, сколько вместе стариться. Супружество, предложенное ей врачом, должно было стать тихой, надежной пристанью, а квартира, куда ей предстояло переселиться, первым с неведомо каких пор настоящим домом.
В апреле 1944 года, когда Ахматова по дороге из Ташкента в Ленинград ненадолго остановилась в Москве, тамошние друзья нашли ее просто счастливой. Незадолго перед отъездом она разговаривала с Еленой Осьмеркиной: среди прочего жаловалась на неудачное замужество с Пуниным, потом, без всякого перехода, сообщила: «А вы знаете, я выхожу замуж за профессора медицины Владимира Георгиевича Гаршина». Почти то же самое вспоминает Нина Ардова (в пересказе Эммы Герштейн): «…В Москве она широко оповещала знакомых, что выходит замуж». Ахматова даже собиралась взять фамилию Гаршина.
В Ленинград Ахматова ехала вместе с друзьями, супружеской парой Владимиром Адмони и Тамарой Сильман. «В поезде мы проговорили до глубокой ночи, – вспоминает Владимир Адмони. – Ведь мы не виделись больше полугода. Первое, что нам сказала Ахматова, было: „Я еду к мужу!“» Кстати, больше ей и ехать-то было некуда: бывший дворец Шереметевых, Фонтанный дом, пока стоял пустой, с выбитыми окнами, без воды и света.
Потом случилось нечто ошеломляющее. «Мы знали, что Ахматову будет встречать Гаршин. И действительно, когда мы вышли из вагона, на перроне стоял человек типично профессорского вида <…>. Он подошел к Ахматовой, поцеловал ей руку и сказал: „Аня, нам надо поговорить“. Они стали, разговаривая, ходить по перрону. Мы поняли, что уйти нам нельзя. Ходили они не очень долго, минут пять или восемь. Потом остановились. Гаршин опять поцеловал Ахматовой руку, повернулся и ушел. Мы почувствовали, что он уходит, окончательно вычеркивая себя из жизни Ахматовой.
Ахматова подошла к нам. Она сказала совершенно спокойно, ровным голосом: „Все изменилось. Я еду к Рыбаковым“».
Семья Рыбаковых давно была в дружеских отношениях с Гаршиным и Ахматовой. По воспоминаниям Ольги Рыбаковой, Гаршин пришел к ней незадолго до приезда Ахматовой и, в совершенном отчаянии, рассказал, что во сне ему явилась покойная мать и запретила жениться на Ахматовой. Сон этот, наверное, не был пустой выдумкой, однако в действительности произошло нечто куда более банальное: во время блокады Гаршин влюбился в свою ровесницу и коллегу. Сообщить об этом Ахматовой в письме он не решился, предпочел дождаться, пока она сама прибудет в Ленинград, чтобы тут же порвать с ней. А на коллеге он женился вскоре после сцены на вокзале.
О своих браках, любовях, даже о случайных увлечениях Анна Ахматова обычно говорила с подругами откровенно. Но после Гаршина она замолчала. Даже Нине Ардовой, которая была особенно ей близка, послала лишь две скупые телеграммы: «Сообщите здоровье целую вас нежно живу одна благодарю за все Ахматова». И тремя неделями позже: «Гаршин тяжело болен психически расстался со мной сообщаю это только вам Анна».
Через несколько месяцев Ахматова снова перебралась в Фонтанный дом, к Пуниным. Квартира площадью около ста квадратных метров состояла из четырех комнат, общей кухни и ванной. Кроме Анны Ахматовой, там – в разное время, но иногда и скопом – обитали сам Николай Пунин, его первая жена, тоже Анна, их дочь Ирина, овдовевшая во время войны, со своей дочерью Аней Каминской. Среди жильцов была и третья жена Пунина, Маргарита. Перед войной в квартиру подселили дворника; позже Ирина Пунина привела туда своего второго мужа. В 1939 году, до того как его арестовали во второй раз, там, в конце длинного коридора, ютился Лев Гумилев. Вернувшись после победы с фронта, он получил право на отдельную комнату и жил в ней – до нового ареста, случившегося в 1949 году.
Эта, так сказать, идиллия, для обозначения которой в России существовал эвфемизм «коммунальная квартира», просто не могла рано или поздно не превратиться в ад – не столько из-за царившей в ней тесноты, сколько из-за нездорового нагромождения самых разных семейных структур. В таком муравейнике крайне трудно побыть наедине, а ведь одиночество – единственная роскошь, от которой не может отказаться творческий человек.
После разрыва с Гаршиным Ахматова прежде всего попыталась найти утешение в работе. «Реквием», начатый в 1936 году, и «Поэма без героя», которую Ахматова писала начиная с 1940 года, оказались долговременными проектами. Эти произведения, которые в принципе не могли быть завершены в обозримое время, она – чтобы уберечь от обысков и конфискаций – доверила памяти нескольких, особо доверенных друзей и подруг. Что касается лирического цикла «Реквием», ставшего памятником жертвам сталинских репрессий, то, как можно предположить, было одиннадцать человек, которые время от времени приходили к Ахматовой, чтобы унести с собой последние исправления и дополнения. Только в 60-х годах появились машинописные списки этих стихов, которые затем попадали и в типографии – главным образом в Западной Европе.
Однако в 1945 году в разгаре была еще работа над «Поэмой без героя». Ахматова шлифовала строчки, заменяла целые строфы, свободно комбинируя огромный материал, накопленный в памяти. Дореволюционный Петербург, который она стремилась увековечить, погружал ее в те прекрасные времена, откуда она была вырвана роковым 1921 годом. Правда, петербургским читателям-современникам знаменитый маскарад 1913 года, описанный ею в поэме, напоминал скорее пляску смерти, чем карнавал; однако для самой Ахматовой воскрешение мира ее молодости, давно канувшего в Лету, служило способом погружения в мир душевного комфорта и счастья.