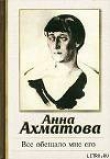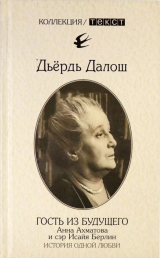
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Надежда Мандельштам во второй книге своих «Воспоминаний» описывает (как можно предположить, главным образом со слов Ахматовой) ту злополучную встречу со студентами, для Зощенко оказавшуюся роковой, и довольно сурово осуждает англичан: «Говорят, их снарядил Берлин, оксфордский „гость из будущего“, побывавший у Ахматовой незадолго до всей драмы. <…> Поняли ли оксфордские студенты поведение Ахматовой? <…> Милые английские мальчики, которых с детства учили говорить правду и отстаивать свои убеждения <…> Они понимают нас, как мы – китайцев».
Еще более язвительно отзывается о любопытных сыновьях Альбиона Лидия Чуковская. «Что же эти англичане – полные невежды, дураки, слепые или негодяи? Зачем им понадобилось трогать руками чужое горе? Людей унизили, избили, а они еще спрашивают: „Нравится ли вам, что вас избили? Покажите нам ваши переломанные кости!“». Лишь англичанка Аманда Хейт, автор биографии Ахматовой и человек, которому Анна Андреевна доверяла, проявляет немного больше понимания, когда, рассказывая о встрече со студентами, говорит, что Ахматовой на сей раз грозила бедой «не вполне уместная доброжелательность группы иностранцев, не имевших представления о ситуации „изнутри“».
Все эти суждения выглядят, по крайней мере, слишком общими, если не полностью несправедливыми. Молодые британцы, конечно, не были «реакционерами и антисоветчиками», как утверждали представители принимающих организаций, и вовсе не хотели «трогать руками чужое горе», как предполагает Лидия Чуковская. Их поведение соответствовало нормам свободного мира – другого они ведь и не знали – и их собственному студенческому темпераменту; тому самому, между прочим, который бушевал в «сердитых молодых людях» Джона Осборна, когда они, спустя несколько лет, поднялись против существующего уклада Великобритании. Скорее всего, они впервые в жизни оказались перед необходимостью выбора: на какую сторону встать – угнетения или свободомыслия? Какой нормальный человек, особенно если он молод, устоит перед искушением продемонстрировать свой выбор! Конечно, в их желании немедленно узнать полную истину была немалая доля трагикомической наивности; однако виноваты в этом не они, а те странные правила игры неведомого им мира, о которых они даже не догадывались.
Но какие у них самих остались впечатления об этой встрече и о поведении Анны Ахматовой? Гарри Шукман в августе 1995 года представил мне неожиданную версию этого события. «Ситуация в Доме писателей была совершенно протокольной. До обмена мнениями между нами и писателями дело не дошло. <…> Ахматова сначала вообще молчала. Потом я задал ей вопрос: „Может быть, мадам Ахматова тоже хочет что-то сказать?“ Нет, она явно не хотела. По ней видно было, что она не хочет ничего говорить, что нервничает. Тогда я снова спросил: „Что вы думаете о том, что сказал Зощенко?“ Она ответила: „Я с этим согласна“. Для нас это прозвучало двусмысленно, поскольку „с этим“ могло означать: и с Зощенко, и с постановлением. Я помню это так ясно, словно все произошло вчера или даже сегодня. Она так и не захотела сказать точно, с Зощенко или с постановлением она согласна. <…> Атмосфера на собрании была… как бы это сказать? – довольно напряженной».
Спустя одиннадцать лет, когда Анна Ахматова получала степень почетного доктора Оксфордского университета, на приеме в честь этого события присутствовал и Гарри Шукман. «Она жила здесь, в этом отеле, – сказал бывший студент Ноттингемского университета, обводя жестом холл гостиницы „Рандольф“, где мы сидели. – Меня пригласили на прием. Принимал Ахматову Оксфордский университет, но главную роль играл Исайя Берлин. <…> Он пригласил всех славистов Оксфорда. Народу было очень много. Ахматова сидела на диване; Берлин организовал дело так, что каждому, кто хотел с ней поговорить, отводилось пять минут. Потом подходил следующий. Я тоже встал в очередь; должен вам признаться, чувствовал я себя не лучшим образом. Но я понимал: если не воспользуюсь этой возможностью, то так навсегда и останусь с беспокойством в душе.
Я сказал ей, что участвовал в той ленинградской встрече, и спросил, помнит ли она ее. „Еще бы мне не помнить! – ответила она. – Зощенко та встреча погубила“. – „Боже мой“, – сказал я. Она подняла на меня глаза, а я сказал: „Это ведь я задал тот вопрос“. – „А зачем вы его задали?“ – спросила она. „По наивности. Чтобы сравнить писателя, который, может быть, и не диссидент, но мыслит свободно, с полуофициальными литераторами“, – ответил я. „Понятно“, – сказал она. На этом наш разговор закончился».
Здесь я считал бы нужным подчеркнуть одну вещь, на которую, возможно, читатель сам и внимания бы не обратил. Дело в том, что и две близкие подруги Ахматовой, и ее биограф Аманда Хейт, касаясь той злополучной встречи, говорят об «оксфордских студентах», об «оксфордской делегации». А Надежда Мандельштам даже считает, что студентов к Анне Ахматовой «снарядил» сам Исайя Берлин, да еще и снабдил их, наверное, соответствующими инструкциями. Большинство свидетелей, вспоминавших об этом эпизоде, придерживаются такого же мнения; одна лишь Чуковская, говоря о студентах, пользуется определением «английские».
Между тем, по свидетельству Гарри Шукмана, в делегации, состоявшей примерно из двадцати человек, были представлены все основные университеты Англии – за исключением как раз Оксфорда и Кембриджа. Эти два университета, возможно, вообще не входили в Национальную студенческую лигу. Сам же Шукман хотя бы потому не мог получить советов и рекомендаций от профессора Берлина, что они познакомились только в 1958 году.
При всем том какой-то «инструктаж» делегация все-таки получила. Уже после выхода немецкого издания этой книги я наткнулся на сборник, посвященный памяти Зощенко: там я обнаружил воспоминания еще одного члена той делегации, Ричарда Кука. По его словам, перед отъездом в СССР со студентами беседовал сам Эдвард Кренкшоу, известный британский советолог; он рассказал им о новых тенденциях в советской литературе. Кстати, Кук, со своей стороны, подтверждает приведенные выше слова Шукмана, когда пишет: «Краткость ее ответа была довольно двусмысленна и давала понять, что ей хочется отделаться от нас».
Сэр Исайя Берлин, с которым мы беседовали в лондонском кафе, отрицал всякую связь между ним и студентами, участниками ленинградской встречи. Он и о встрече-то узнал лишь задним числом. После августовского Постановления ЦК он избегал всякого общения с Ахматовой, считая, что может снова как-то навредить ей.
Но все это, даже если объективно и соответствует истине, ничего не меняет относительно субъективной стороны той роковой встречи. Ложная версия об «оксфордских студентах», которую изложила мне Лидия Чуковская в августе 1995 года, исходит, скорее всего, от самой Ахматовой. Да, ее уверенность, что студенты, которых она увидела в Доме писателей, приехали из Оксфорда, была, по всей видимости, заблуждением; однако заблуждение это – простите за романтический оборот – было заблуждением сердца.
Топоним Оксфорд для слуха любого русского, особенно если он получил образование до революции, звучал очень весомо. Он служил символом высокого научного и культурного уровня английской аристократии и, как таковой, таил в себе чрезвычайную притягательность. Очевидно, Ахматовой известно было и понятие «honoris causa». Павел Лукницкий, который в 20-х годах был литературным секретарем поэтессы, рассказывал, как второй муж Ахматовой, Владимир Шилейко, наблюдая работу Ахматовой над биографией Гумилева, сказал ей: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах».
После ноября 1945 года миф Оксфорда дополнился для Ахматовой мифической же ассоциацией «Оксфорд = Исайя Берлин». И в тот момент, когда функционер от культуры Елена Катерли сказала ей про «английских студентов», ассоциация тут же сработала и Ахматова не смогла устоять перед искушением взглянуть в глаза молодым людям, которые дышали тем же воздухом свободы, что и Исайя Берлин, и она уже только по этой причине воспринимала их как посланцев «Гостя». И хотя в телефонном разговоре с Катерли она с вовсе не чуждым ей черным юмором предложила товарищам показать иностранцам вместо нее любую другую старуху, уклониться от встречи у нее не хватило решимости.
Надо думать, те три часа, что она просидела между двумя верными слугами партии, Дымшицем и Саяновым, были для нее вдвойне мучительными. Ей ведь снова пришлось отказаться от гордой роли свободолюбивого, несломленного поэта, той роли, в которой увидел ее Исайя Берлин. И она снова оказалась перед страшной альтернативой: кого выбрать – любимого мужчину, Берлина, или сына, Льва. Берлин воплощал для нее воображаемую жизнь, сын – реальную.
С официальной точки зрения встреча, прошедшая в ленинградском Доме писателей, выглядела чем-то вроде досадного сбоя, аварии на производстве. Потемкинская деревня, сколоченная к мероприятию, развалилась так же быстро, как быстро была и построена. Организаторы допустили явную оплошность, по какой-то причине не прибегнув к обычному в таких случаях приему: они не провели идеологическую обработку жертв, которая помогла бы им более гладко сыграть свою роль. Потому-то и пришлось товарищу Казьмину в отчете от 27 мая 1954 года так старательно отмываться от возможного гнева инстанций: кто-кто, а уж он-то знал, как дорого заплатили за подобные упущения некоторые его ленинградские предшественники. «Необходимо также отметить, – пишет он, – что к вопросу организации встречи писателей Зощенко и Ахматовой с антисоветски настроенной делегацией английских студентов правление Ленинградского отделения Союза советских писателей отнеслось безответственно.
Эта встреча не была согласована с областным комитетом партии. Работники областного комитета комсомола, зная о настроениях делегации английских студентов, также безответственно отнеслись к организации встречи с писателями. В дальнейшем предложено установить более строгий контроль за проведением мероприятий, связанных с приемом иностранных делегаций в Ленинграде».
Партийные инстанции почуяли запах скандала: они боялись, что студенты, вернувшись на родину, раскроют британской общественности неудавшийся пропагандистский маневр. Поэтому поначалу они поступили осторожно: вызвали Зощенко на писательский пленум, чтобы вынудить его покаяться, однако о том, что за этим стояло, предпочли умолчать. Так что рядовой читатель, видимо, ни слова не мог понять в грозной статье В. Друзина, напечатанной в «Ленинградской правде» 28 мая 1954 года.
«Участники партийного собрания отмечают, что и среди ленинградских писателей есть люди, которые занимают явно неправильную позицию… До сих пор не сделал никаких выводов из Постановления ЦК ВКП(б) „О журналах „Звезда“ и „Ленинград““ М. Зощенко. Факты последнего времени свидетельствуют, что М. Зощенко скрывал свое истинное отношение к этому Постановлению и продолжает отстаивать свою гнилую позицию».
Страсти, закипевшие было вокруг неудачного мероприятия, улеглись только после 7 августа, когда лондонский журнал «Нью стейтсмен энд нейшн» неожиданно напечатал отчет о поездке делегации британских студентов под названием «Студент в СССР» (A Student in the USSR). Автор статьи, Клаудио Велиз, чилиец по происхождению, которого Гарри Шукман называет «единственным марксистом в нашей делегации», сообщает, например, об экскурсии в Библиотеку им. Ленина следующее: «Знаменитая московская Ленинская библиотека содержит более семнадцати миллионов книг. Книги наглядно показывают ту цензуру, которой подвергается рядовой читатель. В английском разделе каталога ни одной книги Джеймса Джойса, Вирджинии Вульф, как и, естественно, Кестлера, Оруэлла или Исаака Дойчера. Однако один из библиотекарей показал мне каталог на 14 этаже (там находится спецхран. – Д. Д.). Тут я нашел не только Джойса или Форстера, но и „Звероферму“, „Мою Каталонию“, даже „Сталина“ Дойчера – все книги, которые, мы полагали, в СССР запрещены. Этот каталог, сказал библиотекарь, доступен только для специалистов».
При всем своем критическом отношении к Советскому Союзу Велиз увиденным остался в целом доволен. Особенно ему понравилось то, что ни одна тема не была запретной для разговоров. Один из студентов резко критиковал Берию (тогда уже казненного); другой дошел до того, что объявил «чушью» постановления, освященные именем Жданова (тоже покойного). Велиз ни словом не коснулся Зощенко и Ахматовой; не упомянул он и о том, что в стране, которую они посетили, миллионы людей все еще находятся в лагерях. Отчет его написан в том же псевдообъективном тоне, что и, за полтора десятка лет до этого, книга Лиона Фейхтвангера «Москва 1937».
Московская газета «Известия» была вполне удовлетворена духовной продукцией Велиза. В. Матвеева, лондонский корреспондент газеты, в сентябре 1954 года посвятила целую статью отчету, опубликованному в «Нью стейтсмен энд нейшн». «Разговоры с советскими людьми развеяли английскому студенту и выдумку о том, что в Советском Союзе не может вестись свободной, непринужденной дискуссии. Наоборот, со всеми встреченными Велизом советскими людьми у него завязывались живые беседы, и все интересовавшие его вопросы исчерпывающе обсуждались».
Облегчение, испытанное начальниками советской культуры, когда они убедились, что скандал не состоится, побудило их едва ли не к великодушию. В скором времени душевно сломленный Михаил Зощенко получил месячную путевку в сочинский санаторий. Осенью 1956 года был издан сборник его рассказов. Зощенко оставалось жить два года…
Михаил Михайлович Зощенко гораздо сильнее нуждался в широкой читательской аудитории, чем Анна Ахматова. Причина этого – в особенностях его таланта: ведь в значительной мере это был талант газетчика, репортера. В 20–30-х годах он работал внештатным корреспондентом подчас в десятке и более газет. Его очерки, фельетоны, репортажи сразу приходили к широкому читателю. Осенью 1953 года его вновь приняли в Союз писателей и у него появились такие же надежды, как у Анны Ахматовой. Главная надежда была связана с публикацией цикла новелл: на это он получил твердое обещание от московского журнала «Октябрь».
Злополучное мероприятие в Доме писателей развеяло все иллюзии. Сразу после июньского собрания писателей из редакции «Октября» пришла вежливая телеграмма: «К большому сожалению, рассказы для журнала не подошли». Когда он обратился с жалобой в ленинградский Союз писателей, ему сообщили – во всяком случае, он так воспринял ответ, – что отныне его не будут печатать совсем, причем «независимо от качества работы». Одновременно ему дали понять – это было еще одно унижение, – что он поступит правильно, если напишет «объяснительную записку» в ЦК. Он оказался практически в таком же положении, как после августа 1946 года. Но «бедный Мишенька <…> не выдержал второго тура», как выразилась позже Ахматова.
Поздней осенью 1956 года Лидия Чуковская навестила Зощенко в Ленинграде: она привезла ему деньги, посланные отцом, Корнеем Чуковским. Зощенко она нашла в жутком состоянии. «Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное – у него нет возраста, он – тень самого себя, а у теней возраста не бывает. <…> Звук из голоса выкачан. <…> О себе сказал: „Самое унизительное в моем положении – что не дают работы. Остальное мне уже все равно“».
Итог этой истории выглядит одновременно гротескным и жалким: партия спровоцировала совершенно бессмысленную пропагандистскую акцию, которая, правда, оказалась неудачной, но и особых негативных последствий не принесла. Спустя три месяца о скандале забыли; практически все возвращается на круги своя. Разве что загублены две жизни; одна – необратимо. Год спустя от всех этих событий остается лишь никак не желающий рассеиваться туман лжи.
Сергей Залыгин, позже известный писатель-прозаик, а в те времена молодой партийный пропагандист, в марте 1955 года ездил в один из омских исправительно-трудовых лагерей и прочитал заключенным лекцию о новых явлениях в советской литературе. После смерти Сталина в лагерях стали чаще устраивать всякого рода политические и культурные мероприятия, как бы давая понять, что Советское государство еще не совсем списало со счетов миллионы своих граждан, попавших за колючую проволоку. Один из заключенных, присутствовавших на лекции, Лев Гумилев, позже рассказывал Эмме Герштейн о выступлении Залыгина: «Я задал ему вопрос о маме. Он сказал, что она „в творческом подъеме“ и что к ней приезжали английские студенты справляться о здоровье». Поскольку Гумилев заведомо был уверен, что мать слишком мало заботится о нем, то слова Залыгина невольно усугубили и без того плохое отношение Льва Гумилева к Анне Ахматовой.
«НЕВСТРЕЧА»
Среди устных преданий о советской литературной жизни есть эпизод, который связывают с именем Льва Кассиля, автора популярных произведений для молодежи. В 1952 году, когда умер один партийный функционер очень высокого ранга, Кассиль якобы сказал: «Ага, стало быть, у них тоже инфаркты бывают». Эта фраза, для западного читателя звучащая тривиально, даже нелепо, в советской среде имела глубокий смысл: ведь она способствовала разрушению мифа о вождях – стальных людях, ничего общего не имеющих с простым народом, окруженных едва ли не мистическим ореолом безграничного могущества, людях, с которыми могла справиться разве что какая-нибудь необычная болезнь (разумеется, если они не становились объектом очередной чистки). После смерти Сталина обнаружилось, что вожди – такие же люди, как все, и открытие это произвело на простых советских граждан ошеломляющий эффект.
Когда сына Грузии положили в мавзолей рядом с Лениным, сошел со сцены последний в русской истории абсолютный авторитет. Начавшаяся ожесточенная борьба за наследство вздыбила и перевернула окаменевшую номенклатурную иерархию. Каждый день кого-то смещали или перемещали; иногда такие случаи даже становились достоянием общественного мнения. Небожители разных сословий и рангов вдруг утрачивали нимб небожителя, превращаясь в объект насмешек и унижений.
В марте 1955 года было начато строгое партийное расследование против Александра Еголина, ведавшего в ЦК КПСС вопросами культуры, и Георгия Александрова, тогдашнего министра культуры; расследование поставило жирную точку на их головокружительной карьере. Выяснилось, что они устроили на подмосковной даче тайный бордель для себя и других чиновников высшего звена. Девушек туда набирали из студенток Литературного института им. М. Горького.
Оба эти функционера в свое время сыграли немаловажную роль в судьбе Анны Ахматовой. Александров имел прямое отношение к запрету ее сборника «Из шести книг», вышедшего в 1940 году; Еголин, прилежный сочинитель доносов и собиратель компрометирующих цитат, деятельно участвовал в подготовке Постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». В награду его назначили главным редактором журнала «Звезда», который почистили, сменив кадры, но не закрыли в отличие от «Ленинграда».
Слухи об оргиях, которые устраивали Еголин и Александров, быстро разнеслись в литературных кругах. Корнея Чуковского особенно бесило то, что профессиональный литературовед Еголин, писавший речи для Жданова, отделался выговором за аморальное поведение. «Неужели его будут судить за это, – писал он в дневнике, – а не за то, что он, паразит, „редактировал“ Ушинского, Чехова, Некрасова, ничего не делая <…> и получил за свое номинальное редакторство больше, чем получили при жизни Чехов, Ушинский, Некрасов!» Свое возмущение Чуковский не мог сдержать даже годы спустя, когда пришло известие о смерти бывшего всесильного партийного бонзы: Еголин, пишет он, «сопровождал Жданова во время его позорного похода против Ахматовой и Зощенко – и выступал в Питере в роли младшего палача». «Редактируя (номинально!) Чехова, он заработал на его сочинениях больше, чем заработал на них Чехов», – читаем в дневнике.
Список неприглядных поступков Еголина – особенно это касается его алчности к деньгам – можно продолжать долго. Скажем, донос, составленный им для Жданова, он переделал в статью, напечатал ее под псевдонимом Елюгин, в присвоенной в качестве трофея «Звезде», а гонорар положил себе в карман. Подобные факты в ходе партийного расследования не принимались во внимание – так же, как и требования некоторых писателей и коммунистов исключить Еголина за аморальное поведение из партии.
Анна Ахматова, узнав о том, что собой представляет ее злейший враг, заметила лишь: «Еголину мои стихи показались непристойными!» Скорее всего, она уже догадывалась, чего ей можно ждать – несмотря на начавшийся как будто процесс реабилитации – от новых, а на самом деле все тех же, прежних хозяев Кремля.
Освобождение политзаключенных Гулага потребовало несколько лет, что объяснялось как огромным числом заключенных, так и слабостью советской правовой системы. Массовые аресты и расстрелы конца 30-х годов проводились по цинично упрощенной и ускоренной процедуре. Рядовое судебное разбирательство, проводимое Особым совещанием при НКВД СССР (ОСО) и обычно заканчивавшееся высшей мерой или двадцатью пятью годами лагерей без права переписки, чаще всего занимало не более двадцати минут. Исправлять же правовые нарушения с подобной скоростью было невозможно.
Прежде всего отсутствовали четкие правовые критерии: кого следует реабилитировать, а кому достаточно амнистии? Как быть с «дополнительным наказанием» возвратившихся из лагерей, то есть, как правило, запретом на жительство в столичных городах СССР? Однако основная проблема коренилась еще глубже. Как признать невиновными сотни тысяч жертв бесправия, не поднимая вопроса о коллективной ответственности всей системы? Ведь и те, кто принимал решения, и те, кто эти решения выполнял, жили и работали тут же, рядом. Нужно ли удивляться, что они делали все, чтобы «оттепель», если уж она началась, затронула ну разве что самую верхушку айсберга.
Собственно говоря, непосредственная реабилитация – политическая, правовая, моральная – коснулась почти исключительно работников партаппарата и комсостав армии. Даже в момент разоблачения злодеяний Сталина речь шла в строгом смысле слова только о них, о «десятках тысяч» безвинно репрессированных коммунистов. Во вторую очередь реабилитированы были деятели искусства и науки, в зависимости от их известности и степени близости к официальной культурной элите. Что же касается сотен тысяч пострадавших из более низких сословий и категорий: рабочих, крестьян, служителей церкви, военных, казаков, гомосексуалистов, молодых людей, отказавшихся идти в армию по призыву, врачей, нелегально делающих аборты, и их клиенток, а также целых народов: чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков, – то в ходе десталинизации они в лучшем случае получали лишь право на жизнь.
Люди вроде искусствоведа Николая Пунина и этнографа Льва Гумилева, относившиеся к разряду «классово чуждой интеллигенции», не получали государственного помилования автоматически. Для их освобождения надо было «хлопотать», то есть предпринимать активные усилия, обращаться к властям, искать весомой поддержки. Конечно, в конце концов, после XX съезда КПСС, обрели свободу почти все жертвы сталинизма, обладавшие хоть каким-то весом и известностью. Однако и для заключенных, и для их близких было отнюдь не все равно, в какой момент между 1953 и 1956 годом улыбнется им судьба.
Тяжело больному Николаю Пунину не дано было дожить до реабилитации. 21 августа 1953 года он умер в лагере близ Воркуты, умер «естественной смертью» – это означало всего лишь, что он не был убит. Хотя время их любви давно ушло в прошлое, смерть Пунина стала для Ахматовой тяжелым потрясением. Бывшего мужа она всегда воспринимала как часть своей жизни, да и жила вместе с его прежней и новой семьей, деля с ней и немногие радости, и бесчисленные беды. Кроме того, после смерти Пунина вопрос об освобождении сына Льва уже не воспринимался ею лишь как вопрос времени: Лев тоже был болен, и каждый лишний день, проведенный им в лагере, увеличивал вероятность того, что он кончит так же, как его отчим.
Несмотря на вмешательство крупных ученых, путь к освобождению Гумилева-младшего тянулся невыносимо долго. Поскольку подобных нерешенных дел накопилось много и возрастала опасность восстаний в лагерях, была создана специальная комиссия – для рассмотрения возможности освобождения заключенных на месте; возглавлял ее член Политбюро Анастас Микоян. Благодаря работе этой комиссии вышел из сибирского лагеря и Лев Гумилев – хотя формально он был амнистирован лишь несколько месяцев спустя.
Ахматова ждала решения нетерпеливо, то и дело впадая в отчаяние, и вздохнула с облегчением лишь в конце марта 1956 года. Именно тогда она задала в дружеском кругу вопрос, в котором крылся глубокий смысл: «Правда ведь, за 800 рублей можно купить хороший мужской костюм?» Мать и сын встретились через шесть с половиной лет разлуки, 15 мая в Москве, на квартире Ардовых. Но вскоре после этого между ними возникли конфликты, которые не утихали вплоть до кончины Анны Ахматовой. Для советских условий характерно, что первые трения у них появились из-за жилья.
Сына Ахматовой арестовали в Фонтанном доме, в той квартире, где он был прописан и где у него была собственная комната. В марте 1952 года владелец дома, Институт Арктики – вероятно, по подсказке спецслужб, – буквально выжил из этой квартиры семью Пуниных вместе с Ахматовой, предоставив им квартиру меньшей площади на улице Красной Конницы. Правда, в 1955 году Ахматова как член Литфонда получила небольшой домик в Комарове, под Ленинградом; домик этот она – из-за его жалкого состояния – величала Будкой. Вернувшись из лагеря, Лев не получил автоматически прописку в квартире Пуниных; Ахматова смогла предложить ему только Комарово. Он с возмущением отверг это предложение – и с тех пор обитал у друзей, у знакомых, чувствуя себя бездомным, уверенный, что мать его оттолкнула.
Лев Гумилев еще в письмах Эмме Герштейн из лагеря жаловался, что Ахматова слишком мало заботится о нем и о его освобождении. Отзвук этих упреков, иногда очень резких, мы услышим даже в 1989 году, когда Гумилев в одном интервью сказал о матери: «На самом деле заявления о моем освобождении она не подавала, следовательно, никаких хлопот реальных и быть не могло. Когда я вернулся из Омского лагеря, я спросил, почему же она не подала заявления? На это она ответить мне не смогла, хотя она и училась на Высших женских юридических курсах в Киеве в 1910 году. Мама не усвоила того, что любое дело должно начинаться с подачи заявления, или, как говорили раньше, прошения».
Показать полную несостоятельность таких рассуждений, наверное, проще всего. Предположение, будто женские юридические курсы, законченные в 1910 году, способны в 1949-м или 1954 году обеспечить достаточную подготовленность в противостоянии режиму, попирающему всякую законность, – это, по всей очевидности, чистая фантасмагория, способная родиться лишь в голове человека, которого преследовали и мучили в течение десятилетий. Едва ли заявления Ахматовой помогли бы Гумилеву в лагере; ему скорее не хватало – не в лагере, а всю жизнь – той будничной заботы, в которой нуждаются самые обычные дети самых обычных родителей. В разрыве, который произошел между Ахматовой и ее сыном в конце 50-х годов, сказались, видимо, и эмоциональные травмы, перенесенные Львом в детстве, когда он, оставшись без отца, вынужден был жить в Бежецке, у деда с бабкой.
Лев Гумилев, талантливый сын гениальной матери, рос в тени расстрелянного отца; тринадцать лет самого плодотворного периода своей жизни он провел за колючей проволокой. Любого из этих обстоятельств уже само по себе было бы достаточно, чтобы искалечить душу. И все же самую роковую роль в его жизни сыграло, видимо, то, что его (если не считать, конечно, «первородного греха»: в 1934 году он в узком кругу друзей прочитал вслух сатирическое стихотворение Осипа Мандельштама о Сталине) лишили возможности распоряжаться своей жизнью. То, что он был сыном таких родителей, с самой ранней молодости тяготело над ним как вызов, от которого нельзя уклониться.
«Мать неоднократно говорила мне, что, если я хочу быть ее сыном до конца, я должен быть прежде всего сыном отца».
В ходе допросов Лев Гумилев сломался и затем подписывал все протоколы, которые перед ним клали, – как и большинство жертв массового террора, за исключением отдельных, очень немногих героев. Среди прочего Гумилеву пришлось давать на Лубянке показания и против Исайи Берлина. Об этом рассказывает Эмма Герштейн:
«Вероятно, я удивлю сэра Исайю Берлина, если сообщу, что Леву очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке. В первые дни после возвращения, когда все в его сознании ходило ходуном, Лева не мог связно рассказывать о всем перенесенном за эти годы. Тем больше веры вызывали слова, вырывающиеся у него бесконтрольно. Так, например, его мучило, что он отозвался пренебрежительно об Анне Андреевне в связи с вопросом о злополучном визите: „Мама стала жертвой своего тщеславия“ <…> Однажды Лев невольно вспомнил, как следователь, схватив его за волосы, бил головой о крепкую стену Лефортовской тюрьмы, требуя его признания о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Англии».
Немудрено, что Гумилев после возвращения терзался тяжкими угрызениями совести – хотя вреда он никому, кроме себя, не причинил. Но и у матери совесть не была совершенно спокойна. Переживая все, что произошло с ней после 1917 года, как «заслуженный удел» («здесь я зарабатываю постановление»; или «но мы с ним такое заслужим»), героический трагизм которого обеспечивал ей хотя бы моральное удовлетворение, она в то же время всю жизнь мучилась необходимостью найти, пускай только для себя, оправдания далеко не героическому поведению сына в лагере.
Летом 1956 года Исайя Берлин, к которому скоро – с 1957 года – надо будет обращаться как к сэру Исайе Берлину, снова приехал в Москву. Он провел там несколько недель в качестве частного гостя британского и американского послов; на сей раз он был не один, а с молодой женой. Он общался с прежними знакомыми – но не со всеми подряд. Прежде чем принять решение, встречаться ли ему с Анной Ахматовой, он захотел посоветоваться со своим лучшим русским другом, Борисом Пастернаком.
Первая новость, которую он от него услышал, была такой: роман «Доктор Живаго», работа над которым во время предыдущего пребывания Берлина в Советском Союзе шла полным ходом, закончен. Рукопись Пастернак тайно переправил в Италию, где ее должны издать. Если учесть, что в советских издательствах роман, пройдя внутреннее рецензирование, уже получил около десятка отзывов, в которых именовался «контрреволюционной стряпней» и т. п., можно было примерно догадываться, что начнется, когда книга будет опубликована на Западе.