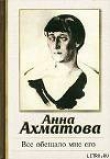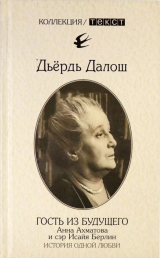
Текст книги "Гость из будущего: Анна Ахматова и сэр Исайя Берлин: История одной любви"
Автор книги: Дьердь Далош
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
Возможно, однако, судьбу Ахматовой определило не уязвленное честолюбие Сталина, а протокольно-престижные соображения, которые составляли одну из существенных сторон режима. В Советском Союзе иерархия проявлений народной любви точно регламентировалась протоколом: аплодисменты, бурные аплодисменты, бурные продолжительные аплодисменты, бурные аплодисменты, сопровождающиеся вставанием всех присутствующих, и, наконец, вершина – восторженные, несмолкающие бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Четко было регламентировано и то, кому какая степень приветствия положена. В политических мероприятиях 50-х годов нередко участвовали специальные бригады по организации аплодисментов, которые по сигналу председательствующего выполняли свою функцию. В те времена это называли (например, у нас, в Венгрии) «управляемой спонтанностью».
А тут поэтесса Ахматова и в Политехническом музее, и в Колонном зале Дома союзов взяла и перепрыгнула все предусмотренные ступени. Она сразу поднялась до максимума. Сама Ахматова относилась к этому довольно недоверчиво. Наталья Роскина так описывает восторженный прием, оказанный Ахматовой в Колонном зале: «Овации продолжали греметь; проницательная, отнюдь не наивная политически Ахматова сразу же почувствовала, что они не сулят ей добра». И в самом деле, возможно, именно этот литературный вечер, состоявшийся в апреле 1946 года, оказался для нее роковым. Есть фотография, сделанная на этом вечере: Ахматова стоит рядом с Борисом Пастернаком; в дальнейшем Анна Андреевна так комментировала этот снимок: «Это я зарабатываю постановление».
Когда я употребляю слово «легенды», это ни в коем случае не значит: выдумки, небылицы. Есть множество фактов, которые, как говорит сэр Исайя Берлин, в условиях крайне строгой цензуры могут жить, лишь передаваясь из уст в уста. Знаменитые телефонные разговоры Сталина с Булгаковым, Сталина с Пастернаком – такие важные факты истории русской литературы, которые не подвергаются сомнению. Однако на протяжении долгих десятилетий они существовали лишь как фольклор: проверить их достоверность нельзя было никаким образом, в зависимости от личности рассказчика они и звучали по-разному, и даже могли менять свое содержание. Но несомненной оставалась их общая суть: она крылась в некоем особом, едва ли не родительском отношении советских руководителей даже не к литературе, а к писателям. Отношения этих пор нашли и документальное подтверждение.
Тот же Олег Калугин, генерал-майор КГБ в отставке, в докладе, с которым он выступил в апреле 1993 года в Москве, сообщил, что после посещения Берлина в квартире Ахматовой, на потолке, установили подслушивающее устройство, а возле ее дома постоянно находились несколько тайных агентов. Фактом является и то, что британский дипломат почти автоматически стал считаться шпионом, Ахматову же – это мы тоже знаем от Калугина – подозревали в пособничестве шпиону. Существует немало доказательств того, что в Советском Союзе тех лет и шпионаж, и литература как политическая проблема относились к сфере компетенции самого высшего уровня власти. Так что нет особых оснований удивляться тому, что первый человек государства обсуждал со вторым человеком сплетни о «маленькой, узкой личной жизни» стареющей поэтессы.
Тот факт, что Сталин проявлял особый интерес к делу Ахматовой, нашел подтверждение и в протоколе заседания Оргбюро ЦК, на котором обсуждался вопрос о «неудовлетворительном состоянии» ленинградских журналов.
«ПРОКОФЬЕВ. (…) Относительно стихов. Я считаю, что не является большим грехом, что были опубликованы стихи Анны Ахматовой. Эта поэтесса с небольшим голосом, и разговоры о грусти, они присущи и советскому человеку.
СТАЛИН. Анна Ахматова, кроме того, что у нее есть старое имя, что еще можно найти у нее?
ПРОКОФЬЕВ. В сочинениях послевоенного периода можно найти ряд хороших стихов. Это стихотворение „Первая дальнобойная“ о Ленинграде.
СТАЛИН. 1-2-3 стихотворения и обчелся, больше нет.
ПРОКОФЬЕВ. Стихов на актуальную тему мало, но она поэтесса со старыми устоями, уже утвердившимися мнениями и уже не сможет, Иосиф Виссарионович, дать что-то новое.
СТАЛИН. Тогда пусть печатается в другом месте где-либо, почему в „Звезде“?
ПРОКОФЬЕВ. Должен сказать, что то, что мы отвергли в „Звезде“, печаталось в „Знамени“.
СТАЛИН. Мы и до „Знамени“ доберемся, доберемся до всех.
ПРОКОФЬЕВ. Это будет очень хорошо…»
Прокофьев, видимо, попытался убедить Сталина, что не стоило бы направлять острие дискуссии, которая вот-вот должна была начаться, против Анны Ахматовой. Попросту говоря, он попробовал внушить диктатору, что, развернув кампанию против Ахматовой, партия с точки зрения пропаганды ничего не выиграет, потому что избранный на роль главного врага объект слишком слаб и безвреден. Однако на Сталина эти аргументы не действуют. С почти детским упрямством он во что бы то ни стало хочет подвергнуть Ахматову публичной порке, хочет за что-то наказать ее – вопреки всякой политической целесообразности и вне зависимости от двух провинившихся журналов.
Кроме уже упомянутых мотивов, которые двигали (или могли двигать) Сталиным, назовем еще одно обстоятельство, пускай оно относится к самым глубинным сферам душевной жизни. Юный Сосо Джугашвили не был лишен поэтических амбиций и пописывал стихи. Однако после того как в Тифлисе он вошел в марксистский кружок и в грузинской социал-демократической газете «Ахали Цховреба» были напечатаны его первые зубодробительные статьи, он забыл о музах. Тем не менее его поэтические опыты заметили авторитеты тогдашней грузинской литературы, а его романтический цикл о любви к кавказским горам и к свободе даже вошел в одну поэтическую антологию. Автору было тогда всего восемнадцать лет.
Несомненно, Сталин обладал определенными литературными интересами и художественным вкусом. Известно, например, что его любимым поэтом был Уолт Уитмен; это обстоятельство может служить объяснением и тому, что он – в отличие от Ленина с его консервативными пристрастиями – любил авангардистскую поэзию Маяковского. Его способность более или менее объективно воспринимать художественные ценности проявлялась и в других ситуациях: например, он принял личное участие в судьбе Замятина, попросившего разрешения уехать из России, и в трудоустройстве Булгакова, оставшегося без работы; последнего он публично взял под защиту, когда тот оказался под огнем пролеткультовской критики.
Некоторые детали свидетельствуют о том, что Сталин прекрасно сознавал поэтический уровень Ахматовой. Не случайно же она попала в список писателей, которых в критический момент, осенью 1941 года, сочли необходимым эвакуировать из Ленинграда и Москвы, оказавшихся под угрозой оккупации. Положение с транспортом было напряженным, поэтому в список вошли прежде всего те писатели, которые – по формулировке «персональных директив» ЦК – «обладали литературной ценностью». Критерии разрабатывал Александров, списки составлял Еголин (позже оба эти функционера сыграли роковую роль в жизни Ахматовой). Фадеев, отвечавший за эвакуацию, докладывал о ее ходе непосредственно Сталину.
В свое время в литературных кругах ходила еще одна история. Когда Анна Ахматова, заболев тифом, лежала в ташкентской больнице, Сталин якобы интересовался ее состоянием («Што дэлает наша манахиня?»). Высокое внимание принесло свои плоды: у постели Ахматовой появилась настольная лампа. Даже если эта история – не более чем легенда, она отражает реальную ситуацию в отношениях между добрым царем и обреченной ждать от него милости «нищей монахиней». Общеизвестно, во всяком случае, что благодаря помощи влиятельных коллег Ахматову перевели в одноместную палату в лучшей больнице Ташкента. Подобную привилегию, для обычного человека практически немыслимую, действительно нельзя было получить без вмешательства самых высоких инстанций.
Сталин в этой истории мог руководствоваться следующими мотивами. Он, как человек, не совсем чуждый литературе и «великодушный», однажды, в 1940 году, уже поднял из забвения задвинутую на задворки литературной жизни поэтессу: несмотря на конфискацию ее сборника, она осталась членом Союза писателей и смогла пережить военные годы в далеком тылу, в узбекской столице. А после возвращения в Ленинград (в мае 1944 года) удостоилась невиданных почестей, за которые, правда, расплатилась несколькими патриотическими стихотворениями, но никогда не занимала демонстративно, как это делали многие советские писатели, пропартийной позиции (даже Булгаков и Пастернак совершали жесты – пускай подчас чисто формальные, – которые должны были выразить их преданность Сталину).
И вот теперь поэтесса встретилась с представителем потенциально враждебной державы, неуклюже вмешавшись в большую политику. Это не могло не вызвать у Сталина раздражения, даже злобы, и он, как логично предположить, решил при первом удобном случае наказать неблагодарную. А если принять во внимание, что в Советском Союзе публичная порка была мерой далеко не самой жестокой, то Сталин вполне мог считать назначенную им форму наказания мягкой и даже гуманной.
Саркастический вопрос, обращенный диктатором к Прокофьеву, действительно ли Ахматова написала «всего» одно, два, три хороших стихотворения, показывает тот специфически советский подход к художественному творчеству, который нашел выражение не только в дискуссии вокруг журналов «Звезда» и «Ленинград», но и был присущ советской культурной политике в целом. «Ленинград» закрыли после августовского постановления с демагогической мотивировкой: в городе, дескать, нет «надлежащих условий» «для издания двух литературно-художественных журналов» (видимо, имеется в виду недостаток талантов). А спустя несколько лет были сокращены – со ста до двенадцати – государственные разрешения на прокат новых фильмов, чтобы уменьшить количество «плохих» кинокартин. По крайней мере, так звучало одно из «неопровержимых» обоснований меры по кардинальной экономии средств.
Аргументация в такого рода решениях чаще всего выглядела откровенно натянутой, но количественный подход был вполне реальным. Хрестоматийным примером может служить критика Ждановым оперы Вано Мурадели «Великая дружба»: «В опере оказались неиспользованными не только богатейшие оркестровые средства Большого театра, но и великолепные голосовые возможности его певцов. Это представляет большой порок, тем более, что нельзя закапывать таланты певцов Большого театра, ориентируя их на пол-октавы, на две трети октавы, в то время как они могут давать две. Нельзя обеднять искусство…» Вот так!
В качестве модели для музыкального произведения здесь, пусть это и не высказано прямо, берется промышленность, производство материальных благ. В своем докладе, произнесенном в Смольном, Жданов прямо признает эту связь. «Некоторым кажется странным, – говорит он, – почему ЦК принял такие крутые меры по литературному вопросу? У нас не привыкли к этому. Считают, что если допущен брак в производстве или не выполнена производственная программа по ширпотребу или не выполнен план заготовок леса, – то объявить за это выговор естественное дело (одобрительный смех в зале), а вот если допущен брак в отношении воспитания человеческих душ, если допущен брак в деле воспитания молодежи, то здесь можно и потерпеть».
В руководстве литературной «индустрией» аппаратчики явно старались пользоваться методами планового хозяйства, заботясь о том, чтобы литературный «вал» содержал как можно меньше идеологического брака. В одном из секретных отчетов агитпропа мы читаем, например, такую победную реляцию: «Только за 1943 год было исключено из планов центральных издательств 432 книги и брошюры, как неактуальные или неподготовленные к печати. Много плохих книг было задержано при просмотре рукописей или версток. <…> Также было задержано значительное число журнальных и газетных статей».
И все-таки, несмотря на все превентивные меры, литература оставалась непредсказуемой. Ни многоступенчатая цензура, поддерживаемая бдительными редакторами, ни осторожность запуганных авторов не стали надежным заслоном от всякого рода сюрпризов. В конце войны добавился еще один фактор: появилась опасность, что законная гордость советских людей, одержавших победу в Великой Отечественной войне, приведет к рождению нового, гражданского самосознания. Тот, кто хоть в какой-то степени ощущал свою причастность к тому, что над рейхстагом было поднято красное знамя, более не желал покорно и бессловесно следовать идиотическим указаниям невежественных бюрократов. Многие советские граждане полагали, что во время войны они завоевали для себя некоторые дополнительные права. Борьба против нацистской Германии, по их мнению, – это заслуга, за которую государство должно чем-то заплатить. В одном из последних своих интервью Исайя Берлин назвал этот короткий, но полный надежд и иллюзий период советской жизни «румянцем мнимого рассвета».
Подобные настроения, конечно, не были массовыми; речь скорее могла идти об отдельных случаях. Еголин, например, в ужасе докладывал в августе 1945 года Маленкову, секретарю ЦК, что драматург Всеволод Вишневский (сам правоверный партиец) на пленуме Союза писателей воскликнул: «Мы воевали, мы боролись, дайте нам свободу слова!»
Против опасности, таившейся в таких требованиях, обычные угрозы партийных бюрократов не очень-то помогали. Тут надо было демонстрировать решительность и силу, принимать самые устрашающие меры, укрепляя прежние запреты и вводя новые. Единственно пригодным способом для этого представлялась организованная и направляемая из центра кампания травли.
Второе послевоенное лето выдалось спокойным, теплым, тихим. Власть постепенно отменяла введенные во время войны ограничения на поездки внутри страны, и перед железнодорожными кассами змеились длинные очереди.
Анна Ахматова – в Ленинграде, одна в квартире. У нее очень много работы. Скоро должны выйти, почти одновременно, два ее сборника: объемная книга в ленинградском государственном издательстве, тиражом десять тысяч экземпляров, и сборник в библиотечке «Огонька», совсем тоненький, зато со сказочным тиражом – сто тысяч. Ахматова, конечно, не знает, что, пока она вносила последнюю, перед типографией, правку, цензура уже наложила запрет на обе книги. Появления следующего сборника ей предстояло ждать двенадцать лет.
Утром того дня, когда было обнародовано Постановление ЦК, Ахматова по какому-то делу пришла в Литфонд. Одна из присутствующих, Сильва Гитович, которая позже стала близкой подругой Ахматовой, вспоминает, как служащие Литфонда были поражены невозмутимостью поэтессы. Ее самообладание и выдержка произвели на них невероятное впечатление. А ведь в тот день она была выставлена на позор во всех центральных газетах огромной империи. Несколько лет спустя она так объясняла Сильве Гитович свое тогдашнее поведение: «Да Боже мой! Мне ровным счетом ничего не было известно. Утренних газет я не видела, радио не включала, а звонить мне по телефону, по-видимому, никто не решился. Вот я и говорила с ними, будучи в полном неведении о том, что обрушилось на мою седую голову».
По дороге домой, на Невском, Анна Ахматова неожиданно встретила Михаила Зощенко. Заметив, что тот выглядит совершенно убитым, она решила, что он опять поругался с женой. «Терпеть, Мишенька, терпеть!» – подбодрила она его, не догадываясь, как актуален этот христианский принцип и для нее самой. Потом, купив что-то себе на обед, продолжила путь к Фонтанному дому. Лишь придя домой и развернув газету, в которую была завернута селедка, она увидела там свое имя.
Ирина Пунина с дочерью Аней и племянницей Мариной 15 августа уехали в Латвию, навестить родственницу. За билетами они стояли в очереди два дня. Вскоре после прибытия в Ригу шестилетняя Аня сказала: «А по радио сегодня говорили: Ахматова и Зощенко». Тогда родственница купила газету и показала им: «Вот ваша Ахматова!» Пуниной пришлось продать почти все, что у нее было, чтобы достать на черном рынке обратный билет. И все-таки в Ленинград с дочерью они прибыли только в конце августа. «Акума (так Ахматову звали в семье. – Д. Д.) лежала в большой комнате, ни с кем не виделась, не разговаривала».
Ни о чем не подозревала и Нина Ардова, московская актриса, у которой Ахматова чаще всего останавливалась, приезжая в столицу. «Я была с мальчиками в Коктебеле, – рассказывала она позже Эмме Герштейн. – И все шлю Виктору письма и телеграммы. Спрашиваю, как Анна Андреевна, приехала ли она уже в Москву или собирается. Получаю от него телеграмму: „Дура читай газеты“. И я прочла Постановление <…>. Немедленно стала собираться домой. Было трудно сразу достать билеты, с детьми… Приехала, стала пытаться пробраться в Ленинград <…>. Прошло еще несколько дней, пока я приехала к ней. Пробыла у Анны Андреевны три дня и привезла ее к нам в Москву».
Ирина Пунина вспоминает, что Ахматова и Ардова первым делом принялись жечь бумаги. Наряду с письмами и рукописями речь шла, очевидно, о знаменитых записках Анны Ахматовой: все, что она опасалась произносить вслух, она записывала. Несколько лет спустя заплечных дел мастера на Лубянке, как говорят, из-за этой горки пепла особо пытали ее сына Льва. Сжигание бумаг свидетельствовало о том, что Ахматова ожидала обыска, не исключала и ареста.
В самом деле, многие в то время не могли взять в толк, почему после Постановления ЦК от 14 августа, после доклада, сделанного 16 августа Ждановым, после исключения Ахматовой 4 сентября из Союза писателей и Литфонда не последовал ее арест. Видимо, такая «милость» власти во многом объясняется особенностями момента. С одной стороны, второй послевоенный год был периодом, когда международный авторитет Советского Союза все еще оставался высоким. Ведь в глазах западной интеллигенции, определявшей общественное мнение в Европе, именно Советский Союз одолел гитлеровскую Германию, уничтожил фашизм, а отсюда следовало (уже без всяких на то оснований), что он является прогрессивным, гуманным государством.
Участие в Нюрнбергском суде над военными преступниками, отмена (правда, на короткий срок) смертной казни, относительная терпимость к Русской православной церкви, а также, не в последнюю очередь, создание Еврейского антифашистского комитета – все это способствовало формированию – в глазах западного мира – положительных представлений о Советском государстве. И кремлевские деятели, ведающие внешней политикой, старались культивировать и укреплять этот позитивный образ. Конечно, при этом факты оставались фактами: десятки тысяч военнопленных и так называемых перемещенных лиц, находившихся на территории Германии (в основном это были русские эмигранты), а также выданных западными союзниками казаков без разбора отправляли в сибирские лагеря. Однако если бы власть начала репрессировать – не за поступки, а всего лишь за слова – писателей, это отрицательно повлияло бы на настроения западной интеллигенции, которая в большинстве своем симпатизировала коммунизму.
С другой стороны, в деле Зощенко и Ахматовой партия преследовала четкую цель: отбить у литераторов охоту к любому еретичеству, вольномыслию. Однако при этом они, литераторы, должны знать: пока они придерживаются норм и правил игры, то есть официального понимания искусства, никто не посмеет покуситься ни на них, ни на их привилегии. Для этого, как символы, как своего рода memento, нужны были живой Зощенко и живая Ахматова. Эшафот был заменен позорным столбом.
Факт остается фактом: Анну Ахматову не арестовали; ей всего лишь продемонстрировали – как в свое время Галилео Галилею – орудия пыток. В сентябре 1946 года Союз писателей лишил ее продовольственных карточек, показав этим, что она может скатиться и в полную нищету. В обычной ситуации писатели получали так называемый трудовой лимит – продовольственные карточки на сумму пятьсот рублей, плюс двести рублей на такси. Ахматовой теперь пришлось стать иждивенкой бывшего мужа, Николая Пунина; правда, он как искусствовед получал только «научный лимит», то есть карточки на триста рублей. Кроме того, Ахматовой – «бывшему писателю» – с 4 сентября уже не полагалась отдельная комната. К счастью, на комнату пока имел право, как фронтовик, Лев Гумилев. Жесткий прессинг немного ослабел лишь к концу сентября, когда Ахматовой все-таки позвонили из Союза писателей, чтобы она пришла за карточками. А в октябре, по ходатайству Фадеева, ее снова приняли в Литфонд.
Советские спецслужбы внимательно следили, как Ахматова реагирует на все эти меры. В одном из донесений сказано: поэтесса морально не сломлена. «Объект, Ахматова, перенесла Постановление тяжело. Она долго болела: невроз, сердце, аритмия, фурункулез. Но внешне держалась бодро. Рассказывает, что неизвестные присылают ей цветы и фрукты. Никто от нее не отвернулся. Никто ее не предал». «Прибавилось только славы, – заметила она. – Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды».
Но и в самый острый период травли, когда пресса обрушивала на нее потоки ругани, Ахматова не позволяла себе проявлять слабость. О Зощенко, который, по слухам, собирался покончить с собой, она, по сведениям тайной агентуры, сказала: «Бедные, они же ничего не знают или забыли, ведь все это уже было, начиная с 1924 года (на самом деле – с 1925-го, когда Ахматова впервые услышала от писательницы Мариэтты Шагинян о том, что якобы существует запрет на публикацию ее произведений. – Д. Д.). Для Зощенко это удар, а для меня – только повторение когда-то выслушанных проклятий и нравоучений».
В деле публичного очернительства и поношений Ахматовой у Жданова, одного из первых людей в партии, нашелся серьезный соперник. Критик Виктор Перцов уже в 1925 году говорил о ней как о поэтессе, которая «не знала, когда ей умереть». В литературном салоне Лили Брик (салон этот находился под покровительством госбезопасности) об Ахматовой говорили как о «внутреннем эмигранте» – и это во времена, когда слово «эмигрант» было синонимом понятия «изменник родины».
И все же я вполне допускаю, что Ахматова сознательно преуменьшала то воздействие, которое август 1946 года оказал на ее душевное состояние: она не хотела доставлять радость своим недругам. Скорее всего, более реальным, чем ее собственные высказывания, нужно считать оценку Надежды Мандельштам: «Память Ахматовой зарегистрировала всю многолетнюю анафему, и она приняла постановление, как и следовало, то есть без всяких эмоций, но с естественным страхом последствий. Она боялась за близких да и за себя – невозможно избавиться от дрожи, когда вплотную подступает тупая мертвая сила, чтобы вытащить тебя из постели и увлечь в небытие».
Как однажды заметила сама Ахматова, количество памфлетов, обрушившихся на нее с осени 1946 года, можно выразить только четырехзначным числом. Действительно, на голову стареющей, больной и много страдавшей женщины было вылито столько грязи, что получить представление об этом дают возможность только количественные показатели. Большая советская энциклопедия с гордостью сообщает, что в 1946 году в СССР было 26 всесоюзных газет, суммарный тираж которых составлял в день 6,89 млн. экземпляров, и 123 местных ежедневных издания, с общим тиражом 3,8 млн. экземпляров. То есть уже в день публикации доклада Жданова с его текстом должны были ознакомиться по крайней мере десять миллионов человек.
Что касается Постановления ЦК, то оно было напечатано во всех центральных журналах: например, в иллюстрированном журнале «Огонек», в женском журнале «Работница», в молодежной «Смене». Доклад Жданова одновременно вышел в виде брошюры, тиражом не менее миллиона экземпляров. Не были забыты и те, кто газет не читал: более сотни крупных советских радиостанций передали текст этих двух документов, а ведь радио ежедневно слушали у себя дома или стоя перед уличными громкоговорителями 25–30 миллионов советских граждан. Даже после того как кампания подошла к концу – на очереди появились другие темы, – во всех средних школах и на филологических факультетах регулярно отмечали годовщину Постановления и доклада; оба текста вошли в список литературы для обязательного чтения. Так что клеймо «монахини и блудницы» вбивалось в сознание населения поистине индустриальными методами.
Ахматовой, которая стала объектом грандиозной пропагандистской кампании, нечем было защитить себя. Когда о ней говорили, что после Октябрьской революции она двадцать лет молчала – хотя ее обрекали на молчание, – она не могла возразить ни слова. Ее упрекали, что в «Поэме без героя» она прячет за хитроумными кодами внутреннюю душевную пустоту, однако до конца жизни не позволяли напечатать полный текст «Поэмы».
В публичное шельмование включились не только литераторы и функционеры, но и так называемые простые трудящиеся, которые о поэзии Ахматовой, по всей вероятности, знали лишь по цитатам из доклада Жданова. Например, некто Кушнер, конструктор предприятия № 451, говорил так: «По поводу стихотворений Ахматовой могу сказать одно, что это выжившая из ума „барынька“, осколок старой гнилой интеллигенции, совершенно не видит настоящей жизни и от безделья вздыхает по прошлому, мешая работать другим. Постановление ЦК Партии и доклад тов. Жданова своевременно разоблачили этих вредителей и пошляков в нашей литературе».
Существовала, однако, и более тонкая форма лжи, предназначенная для либерального Запада. Побывавший в Москве весной 1947 года венгерский писатель Иван Болдижар рассказывает в своей книге, исполненной симпатии к принимающей стороне, о пресс-конференции в Центральном Доме литераторов. (При этом не мешает заметить, что в Венгрии в то время еще существовали различные партии и более или менее независимая пресса, коммунисты пока только готовились к захвату власти.)
«<Эдвард> Кренкшоу, корреспондент „Нью кроникл“, задает вопрос Борису Горбатову: „Выходит, у вас можно писать только из патриотического долга? Только о войне, производстве, героизме?“
Горбатов с примиряющей улыбкой отвечает: „Писать у нас можно обо всем! О природе, о человеке, о любви, да хоть о собаках. Мой друг Пришвин, например, пишет только о собаках, но любит он человека. Мы почувствовали, что мадам Ахматова, которой вместе с Зощенко пришлось покинуть Союз писателей, не любит человека, того человека, который после победоносной войны возрождает свою родину“».
Даже в совершенно секретных справках, которые составлялись для партийных инстанций, нельзя было найти ничего такого, что противоречило бы искусственно поддерживаемой атмосфере «всенародного осуждения». Но отрадные исключения все же встречались. Например, Паустовский, когда ему поручили написать в «Правду» отклик на Постановление, отказался это сделать; ответ его был столь же остроумен, сколь и дерзок: «Я изучаю сейчас историю партии и долго буду ее изучать». Студентка-комсомолка биологического факультета МГУ, некто Баженова, заявила однокашникам, которые якобы восторгались докладом Жданова: «На меня доклад не подействовал. Я любила и буду любить произведения Ахматовой. А вы слишком быстро перестраиваетесь, ведь совсем недавно вы вместе со мной увлекались ими».
Как сообщает уже цитированный анонимный автор, Ахматова держалась стоически. «Известно, что женщины ленинградскую блокаду во время войны переносили относительно легче мужчин. Первую она претерпела в Ташкенте, вторую – личную – здесь».
К счастью, организованная властью блокада не была лишена прорех. Кроме непосредственного окружения, семьи Пуниных, рядом с Ахматовой были подруги, друзья, почитатели. В любой момент приходила на помощь Эмма Герштейн; Нина Ардова всегда готова была предоставить Анне Андреевне свою московскую квартиру; невзирая на опасность, сохраняли верность Ахматовой старые друзья: Лев Горнунг, который сделал сотни ее фотографий, писательницы Ольга Берггольц, Маргарита Алигер.
Но лучшим другом и опорой все-таки оставался Пушкин. Эссе о «Каменном госте» Ахматова начала писать сразу после августовского Постановления. Как это бывало в 20–30-е годы, Александр Сергеевич и на сей раз помог ей справиться с депрессией.
Летом 1948 года Ахматова получила в Литфонде – по ходатайству Бориса Пастернака – пособие по болезни, три тысячи рублей. Деньги были очень кстати: в ноябре она перенесла тяжелую пневмонию. Едва выздоровев, Анна Андреевна принялась за перевод с французского писем Радищева; это была первая договорная работа за долгие годы. Книга, правда, вышла без ее фамилии; но гонорар был существенной прибавкой к скудной (700 рублей) пенсии.
23 июня 1949 года Анна Ахматова в узком кругу отметила свое шестидесятилетие. Она выглядела усталой, больной и печальной, но подавленность словно бы чуть-чуть отступила.
А 26 августа 1949 года был арестован Николай Пунин. Вскоре, 6 ноября, взяли Льва: он как раз забежал из Этнографического музея домой, поесть чего-нибудь горячего. Ирина Пунина вспоминает: «Обыск закончили скоро. Акума лежала в беспамятстве. Я помогла Леве собрать вещи, достала его полушубок. Он попрощался с мамой, вышел в кухню попрощаться со мной, его увели. Старший из сотрудников, уходя, сказал мне: „Пожалуйста, позаботьтесь об Анне Андреевне, поберегите ее!“ Я остолбенела от такой заботы. Входная дверь захлопнулась».
Исайя Берлин едва ли что-нибудь знал обо всем этом. Возвратившись из России, он счел свою недолгую дипломатическую карьеру завершенной и снова стал заниматься исключительно наукой. Вести из Москвы и Ленинграда просачивались в Оксфорд редко; Фонтанный дом иностранцы больше посещать не решались.
Во время нашей беседы в Лондоне сэр Исайя признался, что испытывал серьезные угрызения совести за ту роль, которую он сыграл в судьбе Ахматовой, и долгие годы решительно избегал всяких контактов с Советским Союзом. Несколько писем, полученных им, косвенно подтверждают, что его мучило сознание вины. Так, в письме одного знакомого – как можно предположить, дипломата – мы читаем следующее (в письме нет даты, но, судя по всему, оно было написано сразу после августовского Постановления):
«Вы наверняка тревожитесь в связи с известием об опале Ахматовой. Больше всего я боюсь, что вы вините в этом себя, считаете, будто каким-то образом причастны к этой опале. Уверен, это не так. Наказание было запланировано заранее, и я не думаю, что в этом сыграли решающую роль субъективные моменты; а если да, что случается редко, то скорее как факторы положительные. Иногда и у кремлевских властителей бывают слабости».