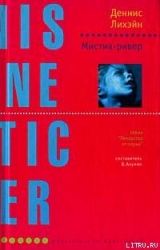
Текст книги "Мистик-ривер"
Автор книги: Деннис Лихэйн
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
12
Ваши краски
Стоя у эстрады под экраном кинотеатра вместе со своим начальником, лейтенантом следственной службы Мартином Фрилом, Шон следил, как Уайти Пауэрс направляет движение коронерского автофургона, пятившегося вниз по склону, к двери, за которой лежала Кейти Маркус. Уайти пятился вместе с фургоном, подняв руки и время от времени указывая направо и налево. При этом он покрикивал и посвистывал сквозь сомкнутые зубы, и звуки его команд прорезали воздух, пронзительные, как щенячий визг. Глаза его перебегали с ограждений по обе стороны от него к шинам автофургона, а потом к лицу водителя в зеркальце бокового вида, глядевшего затравленно, так, словно он нанимался на работу в транспортную компанию, где его испытывают, и крайне важно, чтобы эти толстые шины ни на дюйм не отступили от намеченного.
– Еще! Прямо! Еще, еще немного! Вот так! Есть! – Поставив фургон именно так, как намеревался, Уайти отступил в сторону и распахнул задние дверцы фургона. – Молодец!
Уайти распахнул задние дверцы возможно шире, так, чтобы они загородили от посторонних глаз пространство за экраном, и Шон подумал, что сам он ни за что не догадался бы так сделать – словно занавесить место гибели Кейти Маркус. Но тут же он напомнил себе, что у Уайти опыта в таких делах куда как больше. Уайти тянул лямку службы еще когда он, Шон, развлекался на школьных танцульках и боролся с прыщами.
Два помощника коронера уже привстали, чтобы выйти через боковые дверцы, но Уайти их остановил:
– Нет, ребята, так не пойдет. Вылезайте-ка сзади.
Захлопнув боковые дверцы, помощники коронера вылезли сзади и исчезли, отправившись за телом, а Шон почувствовал в этом исчезновении некую окончательность, знак того, что теперь все дело за ним. Другие полицейские, эксперты и журналисты, кружащие сейчас в вертолетах над головой или вблизи места преступления, за ограждениями, скоро займутся чем-нибудь другим – транспортными происшествиями, кражами, самоубийствами – в помещениях со спертым воздухом и переполненными пепельницами.
Мартин Фрил взобрался на эстраду и сел там, свесив через край короткие ножки и болтая ими в воздухе. Он явился сюда с бейсбольной тренировки и через синее пальто и мундир пах солнцезащитным кремом. Он постукивал каблуками о край эстрады, чем немного раздражал Шона.
– Вы раньше работали с сержантом Пауэрсом, не так ли?
– Ага, – сказал Шон.
– Сложности были?
– Нет. – Шон следил, как Уайти ведет полицейского в форме к полукружию деревьев за экраном. – Мы с ним работали год назад в деле об убийстве Элизабет Питек.
– Женщина с ограничением в правах? – вспомнил Фрил. – Бывший муж сказал что-то об этом ограничении.
– Сказал, что бумага испортила жизнь ей, но не должна портить ему.
– Он получил двадцать лет?
– Да, двадцать полных. – Шон пожалел, что женщина в свое время отделалась всего лишь ограничением в правах. Ребенок ее рос в приюте, совершенно не понимая, что случилось и что с ним теперь будет.
Полицейский в форме удалился, а Уайти повел к деревьям еще несколько человек.
– Я слышал, он пьет, – сказал Фрил. Опершись ногой на пол эстрады, он подтянулся, прижав другое колено к груди.
– На работе я его пьяным не видел, сэр, – сказал Шон, удивившись про себя, кого Фрил числит на испытательном сроке, его или Уайти. Он видел, как Уайти наклонился, разглядывая пучок травы возле заднего колеса фургона, после чего поправил отворот джинсов с такой тщательностью, словно это были брюки из универмага «Брукс».
– Ваш напарник, сославшись на какой-то вонючий листок нетрудоспособности, якобы повредил себе что-то в позвоночнике – поправляет здоровье, гоняя на яхте и водных лыжах во Флориде. – Фрил пожал плечами. – Пауэрс попросил прикомандировать вас к нему, когда вы вернетесь. Вы вернулись. Больше таких выходок, как та последняя, нас не ждет?
Подобных выволочек Шон ожидал, в особенности от Фрила, и потому сумел придать голосу должную степень раскаяния:
– Нет, сэр. Временное помрачение ума.
– Не единственное, – сказал Фрил.
– Да, сэр.
– У вас нелады в личной жизни, но это ваши проблемы. Сказываться на работе это не должно.
Поглядев на Фрила, Шон перехватил его взгляд, сверкавший холодным стальным блеском, выражение, которое он за ним знал и которое означало, что спорить бессмысленно.
И опять Шон лишь кивнул, проглотив пилюлю.
Холодно улыбнувшись Шону, Фрил стал смотреть, как вертолет с репортерами кружит над экраном на высоте ниже положенной. Он смотрел на него так, словно собирался еще до захода солнца уволить всю команду.
– Вы ведь знаете эту семью, так? – спросил Фрил, не сводя глаз с вертолета. – Вы выросли здесь.
– Я вырос на Стрелке.
– Значит, здесь.
– Здесь – это Плешка. Не совсем одно и то же.
Фрил отмахнулся от этого уточнения.
– Вы выросли здесь. И одним из первых прибыли на место преступления. И вы знаете этих людей. – Он растопырил пальцы. – Я не ошибаюсь.
– Насчет чего?
– Насчет того, что вы способны взяться за это дело. – Он поглядел на Шона с улыбкой, какой улыбается тренер игроку-софтболисту: – Вы в числе самых одаренных моих ребят. Ведь так? Вы проштрафились, вас наказали. Вы готовы целиком и полностью посвятить себя этому делу?
– Да, сэр, – сказал Шон. – Будьте уверены, сэр. Сделаю все, чтобы себя реабилитировать, сэр.
Они взглянули на автофургон, когда внутри него что-то тяжело плюхнулось на пол, отчего шасси дрогнули, сместившись к колесам. Затем они спружинили опять, и Фрил сказал:
– Заметили, как их всегда бросают?
Да, их всегда бросают. На этот раз в душном черном пластиковом мешке на молнии – Кейти Маркус. Ее бросили в фургон, и волосы прилипли к пластику, тело обмякло.
– Знаете, – спросил Фрил, – что мне нравится даже меньше, чем когда чернокожие десятилетние парнишки погибают в гангстерской перестрелке?
Ответ Шон знал, но не подал виду.
– Когда в подведомственных мне парках убивают девятнадцатилетних белых девушек. Тут уж люди не скажут: «Во всем виновата экономика». Не преисполнятся печальной важности и неотвратимости произошедшего. Они возмутятся и потребуют заковать в кандалы злодея. – Фрил ткнул Шона локтем в бок. – Правильно я говорю?
– Правильно.
– Вот что им надо. Потому что они – это мы, и это надо нам. – И Фрил, ухватив Шона за плечо, повернул его к себе лицом.
– Так точно, сэр, – сказал Шон, потому что заметил в глазах Фрила огонек некоего странного воодушевления, словно он верил в сказанное им, как люди верят в Бога, или в вооруженные силы, или во всемирную сеть Интернета. Фрил был тем, кого церковники называют «укрепленным в вере», хотя в чем состоит эта вера, Шону было не ясно, а знал он лишь то, что Фрил находил в своей работе нечто, для Шона совершенно непостижимое – утешение, возможно, даже опору и почву под ногами. Честно говоря, временами он казался Шону полным идиотом, изрекающим глупые банальности о жизни и смерти и всегда точно знающим, что надо делать, чтоб все наладилось – рак излечился, и все стали единой семьей, и это очень просто, стоит только его послушать.
Но бывало и так, что Шон вдруг ощущал в нем сходство с отцом, сооружавшим в подвале свои птичьи домики для несуществующих птиц, и тогда он скорее нравился Шону.
Лейтенант Мартин Фрил работал следователем Отдела убийств их Шестой бригады дольше, чем два президентских срока, но на памяти Шона никто и никогда не называл его «Марти», или «старина», или «дружище». На улице в штатском его можно было принять за бухгалтера или за страхового агента – кого-нибудь в этом роде. У него была вежливая речь под стать всему его вежливому облику, а от каштановых волос теперь остался лишь венчик наподобие лошадиной подковы. Он был мал ростом, и странно казалось, как с такой комплекцией он смог пробиться в полиции и дослужиться до чинов; в толпе он мог затеряться, настолько неприметен он был. Любил жену, любил двух своих ребятишек, постоянно забывал свой пропуск в кармане теплой куртки, был активным членом церковной общины, усердным налогоплательщиком и добропорядочным гражданином.
Но вот чего не предвещал ни его вежливый голос, ни весь его вежливый облик, так это его ума, решительного, безапелляционного, сочетающего практичность и тенденцию нравоучать. Ты совершил тяжкое преступление, подпадающее под его, Мартина Фрила, юрисдикцию, и теперь это дело его, и горе тебе, если ты этого не понимаешь: дело это становится его личным делом.
– Я требую от вас проницательности и несговорчивости, – заявил он когда-то в первый день работы Шона в отделе. – Злости мне не надо; злость – это эмоция, а эмоции надо прятать, но в вас всегда должна сидеть досада – на то, что кресла здесь жесткие, что все ваши школьные друзья обзавелись «ауди», что преступники, эти кретины несчастные, думают, что могут творить злодеяния и мы это оставим безнаказанным. Досады этой, Дивайн, должно хватать на то, чтобы представленные вами документы никогда не отметались судом ни по причине недостаточной доказательности, ни потому, что неверно оформлены. Ее должно хватать на то, чтоб каждое ваше дело благополучно завершалось и каждый мерзавец препровождался в камеру, чтобы гнить там до скончания веков.
Среди своих это называлось «лекцией Фрила», и каждый новобранец раньше или позже ее выслушивал примерно в одних и тех же выражениях. Как и большинство речений Фрила, лекция эта вызывала недоумение: неужто он искренне верит во все, что говорит, или же говорит только потому, что нечто подобное говорить полагается? Но намотать на ус это приходилось, иначе тебя вышвыривали вон.
Шон работал в Отделе убийств уже два года и за это время сумел добиться расположения от всех в группе Пауэрса. Фрил слышал о нем только хорошее, но иногда вел себя так, словно не был в нем уверен. Вот и сейчас он так глядел на него, будто оценивал, справится ли он с таким делом: убийство девушки на его, Фрила, территории.
К ним неспешно подошел Уайти Пауэрс, вертя в руках блокнот с записями, и кивнул Фрилу:
– Лейтенант.
– Сержант Пауэрс, – сказал Фрил, – что удалось выяснить на этот час?
– Предварительное следствие указывает: время смерти в примерном интервале между двумя пятнадцатью и двумя тридцатью утра. Следов изнасилования нет. Причиной смерти явилась огнестрельная рана в затылок, но мы не исключаем также травмы от ударов. Нами обнаружена пуля, застрявшая в помосте слева от тела жертвы. Похоже, пуля от тридцативосьмикалиберного «смита», но для уверенности нужно, чтобы взглянул эксперт-баллистик. Водолазы обыскивают канал на предмет оружия. Мы надеемся, что преступник оружие бросил или, по крайней мере, бросил тот инструмент, которым наносил удары, предположительно бита или, может быть, палка.
– Палка, – повторил Фрил.
– Два офицера местного отделения городской полиции, в чьем ведении находится Сидней-стрит, беседовали с женщиной, которая говорит, что слышала, как машина наехала на что-то, после чего мотор заглох. Было это без пятнадцати два утра, приблизительно за полчаса до установленного времени смерти.
– Какими вещественными уликами мы располагаем? – спросил Фрил.
– Тут нам дождь подгадил, сэр. Мы сняли ряд следов, которые могут принадлежать преступнику, но они очень размыты. Два из них, без сомнения, отпечатки ног жертвы. На двери за экраном примерно двадцать отпечатков пальцев, но опять же неизвестно чьих: они могут принадлежать жертве, могут – преступнику, а могут и вовсе какому-нибудь пьянице, забравшемуся сюда вечером выпить, или вздумавшему здесь передохнуть бегуну. Около двери – кровь, за дверью – тоже, и опять неизвестно, преступника ли она или нет. Большая часть кровавых следов, конечно, принадлежит жертве. Нам удалось взять четкие отпечатки пальцев с дверцы машины девушки. Вот, пожалуй, и все вещественные улики.
Фрил кивнул.
– Что я могу доложить начальству, когда оно позвонит мне минут через десять – двадцать?
Пауэрс пожал плечами:
– Скажите, что дождь очень испортил нам всю картину, но что мы стараемся.
Фрил зевнул, прикрывшись рукой.
Уайти через плечо смотрел на тропинку, ведущую к злополучной дверце. Здесь Кейти Маркус сделала свои последние шаги.
– Меня бесит отсутствие следов.
– Вы сами ссылались на дождь...
Уайти кивнул:
– Но она-то кое-какие следы оставила. Могу поклясться перед любым начальством, что это ее следы, что они свежие, кое-где вмятины от каблуков, а кое-где она наступала на носки. Таких следов мы обнаружили три, если не четыре, и я совершенно уверен, что это следы Кейти Маркус. А преступника? Нет как нет!
– И опять же это из-за дождя, – сказал Шон.
– Дождем объясняется то, что найдено всего три ее следа, пусть так. Но не найти ни единого следа этого парня? – Уайти взглянул на Шона, потом на Фрила и пожал плечами. – Это уж слишком. Что меня и бесит.
Фрил спрыгнул с эстрады и отряхнул с ладоней песок.
– Ладно, ребята. В вашем распоряжении шестерка лучших детективов. В лаборатории вашим материалам зеленая улица, и идут они вне очереди. Понадобятся еще полицейские для работы на местности – пожалуйста. Так что, сержант, поделитесь вашим планом использования людских резервов, которые мы сочли разумным вам выделить.
– Я собираюсь побеседовать с отцом жертвы и разузнать, что ему известно об ее передвижениях этой ночью, с кем она была, с кем могла поссориться. Потом мы допросим этих людей, вторично допросим женщину, которая сказала, что слышала, как на Сидней-стрит останавливалась машина. Вытрясем все, что возможно, из каждого пьяницы в парке и на Сидней-стрит; мы надеемся, эксперты технической службы сумеют предоставить нам и убедительные отпечатки пальцев, и, может быть, волоски, которые нам помогут. Может быть, под ногтями у этой Маркус остались частички его кожи. Может быть, какие-нибудь следы на двери. А может, это ее парень и они поцапались. – Уайти опять пожал плечами и отпихнул носком ботинка какой-то сор. – В таком вот разрезе.
Фрил покосился на Шона.
– Мы найдем этого парня, сэр.
Казалось, Фрил ожидал от него каких-то иных слов, но коротко кивнул и похлопал Шона по локтю, прежде чем отойти от эстрады туда, где в амфитеатре для публики лейтенант Крозер из городской полиции беседовал с начальником Шестой бригады капитаном Джиллисом. Все они проводили Уайти и Шона ободряющими взглядами, дескать, так держать.
– Мы найдем этого парня? – переспросил Уайти. – После четырех лет колледжа ты получше ничего не придумал?
На секунду Шон опять встретился глазами с Фрилом, и тот кивнул, как ему показалось, уверенно и понимающе.
– Это есть в инструкции, – сказал он Уайти. – Как раз после «Мы прищучим негодяя» и перед «хвала Господу». А ты что, не читал инструкции?
– Пропади она пропадом.
Они оглянулись, потому что помощник коронера, захлопнув заднюю дверь автофургона, пошел к дверце водителя.
– У тебя есть какая-нибудь версия? – спросил Шон.
– Десять лет назад, – сказал Уайти, – я бы заподозрил в этом некий обряд посвящения в бандиты. Ну а теперь? Ерунда какая-то. Преступность падает, зато полная неразбериха в мотивах. Ну а ты что думаешь?
– Ревнивый дружок, но это так, навскидку.
– И он ударил ее битой? Он что, не совсем нормальный?
– Часто так оно и есть.
Помощник коронера приоткрыл дверцу водителя и окинул взглядом Уайти и Шона.
– Кажется, кто-то собирался показать нам дорогу отсюда?
– Да, мы собирались, – сказал Уайти. – Но когда выедем из парка, поедешь впереди. И еще: с нами будут близкие родственники, так что не оставляй ее в коридоре. Понятно?
Парень кивнул и полез в свой фургон.
Уайти и Шон сели в патрульную машину, Уайти за руль, и поехали впереди фургона. Они ехали вниз по склону между желтых лент полицейского ограждения, и Шон смотрел, как просвечивает сквозь деревья закатное солнце, как заливает оно ржавым золотом воду канала, как зажигает красным сиянием верхушки деревьев. Шон думал о том, что, умирая, будет сожалеть и об этом – об этих удивительных, нездешних красках, хотя они и навевают легкую грусть, словно ты маленький и затерялся неведомо где.
* * *
Первую ночь в исправительном заведении «Олений остров» Джим просидел без сна с девяти и до шести, боясь, что его сокамерник кинется на него и убьет.
Сокамерник был ньюхэмпширским байкером и звался Вудрел Дэниелс; по какому-то делу, связанному с метамфетамином, его занесло в Массачусетс, где он заглянул в бар пропустить рюмочку-друтую, после чего ткнул бильярдным кием в глаз собутыльника, ослепив того. Вудрел Дэниеле был настоящая мясная туша, весь в татуировках и ножевых шрамах. Он поглядел на Джимми и издал какое-то странное тихое фырканье – звук, отозвавшийся в сердце Джимми сигналом тревоги.
– Ну, до скорого, – бросил Вудрел, когда погасили свет. – До скорого! – повторил он, и опять раздалось это фырканье.
Вот Джимми и не ложился всю ночь, прислушивался, не заскрипит ли вдруг койка над ним, думал, что надо будет целить Вудрелу в трахею, если до этого дойдет, и прикидывал, долго ли сможет выдерживать хватку мощных лап сокамерника. Хватай его за глотку, твердил он себе, хватай его за глотку, за глотку, о господи, вот он уже лезет...
Но это просто Вудрел повернулся во сне, скрипнул пружинами. Под его тяжестью матрас продавливался все сильнее, пока не стал нависать над Джимми, как слоновье брюхо.
В ту ночь тюрьма казалась Джимми живым существом, гудящей, дышащей машиной. Он слушал, как дерутся, оголтело пищат и жрут добычу крысы. Слушал шепоты, и стоны, и мерное поскрипывание матрасов – вверх-вниз, вверх-вниз. Капала вода, арестанты бормотали во сне, из дальнего коридора раздавались шаги охранника. В четыре утра он услышал крик – единичный и замерший так быстро, что даже эхо и воспоминание об этом крике казались дольше его самого, а Джимми в тот момент как раз разрабатывал план взять из-под головы подушку, взобраться на койку Вудрела Дэниелса и задушить того. Но руки его были такими слабыми, липкими, а неизвестно еще, спит ли Вудрел: может быть, просто притворяется, а Джимми к тому же вряд ли хватит сил удерживать подушку, в то время как великанские руки станут наносить ему ответные удары по голове, царапать лицо, вырывать клочья мяса из его запястий, молотить по барабанным перепонкам.
Самым страшным был час перед рассветом. Сквозь толстые стекла окошек наверху стал сочиться серый свет, неся с собой металлический холод. Джимми слышал, как просыпаются люди, начиная топотать по камерам, слышал сухой скрежещущий кашель. Ему казалось, что это оживает опять машина, холодная, готовая все поглотить, знающая, что насилие и вкус человеческого мяса ей необходим, что без этого она погибнет.
Вудрел соскочил с койки на пол так неожиданно, что Джимми даже не сразу испугался. А потом крепко зажмурился и, тяжело дыша, стал ждать, когда Вудрел подойдет к нему достаточно близко, чтобы вцепиться ему в горло.
Но Вудрел Дэниеле и не взглянул в его сторону. С полки над раковиной он снял книгу, открыл ее и, опустившись на колени, принялся молиться.
Он молился, и читал куски из Посланий апостола Павла, и опять молился, время от времени издавая это тихое фырканье, которое, однако, не прерывало потока слов, пока Джимми не понял, что фырканье это – непроизвольно, как непроизвольны были вздохи его матери, запомнившиеся ему в детстве. Сам Вудрел, может быть, даже и не замечал за собой этой привычки то и дело пофыркивать.
Еще до того, как Вудрел, повернувшись к нему, спросил, признает ли он Господа своим личным спасителем, Джимми уже знал, что самая долгая из всех его долгих ночей кончилась. Лицо Вудрела было озарено тем светом, который освещает проклятым путь к спасению, и свет этот был столь ярок, что было удивительно, как это Джимми не заметил его при первом же взгляде на сокамерника.
Джимми не мог поверить в такую потрясающую, неслыханную удачу: очутиться в логове льва, но льва-христианина! Да Джимми признал бы кого угодно – хоть Иисуса, хоть Боба Хоупа, хоть Дорис Дэй или кого там еще почитает этот святоша-головорез в воспаленном своем воображении, – лишь бы только знать, что чудовище уберется к себе на койку и будет мирно сидеть подле Джимми во время трапез!
– Я заплутался, – сказал Джимми Вудрел Дэниеле, – но, хвала Господу, я нашел свой путь.
Джимми чуть было не сказал вслух: «Туда тебе и дорога!»
До сегодняшнего дня всякое испытание Джимми мерил меркой этой долгой первой ночи в «Оленьем острове». Он говорил себе, что способен выдержать столько, сколько потребуется – день, другой, – если терпением надо чего-то достичь, но все равно ни одно испытание не сравнится с той долгой ночью, когда рядом раздавались гул и вздохи живой машины, когда крысы пищали, пружины скрипели, а крики захлебывались, едва прозвучав.
До сегодняшнего дня.
Стоя возле входа в Тюремный парк со стороны Розклер-стрит, Джимми и Аннабет ждали. Они стояли за первой линией полицейского ограждения, но перед второй. Их поили кофе, им принесли раскладные стулья, чтобы они могли сесть; полицейские были к ним очень внимательны. Но все же их заставили ждать, а когда они пытались что-то разузнать, лица полицейских каменели, брови скорбно вздергивались, и очень вежливо, с извинениями им говорили, что ничего не знают помимо того, что известно каждому прохожему.
Кевин Сэвидж отвез Надин и Сару домой, но Аннабет осталась. Осталась с Джимми в своем лиловом платье, которое надела на первое причастие Надин – событие, которое отодвинулось так далеко, словно с тех пор прошло уже несколько месяцев, и теперь молчала, замкнувшись в отчаянной своей надежде. Надежде, что Джимми неверно истолковал выражение лица Шона Дивайна. Надежде, что брошенный автомобиль Кейти и ее многочасовое отсутствие волшебным образом не связаны со скоплением полицейских в Тюремном парке. Надежде, что правда, о которой она догадывалась, все-таки, все-таки окажется неправдой.
– Еще кофе принести? – спросил Джимми.
Она улыбнулась ему натянутой, рассеянной улыбкой:
– Нет. Я в порядке.
– Точно?
– Да.
Пока не увидел тела, решил Джимми, считай, смерти нет. Так он объяснял надежду, поддерживавшую его в течение нескольких часов, прошедших с того времени, как его и Чака Сэвиджа выдворили из парка, стащили вниз с холма над амфитеатром. Может быть, это была просто похожая девушка. Или она без сознания. Забилась в закоулок за экраном, и они не могли ее вытащить. Может быть, ей очень больно, она ранена, но жива. Вот на что он надеялся, и надежда эта, слабая и хлипкая, как волосок младенца, мерцала и еле теплилась, ожидая подтверждения.
И хотя Джимми и сознавал, что все это полная ерунда, что-то в нем продолжало цепляться за этот волосок.
– Послушай, ведь словами тебе никто ничего не сказал, – заметила Аннабет, когда их дежурство у входа в парк только начиналось. – Правда ведь?
– Нет, словами никто ничего не сказал.
Джимми погладил ее руку, понимая, что уже одно то, что их пустили за полицейское ограждение, само по себе подтверждает все их страхи.
И все же микроб надежды отказывался умереть в нем, пока он, Джимми, не увидит тела, не поглядит на него, не скажет: «Да, это она. Это Кейти. Моя дочка».
Джимми глядел на полицейских у чугунной резной арки над входом в парк. Эта арка была единственным, что осталось от тюрьмы, которая раньше находилась здесь, на месте парка, на месте кинотеатра для автомобилистов, еще до рождения всех стоявших сейчас у входа.
Городок возник вокруг тюрьмы, вместо того чтобы тюрьме возникнуть в городе, что было бы естественнее. Тюремщики и надзиратели обосновались на Стрелке, а семьи осужденных – на Плешке. Поселки соединились с городом, когда надзиратели, постарев, стали искать себе другие занятия.
У ближайшего к арке полицейского заквакал передатчик, и он поднес его к губам.
Аннабет с такой силой стиснула руку Джимми, что заныли кости.
– Это Пауэрс. Мы выезжаем.
– Так точно.
– Мистер и миссис Маркус на месте?
Полицейский посмотрел на Джимми и опустил глаза.
– Так точно.
– Ладно. Едем.
Аннабет проговорила:
– Господи Иисусе, Джимми, Господи Иисусе...
Джимми услышал скрежет шин и увидел несколько машин и фургонов, подъехавших к ограждениям на Розклер. На крышах фургонов были спутниковые антенны, и Джимми глядел, как из машин выскакивают репортеры и операторы, как они толкаются, устанавливают камеры, разматывают провода микрофонов.
– Прогоните их! – крикнул полицейский у арки. – Немедленно! Прочь их отсюда!
Полицейские у первой линии ограждения кинулись к репортерам. Началась свалка.
– Это Дьюгей. Сержант Пауэрс?
– Пауэрс.
– У нас тут затор. Пресса.
– Убрать!
– Мы этим и занимаемся, сержант.
На подъездной аллее ярдах в двадцати от арки из-за поворота появилась и неожиданно встала патрульная машина. Джимми увидел за рулем парня, держащего возле рта микрофон передатчика, рядом с ним сидел Шон Дивайн. За ними виднелся край радиатора другой машины, остановившейся вслед за патрульной, и Джимми почувствовал, как у него пересохло в горле.
– Оттесни их, Дьюгей! А надо будет, стреляй. Наплевать на этих хлыщей. Прострели их поганые задницы. Чтобы духу их не было!
– Так точно.
Дьюгей и трое других полицейских протрусили мимо Джимми и Аннабет. Дьюгей кричал, тыча пальцем:
– Вы вторглись на закрытую территорию! Немедленно возвратитесь в машины. У вас нет разрешения здесь находиться! Возвращайтесь в машины!
Аннабет сказала: «Вот черт!» – и, еще не услышав вертолета, Джимми почувствовал ветер. Подняв голову, он смотрел, как вертолет кружит над замешкавшейся патрульной машиной. Водитель что-то крикнул в микрофон, завыли сирены – настоящая какофония звуков, – и неожиданно с обоих концов Розклер стремглав вылетели сине-серебряные патрульные машины; репортеры тут же ретировались в свои автомобили, а вертолет, резко развернувшись, скрылся над парком.
– Джимми, – сказала Аннабет упавшим, не своим голосом, – Джимми, пожалуйста... пожалуйста...
– Что «пожалуйста», милая? – Джимми обнял ее. – Что?
– О, пожалуйста, Джимми... Нет, нет...
Стоял страшный шум: вой сирен, скрип шин, крики, гул вертолета. И шум этот была Кейти – мертвая, она кричала, вопила им в уши, и Аннабет обмякла, осев в объятиях Джимми.
Дьюгей опять пробежал мимо них, раздвинул турникеты возле арки, и прежде чем Джимми успел увидеть, что она движется, патрульная машина подкатила к нему, справа ее обогнул белый автофургон, вылетевший на левую полосу Розклер. Джимми успел различить надпись на боку автофургона «Коронер графства Саффолк» и тут же почувствовал, как все суставы его – в плечах, лодыжках, коленях, – став хрупкими, плавятся.
– Джимми!
Джимми опустил глаза вниз, на Шона Дивайна. Шон смотрел на него вверх из открытого оконца, противоположного водительскому.
– Джимми. Мы едем. Пожалуйста, сядь в машину.
Шон вылез из машины и распахнул заднюю дверцу, а вертолет в это время вернулся, и хотя теперь он летел выше, все равно ветер от его винтов шевелил волосы Джимми.
– Миссис Маркус, – сказал Шон, – Джимми, дружище, садитесь в машину.
– Она умерла? – произнесла Аннабет, и слова эти, проникнув в мозг, обдали его едкой кислотой.
Патрульные машины выстроились на Розклер-стрит двумя шеренгами, и сирены их неистовствовали. Аннабет вскричала, перекрывая шум:
– Моя дочь?..
Джимми подтолкнул ее к машине, так как не мог больше слышать этого слова. Сквозь какофонию звуков он потянул Аннабет на заднее сиденье. Шон захлопнул заднюю дверцу и сел рядом с водителем, полицейский за рулем дал газ и одновременно включил сирену. По подъездной аллее они выехали на улицу. Их тут же окружили патрульные машины, и все вместе, скопом, они двинулись по Розклер – целая армия машин с воющими, вопящими моторами и воющими, вопящими сиренами, посылавшими вдаль, к автостраде, неумолчные свои вопли.
* * *
Она лежала на металлическом столе.
Глаза ее были закрыты, а на ногах не хватало туфли.
Ее кожа была темно-лиловой, оттенка, которого Джимми раньше видеть не приходилось.
До него доносился запах ее духов, слабый, лишь намек на запах, забиваемый вонью формальдегида, которым пропахла эта холодная, очень холодная комната.
Шон положил руку Джимми на спину, и Джимми заговорил, произнося слова омертвевшими губами, чувствуя себя в эту минуту таким же трупом, как тот, что лежал перед ним.
– Да, это она, – сказал он.
– Это Кейти, – сказал он.
– Это моя дочка.








