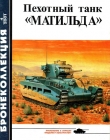Текст книги "Подземное время (ЛП)"
Автор книги: Дельфин де Виган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Прибавить к этому сотню незаметных мелочей, совершенно незначительных, которые Матильда едва могла обозначить и о которых она не сумела бы рассказать кому-то еще. То, как он смотрел на нее, когда они случайно встречались в коридоре, и как он избегал смотреть на нее в присутствии других; как он ускорял шаг, чтобы обогнать ее, как усаживался напротив и внимательно наблюдал. И дверь в его кабинет, которую он теперь запирал на ключ, если уходил раньше нее.
Сотни коварных и смешных мелочей, которые день за днем все более увеличивали пропасть между ней и остальными. Потому что она не сумела вовремя понять, что происходит, не забила тревогу. Накапливаясь, как снежный ком, они лишили ее сна.
В несколько недель Жак стал другим, и этого другого она совсем не знала.
Лежа ночью без сна, она бессчетное число раз воскрешала в памяти тот день. Сегодня она понимает, как это происходило. Она может обозначить каждый этап, с чего все началось и чем закончилось.
Жаль, что слишком поздно.
Жаку нужна ее голова.
Глава 5
Сквозь полуоткрытые шторы в комнату проникал дневной свет. Тибо сел на край кровати, спиной к окну. Несколько минут он смотрел на спящую Лилю – спутанные волосы, раскрытые ладони, грудь поднимается и опускается в ритме дыхания. Будильник на телефоне еще не звонил. Лиля лежала в той же позе, что и несколько часов назад, когда он ночью смотрел на нее, – открытой, раскинутой; она то ли не двигалась все это время, то ли вернулась в прежнее положение.
Он же так и не сомкнул глаз. Остаток ночи он ворочался с боку на бок. Его не покидало чувство, что земля уходит из-под ног. Они в самом деле не были равными – ни в любви, ни во сне.
По ее груди вилась длинная серебряная цепь, уклоняясь влево под тяжестью подвески: массивный кулон в форме слезы поблескивал на покрывале. Лиля носила это украшение в память о другой истории, и лишь из ее скупых оговорок можно было понять, насколько оно ей дорого. Тибо наклонился к ее плечу, потом к шее и глубоко вдохнул. В последний раз: запах ее кожи, стойкий аромат ее духов. Лицо Лили разгладилось, смягчилось и приняло то выражение, которое Тибо видел, только когда она спала. Он приблизил рот к ее губам, как можно ближе, и все же не прикасаясь к ним.
Его охватили сомнения. Что, если он ошибался с самого начала? Может, они просто не нашли общего языка, общего ритма? Ей просто нужно время. Может, в глубине души она любит его, и эта холодность, которая внезапно сменяется порывами нежности, – это ее способ любить, единственный, на который она способна? Нужно ли ему другое доказательство любви, кроме этого – когда их тела и их дыхание становятся одним целым?
Зазвенел будильник: шесть часов утра. Лиля открыла глаза и улыбнулась. На несколько секунд у Тибо перехватило горло.
Все еще лежа на спине, она принялась ласкать его кончиками пальцев, очень нежно, не сводя с него глаз. Тибо тут же почувствовал желание; он провел рукой по ее щеке, поднялся и направился в ванную. Когда он вернулся в комнату, Лиля уже оделась и побросала свои вещи в сумку. Пока она красилась перед выходом, Тибо спустился, заплатил по счету и стал ждать ее в машине, опустив стекла и повторяя про себя, что он это сделает.
Ему припомнилось одно ноябрьское утро, когда он напрасно прождал ее на стоянке такси. Как тянулись минуты, пока не раздался сигнал мобильного телефона (за это время он раз двадцать посмотрел на часы), как на экране наконец высветилось ее имя и слова, которые она даже не взяла на себя труд произнести вслух. Они собирались тогда поехать на выходные в Прагу, он заранее все зарезервировал.
Вспомнил он и другой случай – как однажды ночью он осознал, насколько она далека, надежно укрытая в своем личном пространстве, куда ему нет доступа, что даже если бы его здесь не было, для нее, лежащей с ним рядом на кровати, ничего бы не изменилось. Он тихо оделся. В тот момент, когда он завязывал шнурки на ботинках, Лиля открыла глаза. Он объяснил, что не может заснуть и идет домой, все в порядке, впрочем, в сущности, все всегда в порядке. Она скорчила гримаску. Уже собираясь выйти, он взял ее лицо в руки, посмотрел ей в глаза и сказал: «Я люблю тебя, Лиля, я очень тебя люблю».
Она вздрогнула, как от пощечины, и воскликнула: «Ах, нет!»
Возможно, в тот день он понял, что их отношения никогда не смогут вырасти во что-то живое, не смогут разлиться вширь или вглубь, что они оба увязли в рыхлой золе погасшего романа. Возможно, в тот день он сказал себе, что когда-нибудь он найдет в себе силы уйти и больше не возвращаться.
Глава 6
Как и каждое утро в эти последние недели, будильник звенит, когда Матильде только удалось вновь заснуть. Она потягивается под одеялом.
Утро приносит ей самое худшее – страх. Лежа в постели, она вспоминает, что ее ждет.
По понедельникам близнецам надо в школу к восьми, так что следует поторопиться. Матильда встает. Еще не начав день, она чувствует себя совершенно разбитой. Ночной отдых больше не восстанавливает ее сил, собственное тело, опустошенное, лишенное энергии, ощущается ею как мертвый груз.
Матильда зажигает свет, заправляет постель и разглаживает рукой покрывало. Собственные жесты кажутся ей медленными и неловкими, словно прежде чем произвести каждое движение, его сперва надо тщательно продумать. Тем не менее, пять дней в неделю ей удается заставить себя подняться, пойти в ванную, встать под душ и задернуть за собой шторку. Под струями теплой воды ей хочется задержаться подольше. Душ приносит ей ощущение покоя, и нередко в эти мгновения она вновь чувствует себя прежней, когда ее жизнь текла, как вода, когда она с удовольствием отправлялась на работу и единственное, что ее заботило – какой костюм надеть сегодня и какие подобрать к нему туфли.
Она растворяется в телесной памяти. В том времени, которое давно прошло, растаяло.
Теперь она отдала бы все на свете за возможность закрыть глаза и не думать, забыть, скрыться от того, что ее ждет.
Сколько раз она мечтала заболеть, тяжело заболеть, сколько симптомов, недугов, хворей изобретала она, лишь бы иметь право остаться дома, иметь право сказать: «Я больше не могу»? Сколько раз ей хотелось взять сыновей и уехать с ними в никуда, не оставив адреса, пуститься в путь, имея в качестве багажа только сберегательную книжку? Вырваться из своей колеи, начать новую жизнь.
Сколько раз она думала, что можно запросто умереть от такой жизни, умереть от необходимости ежедневно по десять часов находиться во враждебной среде.
Матильда вытирается полотенцем и замечает темное пятно на левой икре. Она наклоняется и обнаруживает ожог сантиметра в три или четыре, довольно глубокий. Матильда поднимает голову и задумывается. Вчера вечером она пришла вся замерзшая, и, прежде чем лечь спать, положила в постель грелку с горячей водой. Должно быть, она так и уснула, прижав ногу к нагретой резине. И получила ожог третьей степени, даже не заметив этого. Она опять смотрит на саднящую рану. Да что же это? Два месяца назад она сломала запястье, упав с лестницы в метро. Через неделю ей пришлось сделать рентген, потому что она не могла действовать этой рукой. Дежурный врач, держа снимок над головой, отчитал ее. По счастью, перелом оказался не смещенный. Теперь, чтобы попробовать, сварились ли спагетти или стручковая фасоль, она просто быстрым движением окунает руку в кипящую воду, не ощущая при этом ничего. Неужели она приобрела устойчивость к боли? Закалилась, так сказать. Когда она смотрит на себя в зеркало, она особенно ясно это видит. Как заострились ее черты; в них появилась какая-то твердость, напряженность, и избавиться от этого выражения она больше не может.
Матильда ищет в аптечке пластырь, выбирает самый широкий и наклеивает поверх ранки. Уже десять минут восьмого, и она должна спешить: приготовить завтрак, успеть на метро, добраться до работы.
Она должна спешить, потому что она живет одна с тремя детьми, которых надо разбудить утром и которые будут ждать ее вечером после школы.
Когда она поселилась в этой квартире, она все отдраила, перекрасила, поставила шкафчики и кровати для детей. Она со всем справилась. Она нашла новую работу, сводила мальчиков к дантисту, записала их на гитару, баскетбол и дзюдо.
Она выстояла.
Сейчас они уже большие, и она гордится ими, гордится тем, что создала – этим островком спокойствия, где по стенам развешаны рисунки и фотографии, а окна выходят на бульвар. Островок, который она сумела наполнить радостью, когда сама вновь обрела способность радоваться. Здесь вчетвером они смеялись, пели, играли, выдумывали слова и истории, создавали что-то, что их связывало, делало похожими. Часто она думала, что смогла подарить детям частичку своего жизнелюбия, научить их радоваться. Часто она думала, что это и есть самое важное, что она могла им дать в бесконечно разобщенном мире – свой смех.
Теперь все по-другому. Она стала раздражительной, постоянно усталой, ей приходится делать поистине нечеловеческие усилия, чтобы не потерять нить разговора, если он длится более пяти минут, чтобы изображать интерес к тому, что ей рассказывают. Иногда она вдруг расплачется без причины, находясь в одиночестве на кухне, или глядя на своих спящих детей, или лежа в кровати в тишине. Теперь, стоит ей ступить за порог, тошнота подкатывает к горлу; она царапает в блокноте то, что ей предстоит сделать, наклеивает на зеркало записки, пишет даты, встречи. Чтобы не забыть.
Теперь сыновья ее оберегают, и Матильда знает, что это не есть хорошо. Тео и Максим без напоминаний убираются в своей комнате, помогают накрывать на стол, сами принимают душ и надевают пижамы, к ее возвращению их домашние задания уже выполнены, а ранцы собраны на завтра. Когда в субботу вечером Симон идет гулять с приятелями, он звонит ей, чтобы сказать, где он, и спрашивает: не помешает ли это ее планам? Может, ему стоит вернуться пораньше, присмотреть за близнецами, на случай, если она захочет пройтись, увидеться с друзьями или пойти в кино? Все трое неустанно следят за ней, прислушиваются к тону ее голоса, улавливают ее настроение, замечают неуверенность ее жестов. Она беспокоятся за нее, она это отлично видит: по сотне раз на дню спрашивают, как у нее дела. Она им рассказывала. В начале. Она говорила, что у нее небольшие неприятности на работе, но это пройдет. Позднее она попыталась рассказать, объяснить им все, что случилось, каким образом она мало-помалу загнала себя в ловушку, и как трудно ей теперь из нее выбраться. Со всей решимостью своих четырнадцати лет Симон тут же выразил намерение набить морду Жаку, проколоть шины его автомобиля, словом, ратовал за месть. Тогда этот подростковый бунт против несправедливости, допущенной по отношению к его матери, вызвал у Матильды улыбку. Но могут ли они на самом деле понять? Ведь они не знают, что такое корпорация, ее замкнутая атмосфера, мелочное недоброжелательство, разговоры вполголоса, не представляют, как гудит кофейный автомат и как – лифт, им не известен серый цвет ковролина на полу, они не догадываются о тайной враждебности при внешней доброжелательности, о пограничных инцидентах и междоусобных войнах, об альковных тайнах и служебных записках… Даже для Симона ее работа является до некоторой степени условностью. А когда она старается перевести свою речь на доступный им язык – мой шеф, тетя, которая решает, кого принять на работу, дядя, который занимается рекламой, самый-самый большой шеф, – ей начинает казаться, что она рассказывает историю, как в некой затерянной деревне дикие смурфики истребляют друг друга.
Она не говорит об этом. Даже с друзьями.
Вначале она пыталась описать взгляды, опоздания, отговорки. Пыталась рассказать об умолчаниях, подозрениях, инсинуациях. О стратегиях вытеснения. Как накапливались маленькие обиды, неявные унижения, незаметные факты. Пыталась рассказать, как все завязалось и к чему привело. И каждый раз история начинала ей казаться смешной и незначительной. Каждый раз Матильда обрывала сама себя, делая неопределенный жест рукой, словно все это не преследовало ее по ночам, не грызло ее неотступно, словно все это было совершенно неважно.
Наверное, ей следовало бы рассказать.
С начала. С самого начала.
Как однажды утром Жак заявил ей (с выражением заботы, которое он так умел напускать на себя): у вас очень помятый вид. И через несколько дней – снова. А в третий раз он употребил слово «потасканный»: у вас очень потасканный вид. И все это слегка обеспокоенным тоном.
В его словах было столько ненависти, что Матильда просто отказывалась ее понимать.
Она могла бы рассказать о том случае, как однажды она прождала его сорок пять минут в глубине какой-то промзоны, пока он якобы искал машину, тогда как парковка находилась всего в паре сотен метров.
Могла бы рассказать о деловых встречах, которые отменялись в последнюю минуту, о собраниях, перенесенных без ее ведома на другое время, о раздраженных вздохах и колких замечаниях под маской юмора, о том, как ее звонки оставались без ответа, тогда как она точно знала, что Жак находится на месте.
Упущения, ошибки, взаимное раздражение – все это, по отдельности, является неотъемлемой частью жизни обычного офиса. Но мелочи накапливались, без шума, без грохота, и перед таким их количеством Матильда в конце концов сломалась.
Она думала, что сможет сопротивляться.
Она думала, что готова к этому.
Постепенно, незаметно для себя, она привыкла. Забыла, как она работала раньше, в чем состояли ее обязанности, как она когда-то проводила в конторе по десять часов в день не поднимая головы.
Она не знала, что все может зайти так далеко, что и не вернуть.
Не знала, что компания может закрывать глаза на подобную жестокость, какой бы скрытой она не была. Иметь в своем организме растущую раковую опухоль – и никак на это не реагировать, не пытаться ее излечить.
Матильде часто вспоминается игра «шамбульту»[2], которую обожают ее мальчишки. Пустые консервные банки: дети сбивают их меткими ударами на ежегодной школьной ярмарке, пока последняя не упадет.
Она как та мишень, и на сегодняшний день от нее почти ничего не осталось.
Но когда она задумывается об этом, лежа вечером в постели или погрузившись в горячую воду в ванной, она отчетливо понимает, почему до сих пор не сказала никому ни слова.
Она молчит, потому что ей стыдно.
Глава 7
Матильда открывает платяной шкаф, достает трусики, брюки, блузку. В соседней комнате у Симона включилось радио. Несколько минут спустя он стучит в ее дверь и спрашивает, не пора ли будить близнецов. Матильда бросает взгляд на часы: она пока еще успевает. Она идет на кухню и там замирает на мгновение, продумывая, что и в каком порядке ей предстоит сейчас сделать. Она не включает старый приемник: ей надо сосредоточиться. В дверях появляются Тео и Максим и тут же кидаются ей на шею, чтобы поцеловать. Их тела горячие со сна; Матильда нежно гладит их лица, еще слегка помятые от подушки, вдыхает их запах. Сейчас, когда они ее обнимают, все неурядицы собственной жизни на краткий миг кажутся ей незначительными. Ее место здесь, рядом с ними, а остальное неважно. Она позвонит врачу, вызовет его прямо к себе домой, объяснит ему все. Он ее осмотрит и подтвердит, что она полностью обессилена, что в ее теле не осталось ни атома, ни импульса. А после его ухода она до полудня проваляется в постели, потом встанет, отправится в магазин за покупками, или выйдет куда-нибудь в люди, чтобы наполниться чужим шумом, блеском, движениями. Она приготовит еду, которую обожают ее сыновья, например блюда, в которых все ингредиенты будут одного цвета или начинаться на одну букву, накроет красивый стол и будет ждать их возвращения, она…
Она вызовет врача. Как только дети уйдут.
Едва усевшись за стол, Тео принимается болтать. Он всегда был самым языкастым, знал десятки шуток, множество историй – смешных, грустных, заставляющих зевать или вызывающих страх. Решительно потребовав внимания, он пересказывает братьям телепередачу о книге рекордов Гиннеса, которую он видел на днях у приятеля. Сперва Матильда слушает его вполуха. Она наблюдает за сыновьями; все трое такие красивые. Тео и Максиму исполнилось по 10 лет, и они совершенно разные; Симон уже перерос ее, от отца он унаследовал широкие плечи и особенную манеру сидеть на краешке стула, слегка раскачиваясь. Мальчики чему-то засмеялись, и Матильда заставляет себя прислушаться к разговору. Как оказалось, какой-то тип установил рекорд по количеству лифчиков, расстегнутых за минуту одной рукой. А другой чудак за то же время смог восемьдесят раз спустить и вновь натянуть трусы.
«Расскажи еще о каких-нибудь достижениях!» – кричит Максим, задыхаясь от смеха. Тео не надо упрашивать. Один человек языком завязывает в узелки черешки от вишен, другой – палочками ест шоколадные конфеты-драже. Братья дружно хохочут. Матильда одергивает их: уместно ли здесь говорить о достижениях? Ну подумайте сами, что это на самом деле за успехи; разве не унизительно – десяток раз снять и надеть трусы, чтобы стать чемпионом мира в этой категории? Дети задумываются, потом соглашаются. Только Тео добавляет с необычайно серьезным видом:
– Ну а тот тип, который разрезает банан надвое голой рукой, смотри, вот так, и прямо с кожурой, это ведь настоящее достижение, а, мам?
Матильда смеется и гладит Тео по щеке.
Мальчики тоже смеются, все трое: давно они не видели маму такой веселой.
Последние недели, сидя утром с детьми за столом на кухне, Матильда замечает, что мальчики с надежной вслушиваются в ее голос и ищут на ее лице улыбку – но улыбки у нее больше нет, и она не знает, что им говорить. Иногда ей кажется, что сыновья смотрят на нее как на бомбу, готовую вот-вот взорваться.
Но не сегодня.
Сегодня, 20 мая, мальчики надели свои ранцы и вышли из дома уверенными и спокойными.
Сегодня, 20 мая, день начался со смеха.
Глава 8
Лиля поставила свою сумку в багажник и села рядом с ним. Перед тем, как тронуться, Тибо позвонил на базу и предупредил, что заступит на смену на полчаса позже. Роза ответила, что пока найдется, кем его подменить. Самая горячка еще не началась.
По дороге они не разговаривали. Через час Лиля задремала, привалившись к окну; из ее рта к подбородку протянулась тонкая струйка слюны.
Тибо подумал, что он ее любит, любит всю целиком – ее запахи, ее тело, ее вкус. Он подумал, что никогда прежде он не любил вот так, до самозабвения, каждую секунду, с неизбывным ощущением, что все непрочно, что ничего невозможно удержать.
На подъезде к Парижу движение стало интенсивнее. За несколько километров до окружной дороги они почти намертво встали. Зажатый позади грузовика, Тибо перебирал в памяти каждое мгновение вчерашнего ужина. Вот он, облокотившись на стол, наклонился вперед; он тянется к ней. А Лиля откинулась на стуле – как всегда сохраняет дистанцию. Тибо видит себя, видит, как он все больше увязает, пытаясь как можно точнее ответить на вопросы, которые она не перестает ему задавать: что ты ищешь, чего бы ты хотел, что ты хочешь получить – в идеале и нет? Шквал вопросов – ради того, чтобы ничего не говорить о себе, о собственных поисках. Чтобы удобнее было молчать.
Вот он: прилагает все усилия, чтобы казаться веселым, остроумным, интересным, беззаботным.
Вот он, лишенный всех своих тайн, обнаженный.
Вот он: муха, пойманная в стакан.
Тибо уже и позабыл, каково это – чувствовать себя настолько уязвимым. Неужели любовь всегда сопряжена с такой слабостью? Этот неотступный страх все потерять, сделать неверный шаг, сказать что-нибудь не то, одно злосчастное слово. Эта неуверенность в себе, в сорок лет как в двадцать. Но тогда можно ли представить себе что-либо более жалкое и безнадежное?
Перед ее домом он заглушил мотор. Лиля проснулась. Тибо наклонился к ней, чтобы поцеловать. Его язык проник к ней в рот. В последний раз. Он положил ладонь ей на грудь, провел рукой по ее коже – ощущение, которое он так любил, – и затем сказал:
– Нам надо перестать встречаться. Я больше не могу, Лиля. Я больше не могу. Я устал.
Невыносимо банальные слова. Истертые слова, которые оскорбляли его боль. Но других у него не было.
Лиля выпрямилась, открыла дверь, вышла. Обогнула машину, чтобы забрать вещи из багажника. Вернулась, уже с сумкой на плече, наклонилась к Тибо и сказала:
– Спасибо.
И затем, помолчав:
– Спасибо за все.
Ее лицо не выражало ни муки, ни облегчения. Ни разу не оглянувшись, она вошла в здание.
Вот он и сделал это.
Тибо сообщил Розе, что готов приступить к работе, и она скороговоркой продиктовала ему первый адрес: сильный жар, признаки гриппа. Несколько минут спустя она перезвонила ему с вопросом: не может ли он в нагрузку к своему четвертому участку взять еще и шестой? Фразера вчера сломал запястье, перелом со смещением. Диспетчер пока не нашел врача ему на замену.
Тибо согласился.
Он только что припарковался на стоянке возле здания, где его ждут. Он смотрит на свой телефон, отлично понимая, на что надеется. Он знает, что весь день будет поглядывать на экран мобильника, прислушиваться, не прозвучит ли сигнал SMS. Когда-то разнарядка выездов осуществлялась по радио. Теперь из соображений конфиденциальности служба скорой помощи снабдила своих сотрудников мобильными телефонами, подключенными к системе коротких номеров. И каждый раз, когда с базы придет новый адрес, он невольно будет надеяться увидеть на экране имя Лили. Ближайшие недели сигнал мобильника будет для него источником мучений.
А вдруг она все-таки затоскует по нему? Ощутит головокружительную пустоту, которую не сможет игнорировать? Тибо надеется, что пройдет какое-то время, и ее охватят сомнения, она постепенно осознает, что значит его отсутствие. Ведь должна же она понять, что никто ее не будет любить так, как он, несмотря на барьеры, которые она сама установила, несмотря на глухую стену, которой она отгородилась от окружающих, и о которой можно лишь догадываться по вырывающимся у нее изредка полусловам.
Смешно. Он просто смешон. Нелеп. Кем он себя считает? Что за исключительность, что за превосходство он себе приписывает?
Лиля не вернется. Она примет все как есть. Сейчас она, несомненно, поздравляет себя с таким исходом: легким, удобным, преподнесенным на блюде. Она-то знает, что те, кто в любви отдают больше, чем получают в ответ, в конце концов начинают тяготить.
Ему пора: первый на сегодня пациент уже ждет. Выйти из облака Лилиных духов, что висит в воздухе. Оставить окна приоткрытыми.
«Надо выдернуть капельницу», – заявил ему однажды Фразера, специалист по переломам – и не только запястья. Они зашли в бар пропустить по стаканчику после длинного уик-энда, который оба провели на дежурстве. Под влиянием выпитой водки, что бежала по венам теплой волной, Тибо рассказал ему о Лиле: это чувство, будто сжимаешь в руках нечто неуловимое, текучее. Будто пытаешься ухватить пустоту: безнадежный жест.
Фразера тогда посоветовал ему уходить немедленно. Стратегическое отступление, сказал он. И добавил, отрешенно глядя в свой стакан:
– В любви изначально заложена неисчерпаемая жестокость.
Тибо сидит в машине, припаркованной возле безликого многоэтажного дома. В последний раз смотрит на экран телефона – проверить, не пропустил ли он сигнал.
Он это сделал. Он все-таки сделал это: выдернул капельницу.
Он это сделал и теперь может гордиться собой.
Она улыбнулась. Будто ожидала этого. Будто давно была готова к этому.
Она сказала: «Спасибо». Спасибо за все.
Неужели можно быть настолько слепой, чтобы не разглядеть чужого отчаяния?
Глава 9
Едва закрыв за собой дверь, Матильда опускает руку в сумку. Пальцы ощущают прикосновение металла. Ее постоянно преследует страх что-то забыть: ключи, телефон, кошелек, проездной.
Прежде такого не было. Прежде она не боялась. Прежде, когда ее ничто не тяготило, ей не было нужды все перепроверять. Вещи не прятались от ее взгляда, наоборот, они были с нею заодно, и все выходило естественно и свободно. Прежде вещи не ускользали за мебель, не опрокидывались, не становились на пути.
Она так и не позвонила. С тех пор, как их терапевт ушел на пенсию, у нее больше нет семейного доктора. Она нашла было какого-то врача по интернету, но, уже набирая номер, подумала, что это бессмысленно. Она не больна – она просто устала. Как сотни других людей, с которыми она пересекается ежедневно. Тогда на каких основаниях? Под каким предлогом? Допустим, явится к ней незнакомый человек – и что она ему скажет? Просто скажет: я больше не могу. И закроет глаза.
По лестнице Матильда спускается пешком. На одном из этажей она встречает господина Делебара, соседа снизу, который не менее двух раз в неделю заявляется к ней с жалобой, что дети слишком шумят. Даже когда мальчиков нет дома. Господин Делебар принимает вид смертельной усталости; он слабым голосом приветствует Матильду. Она, не останавливаясь, проходит мимо, ее рука скользит по перилам, а ноги неслышно ступают по бархатистому ковру. Сегодня у нее нет ни малейшего желания задерживаться на несколько минут, чтобы перекинуться с ним парой слов, выслушивать его, казаться любезной. Ей совсем не хочется вспоминать о том, что господин Делебар – больной и одинокий вдовец, и все, что ему осталось – вслушиваться в шум сверху, преумножать его и попросту выдумывать, ей не хочется представлять себе, каково это – быть затерянным в тишине огромной квартиры.
Потому что она себя знает. Она знает, к чему это ее приведет. С ее склонностью искать чужим поступкам объяснения, смягчающие обстоятельства, оправдывать их. Чтобы в итоге прийти к выводу: у людей есть все основания быть такими, какие они есть. Но не сегодня. Нет. Сегодня она способна сказать себе, что господин Делебар – просто дурак. Потому что сегодня – 20 мая. И что-то непременно должно произойти. Потому что дальше так продолжаться не может, слишком неподъемная цена. Цена, которую она платит за возможность иметь служебное удостоверение, пропуск в столовую, страховой полис, проездной на три зоны метро. Цена, которую она платит, чтобы не выпасть из потока.
Матильда идет через сквер. Утро еще не утратило своей свежести; в этот час улицы кажутся вымытыми, обновленными; вдалеке слышен грохот мусоровоза. Матильда смотрит на часы и ускоряет шаг; каблуки стучат по тротуару.
Спустившись в метро, Матильда замечает, что на перроне необычно много народу. Люди стоят плотной толпой, не заходя, однако, за пластиковую ленту, обозначающую границу безопасной зоны. Сидячие места заняты, повсюду царит атмосфера угрюмого возбуждения. Матильда поднимает глаза на электронное панно, но вместо цифр, обозначающих время до прихода следующего поезда, на табло горят две полосы. На весь перрон раздается женский голос: «В связи с аварией на линии движение в направлении мэрии Монтрёй приостановлено».
Тем, кто каждодневно пользуется общественным транспортом, хорошо знаком этот особенный язык службы оповещений метро, его синтаксис, иносказания и многозначные обороты. Матильда уже успела выучить эти фигуры речи и может прикинуть, насколько опоздает поезд. «Техническая авария», «перевод стрелок», «координация трафика» означают, что задержка будет незначительной. А если сообщают о «проблемах со здоровьем у пассажира», то есть повод для беспокойства: это значит, что где-то, на другой станции, кто-то упал в обморок, или нажал на тревожную кнопку, или нуждается в эвакуации. «Проблемы со здоровьем у пассажира» могут надолго перекрыть движение. Но хуже всего «несчастный случай с пассажиром» – формула, под которой обычно подразумевается суицид. Эти слова парализуют трафик на несколько часов: надо убрать останки.
В Париже раз в четыре дня какой-нибудь человек бросается под поезд. Матильда читала об этом в газете. Транспортная информационная служба предпочитает не приводить точную статистику, зато известно, что уже много лет функционируют кабинеты психологической поддержки для машинистов, ставших причиной несчастного случая. И не всем удается оправиться. Их признают профессионально непригодными и списывают в кассиры или офисные работники. В среднем, каждый машинист хотя бы раз за свою жизнь сталкивался с попыткой суицида. А в больших городах люди, должно быть, кончают с собой еще чаще. Матильда не раз задавалась этим вопросом, но даже не старалась найти на него ответ.
Последние месяцы, когда она возвращается с работы, ее взгляд поневоле приковывается к рельсам, к щебенке на путях, к черной дыре туннеля. Порой она чувствует, что ее тело, обессиленное и жаждущее отдыха, вот-вот качнется вперед.
Тогда она думает о Тео, Максиме и Симоне. Их образы, яркие и подвижные, заслоняют другие, все другие, и Матильда делает шаг назад от края платформы.
Она пытается отвоевать себе место в толпе. Свою территорию еще надо заслужить. Надо учитывать порядок прибытия поездов и не вторгаться в чужое личное пространство, которое уменьшается по мере того, как перрон заполняется людьми.
Ни один состав не объявляют.
Она не успевает на поезд в 8:45, не успевает на 9-часовой, ни даже на следующий, в 9:15. Конечно, она опоздает. И, разумеется, когда она выйдет из лифта, или у дверей своего кабинета она наткнется на Жака, который везде ее ищет, и он не преминет дать ей об этом знать (пусть он уже три недели не обращался к ней ни единым словом): он с недовольной миной посмотрит на часы и нахмурит брови. Жак внимательно следит, во сколько она приходит на работу и уходит домой, замечает, когда ее нет на месте, выжидает, когда она совершит оплошность. Сам он живет в пяти минутах езды на машине, и ему плевать, что ей, как и большинству городских служащих, каждый день приходится проделывать долгий путь, и что ее опоздание может быть обусловлено множеством объективных причин.
Сейчас самое главное – занять правильное место на перроне. Не дать толпе увлечь тебя назад, держаться своей позиции. А когда подойдет поезд, до отказа набитый раздраженными пассажирами, придется побороться. Согласно неписаному закону, своеобразному подземному кодексу, существующему десятки лет, первые остаются первыми. Любая попытка нарушить это правило тут же пресекается. Издалека доносится грохот, рельсы слегка подрагивают, словно вот-вот подойдет столь долгожданный состав. Но туннель остается пустым и темным. Электронное табло по-прежнему немо. Женский голос молчит. Становится жарко. Матильда украдкой разглядывает других, мужчин и женщин, их одежду, обувь, прически, их зады; она изучает их спины, лица и профили: надо себя чем-то занять. Встретившись с кем-то взглядом, она отводит глаза. Даже в часы пик в общественном транспорте существует некая интимная зона, кокон, условная граница (раз уж невозможно отгородиться физически). Тогда Матильда переводит взгляд на противоположную платформу. Почти пустую.