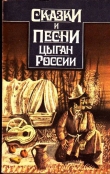Текст книги "Литература и фольклорная традиция, Вопросы поэтики"
Автор книги: Д Медриш
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
История русской песни сложилась иначе. Русская литература средних веков практически не знала лирических жанров (хотя, конечно, не лишена была лиризма) 120. Не знала она " любовной темы. Поэтому в течение длительного времени процесс был однонаправленным: народная лирика оказывала воздействие на литературу, в то же время довольно долго почти не испытывая ее обратного влияния. Но я влияние фольклорной лирики на литературу-явление у нас сравнительно позднее, а любовная тема появляется в русской книжной поэзии лишь в XVIII веке121.
Мы отметили на примере двух национальных традиций различия, относящиеся к условиям существования песенных жанров фольклора, а еще Гегель заметил: "именно песенная поэзия, в отличие от эпоса, никогда не вымирает, но всегда пробуждает себя к новой жизни"122.
Таким образом, во-первых, наиболее постоянное и продолжительное влияние на испанскую литературу оказывал, если говорить о песенном фольклоре, повествовательный (лиро-эпический) жанр, тогда как на русскую литературу, особенно в пору мощного развития реализма,-жанр лирический.
Во-вторых, испанский романс постоянно находился в сфере литературного воздействия (в нашем тексте, в частности, слышен отзвук и рыцарской поэзии с ее любовным кодексом, регулирующим любовные отношения и четко определяющим границы, вне которых соблюдение верности уже не но 123), так что из романса подчас возвращались в литературу, в несколько измененном обличье, ее же собственные элементы и свойства и, с другой стороны, романс воспринимал из книги подчас свою же традицию, но уже несколько олитературенную. Это пример "открытого" развития жанра. Русское средневековье, как уже было сказано, напротив, не знало книжной любовной лирики, и русская народная любовная песня складывалась первоначально вне прямого литературного воздействия, а русская литература всякий раз имела дело с народной лирической песней в ее практически "чистом", свободном от книжной традиции, виде124.
Очевидно, при длительном сосуществовании литературы и фольклора подчас происходит такое разграничение функций, когда тот или иной фольклорный жанр обслуживает все общество, и в этом случае, при полном отсутствии литературных аналогов, утверждается устойчивая фольклорная форма, способная на протяжении долгого времени оказывать заметное влияние на эстетическое сознание народа. Такова судьба русской лирической песни, и это пример "закрытого" развития жанра.
Неудивительно поэтому, что на протяжении более чем столетия многие русские поэты, начиная с Некрасова, обращаясь к народной песне, зачастую прибегают к большей или меньшей эпизации песенного первоисточника,-и не только в поэмах, но и в лирических стихотворениях, подчас путем таких почти неуловимых сдвигов, какие мы наблюдаем в поздней лирике Твардовского. Между тем испанскому поэту возможности обновления романсового жанра виделись на пути его лиризации, и в этом смысл признания Гарсиа Лорки, страстного борца против имитации фольклора, за творческое его освоение: "Романс занимает меня с 1919 г. Обычный романс был повествовательным. Я решил сплавить повествовательный романс с лирикой"125. Жанровое родство западноевропейской баллады и испанского романса – бесспорно; однако судьбы этих жанров в литературе складываются различно. Если литературная баллада, на протяжений столетий переживавшая периоды подъема и спада, вот уже в течение полутора веков (в английской литературе; в других и того более) не участвует в активной поэтической жизни, с романсом прочно связаны все важнейшие этапы развития испанской литературы, в том числе и новейшей. Лорка придал новый характер тенденции, уже давно дававшей себя знать в развитии испанской поэзии: романс, попадая в литературную среду, насыщался лиризмом и в этом виде вновь возвращался в фольклорную стихию. В этой лиризации романса, по-видимому, и заключалась "одна из возможностей исторического спасения жанра, реализованная национальной литературой" 126.
То, что завязалось в народном творчестве времен Колумба и Афанасия Никитина, неповторимо отозвалось в исканиях великих национальных поэтов нашего времени.
Итак, русский фольклор выделяется одной важной особенностью, а именно-поляризацией жанровой структуры. Иначе говоря, русский фольклор демонстрирует относительную определенность и устойчивость лирических жанров, с одной стороны, и эпических – с другой, при относительно небольшой роли жанров лиро-эпических, в то время как лиро-эпические жанры (романс, баллада) в фольклоре испанцев (в большей мере), а также поляков, чехов, болгар, сербов играют роль если не исключительную, то уж во всяком случае равновеликую с жанрами эпическими и лирическими. В той или иной степени последнее свойственно фольклору многих других европейских народов, тогда как других, кроме русского фольклора, примеров жанровой поляризации мы привести пока не можем.
Если той роли, которую в испанском народном творчестве играет романс, он обязан обстоятельствам как внутренним (взаимодействие эпических и лирических фольклорных жанров), так и внешним по отношению к фольклору (постоянный обмен с литературой), то ведущее место баллады у южных славян определяется факторами преимущественно внутреннего, а у западных-внешнего порядка.
О существенной роли лиро-эпической баллады в фольклоре южных и западных славян имеются многочисленные высказывания исследователей. Так, мнение болгарских ученых сводится к тому, что у болгар "народная баллада в течение веков была основной поэтической формой фольклора"127. Н. И. Кравцов замечает, что "в болгарском и сербском устном творчестве своеобразное явление представляет собой значительное проникновение в народную лирику структурных и образных элементов героического эпоса, на основе чего возникают формы, которые справедливо называть "лиро-эпическими"128.
О роли чешской баллады в фольклорно-литературных контактах В. Кохоль сообщает следующее: "Чешская баллада в вековом своем развитии демонстрирует нам жанровое круговращение (kolobeh) от народа и фольклора к литературе и от литературы снова к народу" 129. О том, что "наиболее важным жанровым вкладом фольклора в литературу является , баллада", В. Кохоль говорит как о факте общепризнанном (статья его построена на чешском и отчасти на словацком материале), а К. Горалек, рассматривая жанровую реализацию одного песенного мотива (тема супружеской неверности), приходит к заключению, что на западе славянского мира он бытует в песнях балладных, тогда как на востоке-в лирических 130. В этом плане русский фольклор не похож даже на соседний и во многом близкий ему украинский, в котором баллада занимает особое место 131. "Балладная доминанта" свойственна, вероятно, и другим европейским народам, балканским в особенности. Относительно румынской словесности это отмечают О. Пападяма, П. Рукандою, Дж. Мунтян, В. Бугарць-в специальном номере журнала "Румынская литература" 132. Не следует ли в этом усматривать одну из причин того, что "балладный" по своей сущности мотив ослепления зодчих нашел свое осуществление в песенном фольклоре болгар и сербов, румын и испанцев,-но так и не реализовался в русской народной поэзии?
Естественно, что жанровая структура народной словесности накладывает свой отпечаток на развитие национальной культуры вообще и литературы в особенности133.
Лирическая ситуация и "русская форма". Чехов и фольклор
В принципе можно говорить о двух основных типах сюжета-"сказочном" и "песенном". В повествовательных произведениях Пушкина 30-х годов просматривается остов "сказочного" сюжета. Сюжет "песенного" типа складывается в русской повествовательной литературе позднее. Его утверждение связано с творчеством А. П. Чехова.
Сама постановка вопроса-Чехов и фольклор-может показаться неправомерной, и не столько потому, что подобная задача почти не ставилась, сколько как раз в свете тех выводов, которые были получены в немногочисленных исследованиях на эту тему. Если свести проблему к учету упоминаний фольклорных жанров или сюжетов в произведениях писателя либо случаев цитирования им лирических песен и колядок или использования пословиц и поговорок, то результаты окажутся более чем скромными. Между тем вопрос о фольклоризме Чехова ставился до сих пор именно в таком плане 134. Творчество едва ли не любого русского писателя, не исключая и современников Чехова, дает при подобном подходе материал и более обильный, и более разнообразный.
Одна черта этих работ должна быть отмечена и осмыслена особо. Если перечислить все упоминаемые авторами произведения, то окажется, что подавляющее большинство из них относится к начальному периоду чеховского творчества (до 1888 г.). Между тем ни Б. А. Навроцкий, ни С. Ф. Баранов никаких оговорок насчет хронологических рамок своих исследований не делают напротив, из заглавий их работ следует, что предметом изучения служит творчество Чехова в целом. Закономерный результат: фольклоризм Чехова, если понимать под этим термином прямое использование фольклора или явные отклики на него, прослеживается почти исключительно на раннем этапе его творчества. Когда фольклоризм Чехова рассматривают с иной точки зрения, исходя из того, что "соответственно со своими общими принципами, Чехов приходит к формам скрытого обращения к народно-поэтической стихии" и "стремится как бы растворить принципы фольклора в своем повествовании – строгом, лаконичном, нейтральном"135, то обращаются к одному из последних чеховских созданий опубликованной в 1900 году повести "В овраге". М. Е. Роговская не первая обратила внимание на наличие в этой повести фольклорных мотивов, однако подход предшественников ее уже не удовлетворяет: "Мало указать на источники, так или иначе, иногда очень косвенно отразившиеся у Чехова. Более важно, очевидно, попытаться установить, в чем своеобразие его использования фольклора, какова художественная функция фольклорного мотива в произведении"136. Методика исследования здесь такова: при помощи "верхнего слоя повествования", содержащего фольклорные упоминания или намеки, используя в качестве своеобразных указателей те места текста, где Чехов "как бы слегка опирается" на фольклорное произведение, исследователь стремится обнаружить "более. определенные фольклорные пласты"1ЭТ. Например, постукивающие каблуки старика Григория выделены как своеобразный лейтмотив, фольклорный первоисточник которого указан в самом тексте повести: старик "постукивал каблучками, как свекор-батюшка в известной песне". Наблюдение справедливое, и во всех других подобных случаях такая методика себя оправдывает. Однако если с таких же позиций подойти к другим произведениям Чехова последних 10-15 лет его творчества, то вряд ли результат окажется столь же обнадеживающим. "В овраге" сам Чехов определял как "повесть... из народной жизни" (письмо к Г. И. Россолимо от 31 января 1900 г.)" и, вполне естественно, фольклорные вкрапления обнаруживаются здесь все же сравнительно легко (кстати, на эту повесть ссылается и С. Ф. Баранов). Большинство произведений Чехова к этой категории ("из народной, т. е. крестьянской, жизни") не относится и фольклорных ориентиров, подобных отмеченным М. Е. Роговской, не содержит. Здесь требуется иной подход.
Итак, на разных этапах творчества Чехова фольклоризм его приобретал различный характер, и приемы изучения, вполне надежные в применении к одному, более раннему периоду, "не улавливают" фольклоризма более поздних произведений. Кроме того, методику исследования приходится разнообразить, учитывая тематические, жанровые и другие особенности каждого произведения.
Очевидно, не в отдельных "случаях", заимствованиях следует искать проявления взаимосвязей литературы и фольклора, когда дело касается такого "нефольклористичного" писателя, как Чехов. Он не отличался тем пристрастием к пословицам и поговоркам, которое мы находим у [Крылова, не создавал песен в фольклорном духе, как Некрасов, не обращался к сюжету и стилю народных сказок, как Пушкин и Лев Толстой. Уже после смерти Чехова Л. Н. Толстой заметил как-то: "Мы все учимся у народа... Ломоносов, Державин, Карамзин до Пушкина, Гоголя, – и даже о Чехове это можно сказать, да и я!"138. Толстой замечает: "даже о Чехове",-допуская, что не всякий с этим согласится.
Современный исследователь Л. П. Емельянов говорит о трех группах авторов, располагая их по убывающей в зависимости от того, насколько наглядной и поддающейся прямому наблюдению оказывается связь писателя с фольклором. К первой группе причислен Кольцов, ко второй-Пушкин, к третьей-Чехов. Справедливо заметив, что вопрос "фольклор и литература"-"есть и всегда будет одним из самых сложных и, хочется сказать, самых деликатных вопросов эстетического развития", Л. И. Емельянов высказывает особые опасения относительно художников третьей группы. В этом случае, по его убеждению, "проблема взаимоотношений фольклора и литературы может стоять лишь как проблема теоретическая (а у нее свои принципы, свои методы и свой материал)"139. Как именно эти принципы и методы будут выглядеть – этот вопрос Л. И. Емельянов оставляет открытым. Согласимся, что полезны уже его предостережения об опасностях, которые ожидают исследователя на пути к ответу.
На особые сложности, с которыми сталкивается исследователь при изучении "скрытого" фольклоризма, указывает и У. Б. Далгат. Подражательному, "элементарному" фольклоризму она противопоставляет "эстетически усложненный, суггестивный, "скрытый" фольклоризм, который порою трудно распознать без особой расшифровки. Для этого, – продолжает У: Б. Далгат,-недостаточно только вчитываться в текст,. а необходимо выявлять все авторские сплетения, дифференцируя интегральную сумму всего творческого процесса"140.
Нам представляется, что такое исследование поэтики будет иметь своим предметом не столько случаи прямого взаимодействия между определенными произведениями фольклора и литературы, сколько механизм воздействия "а литературу черт, свойств и способов выражения и изображения. Эти поэтические импульсы, существуя в фольклоре, быть может"-многие века, сохраняясь в "скрытом состоянии" (estado latente, по терминологии Менендеса Пидаля) и воздействуя на развитие художественного слова в виде неких катализаторов, воспринимаются писателем не в их непосредственно фольклорном виде, а как органическая часть эстетического народного сознания, подчас художественно неоформленного141, но нередко и воплощенного в виде живой и развивающейся литературной традиции. Более полно такая типологическая близость проступает внутри одной национальной культуры; в то же время результаты, достигнутые художником на этой .основе, могут перешагнуть национальные рубежи и стать всеобщим достоянием.
"Не оконтуренная сюжетом" чеховская композиция ее фольклорные соответствия
Говоря о художественной заслуге Бунина, А. Т. Твардовский обратил внимание на развитие им "чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюденного художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет "замкнутой" концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы". Отметив, что "в наиболее развитом виде эта русская форма связывается с именем Чехова", автор статьи о Бунине далее высказывает предположение: "Может быть, зарождение этого жанра прослеживается и из большей глубины По времени, но ближайшим классическим образцом его являются, конечно, "Записки охотника"142.
Определение отмеченной конструкции как ."русской формы" в качестве ее жанровой характеристики встречается у многочисленных исследователей, как отечественных, так и зарубежных. К примеру. Д. Брюстер свидетельствует, что с 20-х годов "каждый рассказ без завязок и развязок в духе О`Генри и освобожденный от приманок в виде тайн и сюжетной напряженности, назывался американскими критиками "русским" или "чеховским"143. Что же касается предположения Твардовского о глубинных, в историческом плане, истоках чеховских открытий, то оно представляется перспективным и заслуживающим самого серьезного внимания. Конечно, новации в сюжетостроении – не единственное и, возможно, не главное из того, что внес Чехов в развитие поэтики, однако именно эти новшества выделяет Твардовский-в полном соответствии с мнением литературоведа, высказанным позднее: "Смысл тех изменений, которые Чехов внес в поэтику рассказа, можно проследить во многих его компонентах. Но наиболее наглядно эти перемены проявились в особенностях сюжета, фабулы и композиции чеховских произведений"144.
Первое проявление "неоконтуренной" чеховской композиции-это так называемая "нулевая" развязка (zero ending). Известно, как долго и упорно не принимали это чеховское нововведение современники,. Они жаждали продолжения уже завершенных его вещей. "Хорошо,-писал Чехову Лейкин по поводу повести "Три года. – Но, по-моему, вы не кончили рассказа. Это только первая часть повествования. Продолжайте" 145. Концовка "Дома с мезонином" настолько не укладывалась в традиционные представления о повествовательном сюжете, что в статье А. М. Скабичевского "Больные герои больной литературы" предлагалось единственно возможное, с точки зрения критика, завершение судьбы героя: "Ведь Пензенская губерния не за океаном, а там, вдали от Лиды, он беспрепятственно мог бы сочетаться с Женею узами брака..."146. В столь прямолинейном высказывании традиционно "сказочная" модель сюжета проступает особенно отчетливо. А "Дом с мезонином" завершался прямой речью, к тому же в вопросительной форме (явление, характерное для лирической песни, но в волшебной сказке, как и в дочеховской прозе, совершенно невероятное): "Мисюсь, где ты?" Иному недалекому читателю развязка подчас представлялась близкой и простой, и он недоумевал, почему у Чехова она отсутствует. В архиве писателя сохранилось письмо по поводу его пьесы "Три сестры". "Что удерживает (сестер.-Д. М.).в провинции,-спрашивала учительница из Воронежа, – почему они не могут переехать в Москву?.. Мне кажется, что с их средствами, а главное, с их образованием, они всегда могли бы хорошо устроиться в столице" 147. Можно было бы привести еще немало высказываний на этот счет, в том числе и курьезных148, но тогда создалось бы превратное представление о существе вопроса. Чеховская "неоконтуренная" композиция показалась настолько неожиданной и необычной, что одно время смущала даже" Льва Толстого. "Степь"-прелесть,-говорил он А. Г. Русанову. – Описания природы прекрасны. Рассказ этот представляется мне началом большого биографического романа, и я дивлюсь, почему Чехов не напишет его..."149.
Сегодня правомерность чеховских финалов уже ни у кого не вызывает сомнения150. Им не только не удивляются – им уже на протяжении нескольких десятилетий подражают и у нас, и за рубежом. "Мода" на "zero ending" вызвала остроумную реплику Дж. Голсуорси: "Что касается Чехова, я бы сказал, что его рассказы на первый взгляд не имеют ни начала,, ни конца, они-сплошная серединка, вроде черепахи, когда она спрячет хвост и голову. Однако подражатели его подчас забывали, что хвост и голова все же имеются, хоть и втянуты внутрь"151.
Отказ Чехова от традиционных концовок одни объясняют характером его героя (А. Горнфельд) 152, другие-антропоцентризмом писателя (Е. П. Барышников)153, третьи–тем,, что эпоху переоценки ценностей Чехов представил именно как процесс размышления, а не действия, изобразил явление в реальной и естественной для данной эпохи форме (эту причину отсутствия в произведениях Чехова "результата" называет писатель С– Залыгин: "Мастер слова, он тревожно чувствовал несоответствие слова делу, различие между словом ради результата и действительным результатом"154); четвертые отсутствие фабульных концовок у зрелого Чехова объясняют жанровыми сдвигами в русской литературе на рубеже двух веков и уходом открытой толстовской субъективности в подтекст (чехословацкая исследовательница С. Леснякова) 155. Вряд ли стоит противопоставлять эти объяснения одно другому, тем более, что они взаимно дополняют либо уточняют друг друга; важно отметить, что общепризнаны как сам факт "открытости" чеховской композиции, так и видное его место в творческой системе писателя.
"Объективный лиризм" чеховских концовок обычно сравнивают с толстовскими финалами. В статье Н. И. Пруцкова четкие контуры эпической толстовской композиции в "Анне Карениной" (от эпиграфа до финала) сопоставлены с чеховским построением в его "Даме с собачкой", которая завершается "сильным лирическим аккордом"156. К аналогичным выводам в результате сопоставления тех же произведений пришел и Б. С. Мейлах157.
Выявить закономерности "сюжетного мышления" Чехова-основная задача, которую поставил перед собой 3. С. Паперный в статье "Рождение сюжета". Начав с сопоставления "Лешего" и "Дяди Вани", а затем расширив круг наблюдений, исследователь устанавливает наличие определенных,. всякий раз повторяющихся этапов, которые проходит творческий процесс у Чехова: "...сначала автор намечает "действенный" вариант, а затем, в процессе работы над ним, отказывается от непосредственного действия, поступка, образно говоря, "выстрела"; но не отказывается при этом от самого мотива – ему .придается иная, скрытая, мучительно-замедленная действенность". В результате "возникает действенность как ожидание действия. Не заряженное ружье, которое должно обязательно выстрелить, но ружье, которое должно стрелять – и не стреляет"158. И далее: "Трагическое-не в смерти, а в жизни,. которая медленно убивает человека, – эта мысль по-разному преломляется в сознании Чехова... Вместо сюжета, повествующего о том, что происходит, рождается сюжет, построенный по принципу: должно произойти/но не происходит"159. Вывод "сделан на основе драматических и прозаических произведений зрелого Чехова. Построена как бы модель чеховского сюжета. (В годы "Вишневого сада" она дополняется еще одним компонентом, но об этом ниже). И вот тут-то оказывается, что почти в том же плане подобного типа сюжет уже давно смоделирован. Мы имеем в виду песню, которая уже цитировалась по иному поводу и которая заканчивается словами:
"...Я убью твово нелюба с туга лука."
– Убить-то, мой сердечный друг, не убьешь,
Хоша убьешь, ты каку корысть получишь?
Только получишь ты напасти,
От которых напастей нам пропасти!
Ю. В. Шатин характеризует ряд чеховских рассказов и повестей как произведения "контекстно-романного типа сюжета" 160. По его мнению, в этих произведениях "возникает жанровый романный контекст, то есть совокупность мотивов, имеющихся в том или ином тексте, которые могут быть реализованы в романе и соответственно не могут в рассказе и повести" 161.
Такова особенность лирического сюжета. Если чеховский рассказ-это, в определенном смысле, несостоявшийся роман162, то русская лирическая песня-это несостоявшаяся сказка или баллада. Сказочные железные подошвы остаются не сношенными, балладное ружье-не стреляет.
Лирическая ситуация подчас оказывается у Чехова не только формой, но и как бы предметом изображения. Выше уже отмечено как характерное свойство народной лирики почти полное отсутствие в ней указаний типа "он подумал", "он сказал". В этом мы видим одно из проявлений неопределенной модальности: то ли сказал добрый молодец, то ли подумал, то ли послышалось девушке, что он сказал ей именно о там, о чем ей хотелось бы услышать. Чехов эту лирическую ситуацию делает основой сюжета-на ней построен рассказ "Шуточка". Показательно, что, перерабатывая рассказ для собрания сочинений, Чехов отбросил имевшуюся в журнальном варианте (1886 г.) развязку.
В чеховском повествовании дают себя знать и другие свойства лирической песенной речи. Так, с затруднениями при ответе на вопрос о том, кому принадлежит речь – повествователю или персонажу,-сталкиваемся не только в песенной лирике, но и при восприятии чеховской прозы. "Читателю,– замечает К. Чуковский о рассказе "Попрыгунья",-предоставляется догадываться, что только по внешнему виду рассказ ведется здесь от имени Чехова, а, в сущности, вся первая главка рассказа написана от имени Ольги Ивановны (...)
Здесь тот же рискованный и сложный прием, что и в. "Скрипке Ротшильда": повествование, имеющее все признаки авторской речи, является на самом-то деле речью одного из. персонажей рассказа"163. Такое разграничение здесь оказывается обязательным элементом читательского восприятия, причем "от читателя требуется удесятеренная зоркость и чуткость, чтобы размежевать эти разные речи"164, тогда как народная песня такого размежевания не требует (да оно там к неосуществимо). Различие важнейшее, но в обоих случаях– и в народной песне, и в чеховском повествовании-присутствует эффект соучастия повествователя, хотя мера совмещения позиций повествователя и героя в первом случае ясна и абсолютна, во втором – проблематична и изменчива.
Близость столь общих "моделей" дает основание предположить, что именно включение лиризма как важнейшего компонента повествования способствовало формированию художественной формы, получившей наименование русской, или чеховской.
Сопоставление чеховского повествования с построением музыкальных произведений делалось неоднократно165. Поиски более близких аналогий приводят к сравнению с лирическим стихотворением "с его повторением, варьированием тем и мотивов, игрой образов-символов"166. Это заметили уже современники Чехова, и Толстому принадлежит ставшая хрестоматийной характеристика: "Чехов-это Пушкин в прозе" 167.
Некоторые из возможностей, едва наметившихся в традиционной песенной лирике, получили затем своеобразное развитие в частушке. На типологическую соотнесенность чеховского повествования с народной песней указал в свое время Ал. Горелов: "Когда литература и фольклор совершенствуют поэтику в одном направлении (лирический подтекст, эмоциональный фон как средство создания и передачи настроения; запечатление "контрапункта" мышления) и, отражая общую эволюцию национального художественного сознания, достигают несомненного сближения, – на одном полюсе мы видим Чехова, на другом... частушку.
Парадоксальность этого явления – кажущаяся"168.
Незавершенный роман А. П. Чехова
Однако само по себе наличие лиризма в прозе еще не порождало новой повествовательной структуры (вспомним, что проникновение лиризма отмечено уже в древнерусской повести) ; да и не всякий лиризм вел к образованию "русской формы". Лиричной была проза современников Чехова – Гаршина и Короленко, чьи поиски шли, однако, в ином, чем у Чехова, направлении, и это явственно проявлялось в природе их фоль-клоризма1в9.
Сопоставление с фольклоризмом современников ярче подчеркивает тот факт, что у "русской формы" своя, во многом отличная от других повествовательных жанров соотнесенность с лирикой. Б. О. Корман справедливо отмечает "близость субъективной структуры и соответствующего ей стилистического строя многих, но далеко не всех явлений романной литературы и лирической поэзии"; с Чеховым утверждается в литературе форма, в которой "выдвижение в высказывание субъективной функции парадоксальным образом ведет не к ослаблению, а к усилению и осложнению функции объектной: сама субъективность речи становится в реалистической литературе новым объектом" 170.
Нам представляется, что именно русская народная лирика с ее объективным лиризмом, с ее деликатностью в проявлении чувств, демократичностью, вниманием к обычному течению жизни и со сложившейся на этой основе поэтикой при сопоставлении с произведениями Чехова помогает с особой наглядностью представить природу чеховского лиризма-к прежде всего его сюжетно-композиционные основы. Если бы нам удалось найти народную лирическую песню и произведение А. П. Чехова, в основу которых положены сходные, разумеется, по своим самым общим признакам ситуации и если бы в ходе сопоставления этих произведений при их "наложении" основные композиционные узлы совместились, то наше предположение можно было бы считать справедливым.
Обратимся к рассказу Чехова "После театра" и попытаемся найти ему песенный аналог. Выбор именно этого рассказа продиктован рядом обстоятельств. Во-первых, его создание (на основе ранее написанного рассказа) относится к 1892 году, т. е. ко времени, когда основные принципы чеховской поэтики уже сложились (но до их перестройки в конце 90 – начале 900-х годов). Во-вторых, рассказ оказался в числе отобранных автором для собрания сочинений (т. II, 1699 г.) и, следовательно, самим Чеховым, и притом в последние годы в его жизни, был отнесен к числу лучших. Наконец, в-третьих,. среди других рассказов Чехова, обладающих теми же свойствами, "После театра" занимает особое место. Как нам удалось установить, рассказ этот связан с неосуществленным чеховским замыслом, судьба которого до последнего времен" остается предметом дискуссий. Речь идет о задуманном Чеховым романе, который уже в ходе работы над ним (1887– 1891 гг.) получил название "Рассказы из жизни моих друзей". Очевидно, наблюдения над поэтикой одного из "рассказов" (два других-."У Зелениных" и "Письмо" 171) могут оказаться полезными при решении спорных вопросов творческой истории чеховского замысла в целом.
Изложим кратко содержание рассказа Чехова "После театра". Молодая девушка, оставшись вечером дома одна, вспоминает своих поклонников, не решаясь кому-либо из них отдать предпочтение. Никаких происшествий в произведении нег – есть размышление и настроение. Ясно, что героиня бескорыстна, что свою будущую жизнь она видит веселой и интересной, а потому появившуюся на мгновение мысль о монастыре она тут же отгоняет прочь. Так представляет она себе то, что может произойти – на этом рассказ завершается.
Примерно такую же ситуацию находим в лирической народной песне, текст одного из вариантов которой приведен выше ("Сидела Катенька поздно вечером одна"). Все компоненты композиции при "наложении" двух произведений совмещаются.
Близость построения русской лирической песни и чеховского рассказа несомненна, причем существенны здесь как раз. не те явные совпадения, которые прежде всего бросаются в глаза. Сходство отдельных фактов в двух столь различных произведениях-случайность. Существенно иное: как только совпали основные реалии и сходная ситуация, на их основе возникла композиция, подчиненная одному общему принципу-лирическая композиция. Это уже не совпадение-это типологическая общность.
Конечно, между героиней крестьянской песни, известной уже по первым сборникам XVIII века, и чеховской Надей Зелениной, находящейся под впечатлением только что прослушанной оперы Чайковского "Евгений Онегин", дистанция огромная, равно как и между устойчивой фольклорной традицией и новаторской поэтикой Чехова. Типологические сопоставления столь далеких художественных явлений не таят ли в себе подспудно угрозу дурной абстракции? Выбор жениха – ситуация настолько всеобщая, что, казалось бы, при любом характере повествования сюжетные соответствия неизбежны, и ни о каких глубинных корнях "русской формы" не может быть и речи. И то, что при "наложении" узловые моменты. лирической песни совпали с сюжетными компонентами чеховского рассказа, не говорит ли о том, что народная песня опирается на ту же, общую едва ли не для всех народов ситуацию-и только? Дело, однако, в том, что эта ситуация получает в прозе Чехова лирическое развитие172, наподобие того, какое мы находим в русской песне, а не лиро-эпическое, как в балладе или романсе (ср. с приведенным выше романсом-"Эта дама так прекрасна"). "Неоконтуренность" композиции в рассказе Чехова и в народной песне (при всех принципиально важных различиях этих двух произведений) не случайное совпадение. В этом убеждает нас сходство и в ряде других моментов, прямо или косвенно с этой "неоконтуренностью" связанных.