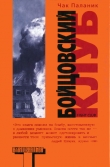Текст книги "Незримые твари"
Автор книги: Чак Паланик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
Все глубоко погружены в чтение этикеток на "Французской Горчице" и "Рисе а Рони".
Так что я беру индейку.
Сама не знаю зачем. Денег у меня нет, но я беру индейку. Копаюсь в куче больших замороженных индеек, крупных ледяных глыб телесного цвета, сложенных в холодильник. Копаюсь, пока не нахожу самую большую, и несу ее в объятьях, как ребенка в желтой целлофановой упаковке.
Тащусь к выходу из магазина, прямо через кассы, и никто меня не останавливает. Никто даже не смотрит. Все читают бульварные газеты, притом с таким вниманием, будто где-то в них зарыто золото.
– Сейгфн ди офо утнбг, – говорю. – Ней вусй исвисн сднсуд.
Никто не смотрит.
– ЭВСФ УИИБ ИУХ, – восклицаю лучшим чревовещательским голосом, на который способна.
Никто даже не разговаривает. Пожалуй, одни только клерки. "Удостоверение у вас с собой?", – спрашивают они людей, которые выписывают чеки.
– Ф гйрн иуфнв си вуу, – продолжаю. – Ксиди снивуу сис сакнк!
И вот тут какой-то ребенок говорит:
– Смотри!
Все, кто не смотрел и не разговаривал, перестают дышать.
Маленький мальчик повторяет:
– Смотри, мам, смотри, вон там! Там чудовище ворует продукты!
Все съеживаются от смущения. Все стоят, втянув головы в плечи, словно на костылях. Читают заголовки газет еще упорнее, чем прежде.
"ДЕВУШКА-ЧУДОВИЩЕ КРАДЕТ ПРАЗДНИЧНУЮ ПТИЦУ".
И вот она я: распаренная, в хлопчатобумажном платье, с двадцатью пятью фунтами индюшатины в руках, индюшка покрывается инеем, и платье мое почти прозрачно. Мои соски тверды как камень, упираются в льдину в желтом целлофане, которую я держу в руках. Лицо под прической в виде шапки сливочного крема. Никто не смотрит на меня так, словно я выиграла что-то большое.
Опускается вниз рука, шлепая ребенка, и тот начинает реветь.
Маленький мальчик ревет как плачут невинно наказанные. Снаружи садится солнце. Внутри все замерло, кроме детского голоса, который орет снова и снова: "За что ты меня ударила?", "Я ничего не делал", "За что ты меня ударила?", "Что я такого сделал?"
Я забрала индейку. Отправилась как можно быстрей обратно, в Мемориальный госпиталь Ла Палома. Уже почти стемнело.
Все время, обнимая индейку, повторяла себе под нос: "Индейки. Чайки. Сороки".
Птицы.
Птицы склевали мое лицо.
Когда возвращаюсь в больницу, ко мне по коридору движется сестра Катерина, везущая мужчину в инвалидной коляске; мужчина обмотан бинтами, увешан пластиковыми мешками и трубками, по которым вливаются в него и выливаются обратно желтые и красные жидкости.
Птицы склевали мое лицо.
Сестра Катерина зовет, ее голос все ближе и ближе:
– Э-эй! А у меня есть кое-кто, кто вам очень понравится.
Птицы склевали мое лицо.
Между ними и мной – кабинет логопеда, и когда я ныряю в дверь, внутри в третий раз застаю Брэнди Элекзендер. Королева всего хорошего и доброго одета в безрукавную модель бронебойного платья от Версаче, с модным в этом сезоне потрясающим оттенком отчаяния и ложного смирения. В здоровом духе, но чуть изуродованное. Жизнерадостное, но чуть кривое. Первая королева – самое прекрасное, что я когда-либо видела, поэтому пристраиваюсь в дверном проеме и молча смотрю.
– Мужчины, – учит логопедша. – В разговоре делают ударение на прилагательные, – говорит она. – Например, мужчина скажет: "Ты сегодня так привлекательна".
Брэнди так привлекательна, что ее голову можно отрубить и выставить на синем вельвете в витрине "У Тиффани", и кто-нибудь обязательно приобретет ее за миллион долларов.
– А женщина скажет: "Ты сегодня так привлекательна", – учит логопедша. – Теперь вы, Брэнди. Повторите сами. С ударением на наречии, а не на прилагательном.
Брэнди Элекзендер смотрит глазами в стиле "Горячая Брусника" на меня, стоящую в дверном проеме, и произносит:
– Девушка в позе, ты так чертовски уродлива! У тебя на лице слон сидел, или чего еще?
Этот голос Брэнди; я почти не разбираю, что она говорит. В настоящий миг я просто обожаю Брэнди. Все в ней воспринимается так, будто прекрасна ты сама, а это твое отражение в зеркале. Брэнди – королевское семейство моего момента. То единственное и незаменимое, ради чего стоит жить.
Выдаю:
– Сфойб свнс уис, – и пристраиваю холодную влажную индейку в объятия логопедши. Она сидит, пришпиленная двадцатью пятью фунтами мертвечины к кожаному сиденью вращающегося офисного кресла. Еще ближе по коридору – зов сестры Катерины:
– Э-эй!
– Мриувн вси сьяой ай, – продолжаю, выкатывая логопедшу в кресле в коридор. Говорю:
– Йовнд винк см фдо дснсв.
А логопедша улыбается мне и отвечает:
– Вам незачем меня благодарить. Я выполняю свою работу, вот и все.
Монашка прибыла с мужчиной в инвалидной коляске, с очередным мужчиной без кожи, или со сплющенной физиономией, или с полностью выбитыми зубами, – с мужчиной, который идеально мне подойдет. Моя единственная настоящая любовь. Мой изуродованный, обезображенный или больной прекрасный принц. Мое кошмарное дальнейшее существование. Мое жуткое будущее. Чудовищный остаток моей жизни.
Захлопываю дверь кабинета и закрываюсь внутри с Брэнди Элекзендер. На столе логопедши лежит ее блокнот, и я хватаю его.
"спаси меня", – пишу и поворачиваю написанное в сторону Брэнди. Пишу:
"пожалуйста".
Переключимся на руки Брэнди Элекзендер. Вечно все у нее начинается с рук. Брэнди Элекзендер протягивает руку – одну из этих покрытых волосками кистей с копытообразными костяшками: вены всей руки собраны в пучок и стиснуты над локтем разноцветными наручными браслетами. Сама по себе Брэнди – такой сдвиг в стандартах красоты, что ни одна больше вещь по-настоящему не выделяется. Даже ты сама.
– Так, девчонка, – говорит Брэнди. – Что там случилось с твоим лицом-то?
Птицы!
Пишу:
"птицы, птицы склевали мое лицо".
И начинаю смеяться.
Брэнди не смеется. Брэнди спрашивает:
– И что это должно значить?
Продолжаю смеяться.
"я ехала по шоссе", – пишу.
И продолжаю смеяться.
Кто-то выстрелил из ружья пулей 50-го калибра.
"пуля оторвала с моего лица всю челюсть".
Продолжаю смеяться.
"я приехала в больницу", – пишу.
"я не умерла".
Смеюсь.
"мне не смогли поставить челюсть обратно, потому что ее съели чайки".
И прекращаю смеяться.
– Подруга, почерк у тебя ужасный, – говорит Брэнди. – Ну, расскажи мне, что еще.
"что еще", – пишу. – "мне приходится есть детское питание".
"я не могу говорить".
"моя карьера окончена".
"у меня нет дома".
"мой жених меня бросил".
"никто на меня не посмотрит".
"всю мою одежду испортила лучшая подруга".
И продолжаю плакать.
– Еще что? – спрашивает Брэнди. – Расскажи мне все.
"ребенок", – пишу я.
"ребенок в магазине назвал меня чудовищем".
Эти глаза "Горячая Брусника" смотрят на меня так пристально, как не смотрела ни одна пара глаз за все прошедшее лето.
– Ты воспринимаешь все в совершенно херовом свете, – объявляет Брэнди. – И можешь перечислить только хлам, который уже в прошлом.
Говорит:
– Нельзя строить свою жизнь на прошлом или настоящем.
Брэнди добавляет:
– Ты расскажи мне о своем будущем.
Брэнди Элекзендер встает на каблуки туфель-капканов из золотых пластинок. Первая королева достает украшенную камнями пудреницу из сумочки воловьей кожи, и со щелчком открывает ее, чтобы посмотреться в зеркало внутри.
– Эта врач, – говорят губы "Графит". – Эта логопедша совершеннейшая дура в подобных ситуациях.
Усилием больших украшенных камнями мышц руки Брэнди я усажена на стул, все еще хранящий тепло ее зада, а она подносит мне пудреницу так, чтобы я могла заглянуть внутрь. Вместо пудры для лица там полно белых капсул. А на месте зеркальца – фото Брэнди крупным планом, на котором она улыбается и выглядит потрясно.
– Это викодин, дорогая, – говорит она. – Медицинская школа имени Мэрилин Монро: достаточным количеством любого лекарства лечится любая болезнь.
– Греби, – говорит. – Помогай себе сама.
Изящная и вечная богиня во всей красе. Фото Брэнди улыбается мне над морем из обезболивающего. Вот так я повстречала Брэнди Элекзендер. Вот так я нашла в себе силы не пытаться вернуть свою бывшую жизнь. Вот так я нашла в себе смелость не заниматься подбиранием все тех же осколков.
– Теперь, – говорят эти губы "Незабудка". – Ты опять расскажешь мне свою историю, так же, как только что. Запиши ее всю на бумаге. Рассказывай ее снова и снова. Рассказывай мне свою вонючую унылую историю хоть всю ночь, – королева Брэнди указывает на меня длинным костлявым пальцем.
– И когда ты поймешь, – говорит Брэнди. – Что все, о чем рассказываешь – лишь история. Что все это уже не происходит. Когда ты осознаешь, что весь твой рассказ – просто слова, когда сможешь просто взять, скомкать и выкинуть в урну свое прошлое, – продолжает Брэнди. – Тогда мы решим, кем ты станешь в будущем.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Перенесемся на канадскую границу.
Переключимся на нас троих, сидящих во взятой напрокат машине "Линкольн Таун Кар" в ожидании проезда на юг от Ванкувера, Британская Колумбия, в Соединенные Штаты: в ожидании с синьором Альфа Ромео за рулем, в ожидании с Брэнди на переднем сиденье рядом с ним, и в ожидании со мной, сидящей позади.
– У полиции есть микрофоны, – сообщает нам Брэнди.
Фишка в том, что если мы переберемся через границу, то поедем в Сиэтл, где кругом дискотеки и ночные клубы, где мальчики и девочки из тусовки выстроятся в очередь, чтобы начисто раскупить содержимое кармашков моей сумочки. Нам нужно вести себя тихо, потому что у полиции по обе стороны границы есть микрофоны: как в Канаде, так и в Соединенных Штатах. Чтобы прослушивать людей, готовящихся пересечь границу. Мы ведь можем пытаться провезти кубинские сигары. Сырые фрукты. Бриллианты. Болезни. Наркотики, как рассказывает Брэнди. Она же приказывает нам заткнуться еще за милю до границы, и вот мы тихонько ждем в очереди.
Брэнди разматывает многие ярды парчовой ленты, обвивающей ее голову. Брэнди встряхивает волосы, чтобы они легли на спину, и поверх плеч повязывает шарф, чтобы скрыть торпедовидный вырез платья. Брэнди меняет сережки на обычные золотые. Снимает жемчуга и надевает тонкую цепочку с золотым крестиком. Все это за миг до пограничника.
– Ваша национальная принадлежность? – спрашивает парень-пограничник, сидящий в окошке за компьютерным терминалом, с блокнотом, в синей форме, в укрытии за зеркальными стеклами солнцезащитных очков и по ту сторону золоченого значка.
– Сэр, – произносит Брэнди новым голосом, мягким и тягучим, как овсянка без масла и соли. Она продолжает:
– Сэр, мы граждане Соединенных Штатов Америки – того самого государства, которое звали величайшей страной на Земле, до появления гомосексуалистов и детской порногра...
– Ваши фамилии? – прерывает ее пограничник.
Брэнди наклоняется поперек Альфы, чтобы взглянуть на пограничника.
– Мой муж, – говорит она. – Порядочный человек.
– Вашу фамилию, пожалуйста, – отвечает тот, несомненно разглядывая наши номера, выясняя, что машина взята напрокат в Биллингсе, штат Монтана, три недели назад, может, даже выясняя правду – кто мы на самом деле такие. Может быть, обнаруживая сводку за сводкой со всей западной части Канады, про трех психов, которые воруют наркотики в особняках, выставленных на продажу. Может, все это прокручивается сейчас перед ним на экране компьютера, может, ничего такого. Кто знает.
– Я замужем, – Брэнди почти орет, чтобы привлечь его внимание. – Я жена Преподобного Беженца Элекзендера, – продолжает она, все еще полулежа в объятиях Альфы.
– А это, – говорит она, прочерчивая невидимую линию от улыбки в направлении Альфы. – Это мой зять, Сэт Томас, – ее большая рука взмывает в направлении меня на заднем сиденье.
– Это, – говорит она. – Моя дочь, Бубба-Джоан.
Случается, я терпеть не могу манеру, в которой Брэнди без предупреждения меняет наши жизни. Иногда два раза на день приходится начинать жизнь в новом образе. С новым именем. С новыми отношениями. Недостатками. Я уже едва помню, кем была, отправляясь в дорогу.
Несомненно, похожий стресс должен испытывать постоянно мутирующий вирус СПИДа.
– Сэр? – обращается парень с границы к Сэту, ранее – Альфа Ромео, ранее – Чейз Манхэттен, ранее – Нэш Рэмблер, ранее – Уэллс Фарго, ранее – Эберхард Фэйбер. Охранник говорит:
– Сэр, везете ли вы назад, в Соединенные Штаты, какие-либо покупки?
Острый носок моей туфли дотягивается под переднее сиденье и клюет моего нового мужа. Нас окружают всевозможные детали обстановки. По левую сторону земля повсюду набегает ровным приливом, маленькие волночки катятся друг за дружкой. Цветочные клумбы по другую сторону высажены так, чтобы сложиться в слова, но прочитать их можно только издалека. Вблизи это просто куча красных и желтых восковых бегоний.
– Только не рассказывайте мне, что никогда не смотрели наш Христианский Целительный Канал, – говорит Брэнди. Ее пальцы играют с маленьким золотым крестиком у глотки. – Посмотри вы хоть одну передачу, знали бы, что Господь в своей мудрости сделал моего зятя немым, и он не может говорить.
Парень с границы делает несколько коротких щелчков по клавиатуре. Может быть, он набрал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ". Или "НАРКОТИКИ". Или РАССТРЕЛ. Может, это КОНТРАБАНДИСТЫ. Или АРЕСТ.
– Ни слова, – шепчет Брэнди в ухо Сэта. – Заговори мне, и в Сиэтле я сделаю тебя Харви Стенотрахером.
Парень с границы говорит:
– Прежде, чем пустить вас на территорию Соединенных Штатов, я прошу предъявить паспорта.
Брэнди облизывает губы до влажного блеска, ее глаза ясно и влажно сияют. Парчовый шарф сползает вниз, открывая вырез, когда она смотрит на охранника и просит:
– Извините нас на минутку.
Брэнди возвращается на свое сиденье, окно Сэта с гудением поднимается.
Большие торпеды Брэнди вздымаются со вдохом и опадают в выдохе.
– Всем сохранять спокойствие, – говорит она, открывая тюбик помады. Шлет поцелуй зеркалу заднего обзора и проводит помадой по краю большого рта в стиле "Незабудка", при этом дрожит так, что ей приходится поддерживать помаду в неподвижности другой большой рукой.
– Я смогу вернуть нас в Соединенные Штаты, – говорит она. – Но мне понадобится презерватив и мята для рта.
Окружая тюбик помады, ее губы произносят:
– Бубба-Джоан, будь умницей, подай мне один "Эстрадерм", ага?
Сэт дает ей мяту и презерватив.
Она продолжает:
– Посмотрим, надолго ли его хватит, прежде чем ему в зад стечет недельная норма женского сока.
Она защелкивает тюбик помады и говорит:
– Промокните с меня пот, пожалуйста.
Передаю ей платок и эстрогеновый пластырь.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Перенесемся назад, в один день, к "Магазину Брамбаха", когда люди остановились посмотреть, как чья-то собака задрала ногу на рождественскую сценку, – мы с Эви в том числе. Потом собака усаживается, откатывается на спину и лижет собственную сморщенную псиную дыру, а Эви толкает меня локтем. Люди хлопают в ладоши и швыряют мелочь.
Потом мы внутри "Брамбаха" пробуем помаду на тыльной стороне ладони, а я спрашиваю:
– Почему собаки лижут у себя?
– Просто потому что могут... – отвечает Эви. – У них же не как у людей.
Это было прямо после того, как мы убили восьмичасовой день в модельной школе, разглядывая собственную кожу в зеркала, поэтому я говорю:
– Эви, себя-то хоть не обманывай.
Курсы в модельной школе я посещала лишь потому, что Эви начала катиться по наклонной. Она носила такие оттенки помады, которые нетрудно представить себе у основания пениса. Носила столько теней для глаз, что ее можно было принять за животное по испытанию продукции. От одного ее лака для волос, наверное, над Модельной академией Тейлора образовалась огромная озоновая дыра.
Это было задолго до происшествия, когда жизнь еще казалась мне такой прекрасной.
В "Магазине Брамбаха", где мы убивали время после занятий, весь девятый этаж отведен под мебель. По краям демонстрационные комнаты: спальни, столовые, гостиные, кабинеты, библиотеки, детские, общие семейные, китайские кухоньки, домашние офисы, – все это открыто внутрь магазина для просмотра. Невидимая четвертая стена. Все в совершенстве чистое, все покрыто коврами, со вкусом заполнено мебелью и нагрето подсветкой и избытком ламп. Из скрытых динамиков бормочет белый шум. Вдоль комнат по затемненным линолеумным проходам шествуют покупатели; проходы бегут между демонстрационными комнатами и подсвеченными островками, заполняющими центральную часть этажа: беседками и кольцевыми группами диванов, направленными лампами в полу и искусственными пальмами. Тихие островки из света и цвета во тьме, кишащей незнакомцами.
– Совсем как на съемочной площадке, – говорила Эви. – Наборчики декораций, каждый из них подготовлен к съемкам очередного эпизода. Из темноты наблюдает студийная публика.
Клиенты прогуливались мимо, а мы с Эви валялись на кровати с розовым балдахином, заказывая гороскопы по ее мобильнику. Вытягивались на твидовом диванном уголке, грызли попкорн и смотрели нашу рекламу по консольному цветному телевизору. Потом Эви задерет футболку и покажет мне очередной новый пупочный пирсинг. Поддернет рукав блузки и продемонстрирует шрамы от имплантов.
– В настоящем доме у меня слишком одиноко, – жаловалась Эви. – А я терпеть не могу то чувство недостатка действительности, которое бывает, когда никто на тебя не смотрит.
Говорит:
– Я и не ищу в "Брамбахе" никакого уединения.
Дома, в квартире, меня ждет Манус и его журналы. Порножурналы разряда "парень-на-парне", которые, как он утверждал, ему приходилось покупать по долгу службы. Каждое утро за завтраком показывал мне глянцевые картинки с самососущими ребятами. Свившийся калачом, обхвативший локтями колени и выгибающий шею, чтобы отсосать у себя же, – каждый из таких ребят терялся в собственной маленькой замкнутой петле. Можно поспорить, что почти каждый парень в мире пробовал сделать такое. Потом Манус заявлял:
– Это все, что парню нужно.
Дайте мне романтичность.
Вспышка!
Дайте мне возможность отрицать.
Каждая маленькая замкнутая петля из парня, достаточно гибкого или с достаточно длинным членом, – такому не нужен больше никто в мире, говорил мне Манус, тыкая гренкой в эти картинки.
– Таким ребятам не надо заниматься карьерой или личной жизнью, – прожевывал слова Манус, листая журналы. Поддевая вилкой белок омлета, он продолжал:
– Так можно жить и умереть.
Потом я ехала в центр города, в Модельную академию Тейлора, чтобы привести себя к совершенству. Собаки лижут себе дыры. Эви с ее самоуродованием. Занимающаяся созерцаниями пупка. Дома у Эви не было никого, кроме кучи фамильных денег. Когда мы впервые добирались городским автобусом к "Брамбаху", она дала водителю кредитную карточку и попросила место у окна. Опасалась, что везет слишком крупный багаж.
Мне с Манусом, или же ей в одиночку – трудно сказать, кому дома было хуже.
Но в "Брамбахе" мы с Эви дремали в любой из дюжины отличных спален. Набивали вату между пальцев ног и красили ногти, сидя в креслах с ситцевой обивкой. Потом штудировали модельный учебник Тейлора Роббертса за длинным полированным обеденным столом.
– Вот пример поддельного уголка окружающей среды из тех, которые делают в зоопарках, – говорила Эви. – Ну, знаешь, всякие бетонные сугробы, или влажные джунгли с деревьями из сварных труб и леек.
Каждый вечер мы с Эви блистали в персональной неестественной окружающей среде. Клерки прятались, чтобы подсмотреть секс в туалете. Мы обе вбирали человеческое внимание, погруженные в личный маленький жизненный спектакль.
Вот все, что я запомнила из книжки Тейлора Роббертса: при ходьбе вести должен таз. Плечи нужно удерживать отведенными назад. При демонстрации продукции разных размеров, как тебя учат, нужно прочертить невидимую линию от себя к предмету. Для тостеров – проводишь линию от улыбки к тостеру. Для плиты – проводишь линию от груди к плите. Для машины новой марки – проводишь невидимую линию от влагалища. Все сводится к тому, что профессиональное моделирование означает оплату сверхчувствительности в отношении хлама вроде рисовых пирожных или новой обуви.
Мы потягивали диетическую колу, лежа на большой розовой кровати в "Брамбахе". Или сидели у гримерки, меняя форму лиц контурной пудрой, а смутные очертания людей смотрели на нас из темноты за несколько футов. Подсветка, бывало, бликом отражалась на чьих-нибудь очках. Когда внимание привлекает и самое легкое движение, и каждый жест, и каждое слово – очень даже легко сорваться и понестись.
– Здесь так мирно и уютно, – говорила Эви, разглаживая розовое сатиновое покрывало и взбивая подушки. – Тут с тобой не может произойти почти ничего плохого. Не то что в школе. Или дома.
Абсолютно чужие люди в пиджаках стояли неподалеку, наблюдая за нами. Так же, как в ток-шоу на телеэкране, при достаточно большой аудитории легко быть честной. Когда много людей слушает – скажешь что угодно.
– Эви, дорогуша, – говорила я. – В нашем классе многие модели выглядят и хуже. Просто надо убрать границу по контуру твоих румян, – мы смотрелись в зеркало на гримерке, а тройной ряд из никого наблюдал за нами сзади.
– Вот, прелесть, – говорила я, протягивая ей небольшой тампончик. – Смешай тон.
А Эви начинала рыдать. На большой публике любая эмоция просто зашкаливает. Всегда смех или слезы, без промежуточных состояний. Тигры по зоопаркам, наверное, тоже постоянно живут в сплошной мыльной опере.
– Дело даже не в том, что я хочу прославиться как фотомодель, – говорила Эви. – Дело в том, что я взрослею, и когда думаю об этом – мне становится так грустно, – Эви давилась слезами. Она выжимала маленький тампончик и продолжала:
– В моем детстве родителям хотелось, чтобы я была мальчиком, – говорила она. – Ни за что не хочу больше, чтобы мне было так паршиво.
Иногда, в другие разы, мы были на высоких каблуках и притворялись, что отпускаем друг другу сильные пощечины из-за какого-то парня, которого обе хотели. Иногда теми вечерами мы признавались друг другу, что мы – вампиры.
– Ага, – отвечала я. – Мои родители тоже бывало меня унижали.
Приходилось работать на публику.
Эви запускала пальцы в волосы.
– Буду прокалывать себе "гвише", – обьявляла она. – Это такая маленькая складка кожи, которая отделяет низ влагалища от задницы.
Я шла и валилась на кровать по центру сцены, обнимая подушку и глядя вверх, словно на переплетение труб и каналов с лейками, которые положено воображать потолком спальни.
– Не скажу, что они заставляли меня пить сатанинскую кровь, и все такое, – продолжала я. – Просто они любили моего брата больше меня, потому что он был изуродован.
А Эви пересекала сцену по направлению к центру, мимо тумбочки в раннеамериканском стиле, чтобы стать в глубине, около меня.
– У тебя был изуродованный брат? – спрашивала она.
Кто-то из людей, разглядывающих нас, бывало, кашлял. Подсветка, бывало, бликом отражалась на чьих-нибудь часах.
– Ага, очень даже изуродованный, но не в плане сексуальности. Так или иначе, все хорошо кончилось, – говорила я. – Он уже мертв.
Потом Эви очень нетерпеливо начинала расспросы:
– Как изуродованный? Это был твой единственный брат? Старше тебя или младше?
А я откидывалась на кровати и встряхивала прической:
– Ой нет, мне это слишком больно.
– Нет, правда, – возражала Эви. – Я серьезно.
– Он пробыл мне старшим братом пару лет. Все лицо у него обгорело при происшествии с баллоном лака для волос, и родители словно забыли, что у них был и второй ребенок, – я притворно промокала глаза подушкой и обращалась к публике:
– Так что мне приходилось трудиться и трудиться, чтобы заслужить их любовь.
Эви произносила, глядя в никуда:
– Ни хрена себе! Ни хрена себе! – и ее игра, ее подача, казалась правдой на 80 баллов и просто хоронила мою под собой.
– Ага, – продолжала я. – А ему вообще не надо было ничего добиваться. Он пожирал все их внимание уже потому, что весь был обожжен и иссечен шрамами.
Эви произносила, надвигаясь на меня:
– А где он теперь, твой брат, ты хоть знаешь?
– Мертв, – отвечала я, отвернувшись и обращаясь к аудитории. – Умер от СПИДа.
А Эви спрашивала:
– Ты точно уверена?
И я отвечала:
– Эви!
– Нет, правда, – говорила она. – Я спросила не просто так.
– Не надо шутить со СПИДом, – отвечала я.
А Эви говорила:
– Очень даже может быть...
Вот так легко сюжет срывается с колеи. Ведь эти покупатели ждут настоящей драмы, поэтому, естественно, думаю, Эви создает обстановочку.
– Твой брат, – продолжает Эви. – Ты правда видела, как он умер? На самом деле? Или, может, видела его мертвым? Ну, там – в гробу, с оркестром? Или его свидетельство о смерти?
Все люди смотрели.
– Да, – говорю. – Еще и как видела, – можно подумать, мне охота попасться на лжи.
Эви нависает надо мной всем телом:
– Так ты видела его мертвым, или нет?
Все люди смотрят.
– Еще и каким мертвым.
Эви спрашивает:
– Где?
– Мне очень больно это вспоминать, – говорю я, пересекая сцену направо, в сторону гостиной.
Эви преследует меня, спрашивая:
– Где?
Все люди смотрят.
– В клинике для безнадежных, – говорю.
– В какой клинике для безнадежных?
Иду по сцене дальше направо, в следующую гостиную, следующую столовую, следующую спальню, кабинет, домашний офис, а Эви хвостиком бежит за мной, и всю дорогу над нами нависает публика.
– Ты же знаешь, как бывает, – говорю. – Если не видишь педика настолько долго, это считай гарантия.
А Эви отзывается:
– Так на самом деле ты не знаешь, мертв он или нет?
Мы трусцой пробегаем следующую спальню, гостиную, столовую, детскую, и я говорю:
– Это СПИД, Эви: вперед и с песней.
Тогда Эви вдруг встает на месте и спрашивает:
– Почему?
А публика отправляется прочь от меня в сотнях направлений.
Потому что мне правда, правда, правда хочется, чтобы мой братец был мертв. Потому что родители хотят видеть его мертвым. Потому что – да просто жить легче, если он мертв. Потому что тогда я единственный ребенок. Потому что теперь мой черед, черт побери. Мой черед.
А толпа покупателей рассосалась, оставив лишь нас и камеры безопасности, которые заменяют Бога, наблюдая за нами в ожидании, когда мы облажаемся.
– Почему это все тебе так важно? – спрашиваю.
А Эви уже странствует вдаль, оставляя меня одну со словами:
– Просто спросила.
Потерявшаяся в собственной маленькой замкнутой петле.
Вылизывая собственную дыру в заднице, Эви отвечает:
– Ничего такого, – говорит. – Забудь.