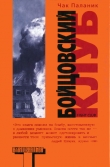Текст книги "Незримые твари"
Автор книги: Чак Паланик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Насчет пластических операций: все лето я провела в роли собственности мемориального госпиталя Ла Палома, разбираясь, что же способна сделать для меня пластическая хирургия.
Там были пластические хирурги, много хирургов, и были книги, которые они приносили. С картинками. Рисунки, которые я видела, были черно-белые, слава Богу, а хирурги рассказывали мне, как я могла бы выглядеть после нескольких лет мучений.
Почти любая пластическая операция начинается с кое-чего, называемого стеблем. Со средства для достижения.
Со временем становится мерзко. Даже в этих черно-белых рисунках.
После всего, что узнала, я могла бы работать врачом.
Прости, мам. Прости, Бог.
Манус когда-то говорил, что Бог – это твои предки. Ты их любишь и желаешь им счастья, но все равно предпочитаешь жить по личным правилам.
Хирурги сказали, что нельзя просто отрезать кусок кожи в одном месте и примотать его на другое. Это же не дерево прививать. Дело в кровоснабжении, вены и капилляры не смогут сцепиться, чтобы поддерживать жизнь пересаженной ткани. Кусок просто отомрет и отвалится.
Звучит пугающе, но когда я вижу, как человек заливается румянцем, моя реакция не – "о, как мило". Румянец напоминает мне только о крови, которая скрыта под любой поверхностью.
Дермабразия, как рассказал мне очередной пластический хирург, это все равно что прижимать зрелый помидор к ленточно-точильному станку. Расплачиваешься в лучшем случае кашей.
Чтобы пересадить кусочек кожи, чтобы реконструировать челюсть, нужно отсвежевать тонкую полоску кожи с шеи. Она берется у основания шеи, но не стоит резать кожу у подбородка.
Представьте себе полоску или ленточку кожи, свободно свисающую с шеи, но по-прежнему прикрепленную к основанию лица. Кожа все еще прикреплена к вам, поэтому снабжается кровью. Полоска по-прежнему жива. Берешь полоску кожи и сворачиваешь ее в трубочку или валик. Оставляешь свернутой, пока та не срастется в длинный висячий шнурок из плоти, болтающийся снизу лица. Живая ткань. Полная свежей, здоровой крови, тепло шлепающая и хлопающая тебя по шее. Вот что такое стебель.
Уже сам по себе процесс срастания может затянуться на месяцы.
* * *
Перенесемся назад, в красный "Фиат", где Брэнди прячется за очками от солнца, а в багажнике заперт Манус, и Брэнди везет нас к вершине Роки-Бьют, к руинам какого-то сторожевого форта на холме, где ночами, свободными от школьного бала, детишки из школ Паркроуза, Гранта и Мэдисона бьют пивные бутылки и наслаждаются небезопасным сексом в старых развалинах.
Ночью по пятницам эта вершина полна ребятишек, которые говорят друг другу – "Вон, смотри, видишь мой дом? Вон, синий огонек в окне, это мои предки смотрят ящик".
Развалины эти – просто несколько слоев каменных глыб, до сих пор удержавшихся одна на другой. Внутри развалин гладкая и каменистая почва, усыпанная битым стеклом и поросшая грубой садовой травой. Вокруг нас, со всех сторон кроме той, где подведена дорога, склоны Роки-Бьют представляют собой скалы, возвышающиеся над пунктирами уличных огней.
Здесь можно захлебнуться тишиной.
Нам нужно одно: место, чтобы остановиться. Пока я не решу, что дальше. Пока мы не разживемся деньгами. У нас два, максимум три дня, пока Эви вернется домой, и надо будет валить. А потом, думаю, я смогу позвонить Эви и ее пошантажировать.
Эви много мне задолжала.
Значит, имею полное право.
Брэнди загоняет "Фиат" в самый темный уголок развалин, потом гасит фары и дает по тормозам. Мы с Брэнди встаем на месте так резко, что только ремни безопасности удерживают нас от столкновения с приборной доской.
Лязг и колокольный звон металла по металлу грохочет и гудит гонгом в машине вокруг нас.
– Типа извиняюсь, – говорит Брэнди. – На полу какое-то дерьмо, что-то закатилось под педаль, когда я пыталась притормозить.
Музыка чистого серебра доносится из-под сидений. Кольца для салфеток и серебряные ложки выкатываются нам под ноги. Между туфель Брэнди лежит подсвечник. Серебряное блюдо, блестящее в свете звезд, наполовину выскользнуло из-под переда ее сиденья, и торчит кверху между длинных ног Брэнди.
Брэнди смотрит на меня. Опустив подбородок. Брэнди сдвигает "Рэй-Бэнсы" на кончик носа и выгибает подкрашенные брови.
Пожимаю плечами. Потом иду вызволять свой любовный груз.
Даже после открытия багажника Манус не шевелится. Колени прижаты к локтям, руки сложены у лица, ноги подвернуты к заднице, – Манус как зародыш в армейском прикиде. А что его окружает – я сначала не заметила. У меня сегодня ночью был большой стресс, поэтому – извините, что я не приметила это еще у дома Эви, но повсюду вокруг Мануса блестят серебряные предметы. В багажнике его "Фиата" пиратские сокровища и другие вещи.
Реликвии.
Вот свечка – длинная белая свеча.
Брэнди срывается с сиденья и тоже подходит посмотреть.
– Ни хрена себе! – говорит Брэнди, закатывая глаза. – Ни хрена себе!
Вот пепельница, то есть нет, это глиняный отпечаток ладошки, прямо возле не приходящей в сознание жопы Мануса. Такие отпечатки делают в начальной школе, вдавливая руку в жестянку с сырой глиной, для подарка ко Дню матери.
Брэнди откидывает со лба Мануса прядь волос.
– Очень-очень милый, – говорит она. – Но, кажется, с поврежденным мозгом.
Очень накладно пытаться среди ночи объяснить Брэнди в письменном виде, что Манус с повреждением мозга – уж слишком здорово.
Жаль, что это всего лишь валиум.
Брэнди снимает "Рэй-Бэнсы" чтобы взглянуть получше. Стаскивает шарф "Гермес" и встряхивает волосами, распуская их, смотрясь отлично, кусает губы, облизывает их до блеска, на всякий случай, если Манус проснется.
– Хорошеньких парней, – замечает Брэнди. – Обычно лучше кормить барбитуратами.
Я запомню.
Тащу Мануса вверх, усаживая его в багажнике, его ноги свисают за бампер. Глаза Мануса, мощно-голубые, трепещут, моргают, трепещут, щурятся.
Брэнди склоняется, чтобы он мог взглянуть на нее ближе. Мой брат всеми силами пытается украсть у меня жениха. В этот миг я хочу, чтобы вообще все подохли.
– Вставай, солнышко, – говорит Брэнди, поддерживая рукой подбородок Мануса.
А Манус щурится:
– Мамочка?
– Вставай, солнышко, – повторяет Брэнди. – Все хорошо.
– Уже? – спрашивает Манус.
– Все хорошо.
Тихий шипящий звук, будто шум капель дождя по крыше палатки или брезенту убирающегося верха машины.
– О Господи, – восклицает Брэнди, делая шаг назад. – О Боже ты мой!
Манус моргает и пялится на Брэнди, потом на свою промежность. Одна штанина его армейского прикида темнеет, темнеет, темнеет до колена.
– Очень милый, – говорит Брэнди. – Но он только что намочил себе штанишки.
Переключимся обратно, на пластическую хирургию. Перенесемся в счастливый день, когда все срослось. Пару месяцев у тебя с шеи свисала длинная полоска кожи – да не одна полоска. Скорее там будет стеблей около полудюжины, потому что все равно за один раз можно сделать несколько, чтобы пластическому хирургу вышло побольше ткани для работы.
Для реконструкции приходится около двух месяцев сидеть со всеми этими длинными болтающимися кожаными полосками на шее.
Говорят, что первым делом люди замечают в тебе глаза. С этими надеждами можно смело расстаться. Выглядишь ты вроде побочного мясного продукта, слепленного и выплюнутого кухонным комбайном "Ням-ням".
Как расклеившаяся под дождем мумия.
Как сломанная игрушечка
Эти полоски теплой кожи, шлепающие тебя по шее, – хорошая живая ткань, подпитываемая кровью. Хирург поднимает каждую полоску и прикрепляет ее заживший конец к твоему лицу. Таким образом, кожная масса пересаживается, прививается к лицу без прекращения притока крови. Весь этот кожаный мешок подтягивают и придают ему грубую форму челюсти. На шее, в местах, где была кожа, остаются шрамы. Челюсть получается массой привитой ткани, которая, как надеются хирурги, срастется и удержится на месте.
Весь следующий месяц надеешься вместе с хирургами. Весь месяц прячешься в больнице и ждешь.
Переключимся на Мануса, сидящего в луже, посреди серебра, в багажнике своей красной спортивной машины. Впал в детство, снова учится ходить на горшочек. Такое бывает.
А я сижу перед ним на корточках, стараясь высмотреть, где у него выпирает бумажник.
Манус молча пялится на Брэнди. Наверное, думает, что Брэнди – это я: бывшая я, с лицом.
Брэнди теряет интерес.
– Не помнит. Думает, я его мама, – говорит Брэнди. – Ладно бы еще сестра – но мама?..
Какое дежа вю. Попробуем слово "брат".
Нам нужно где-то остановиться, а у Мануса должна быть точка. Не та, старая, которую мы с ним делили. Он даст нам укрыться у него на точке, или я скажу полиции, что он меня похитил и спалил дом Эви. Манус же не в курсе, что мистер Бэкстер и сестры Реи видели, как я ношусь с ружьем по всему городу.
Пишу пальцем на песке:
"нам нужно найти его бумажник".
– У него, – возражает Брэнди. – Штаны мокрые.
Теперь Манус пялится на меня, усаживается и задевает головой открытую крышку багажника. Блин, ой блин, ясно как это больно, – и все равно нет ничего трагичного, пока Брэнди Элекзендер не подаст сигнал своей сверхчувствительностью.
– Ох, бедняжечка, – говорит она.
И Манус начинает хныкать. Манус Келли, последний из людей, имеющих на это право, плачет.
Терпеть такое не могу.
Перенесемся в день, когда привитая кожа схватится, – и даже тогда ткани нужна будет кое-какая поддержка. Даже если привитые куски срастутся в подобие грубой, неровной челюсти – все равно нужна челюстная кость. Без этой "мандибулы" мягкая масса ткани, живой и жизнеспособной ткани во всей красе, может реабсорбироваться.
Так пластические хирурги и сказали.
"Реабсорбироваться".
Прямо мне в глаза, будто я какая-то губка из кожи.
Переключимся на рыдающего Мануса и на Брэнди, которая согнулась над ним, воркуя и гладя его по сексуальной шерсти.
В багажнике пара крепких детских ботиночек, серебряная терка, картинка с индейкой, изготовленная из приклеенных к ватману спагетти.
– Знаете, – Манус шмыгает носом и вытирает его тыльной стороной ладони. – Сейчас меня прет, поэтому ничего страшного, если я вам это скажу.
Манус смотрит на склонившуюся над ним Брэнди и на меня, сидящую на корточках у земли.
– Сначала, – говорит Манус. – Родители дают тебе жизнь, а потом пытаются навязать свою собственную.
Чтобы сделать челюстную кость, хирурги отламывают кусочки твоей большой берцовой кости, укомплектованные подведенной артерией. Сначала извлекают кость на поверхность и обрабатывают ее прямо на месте, в ноге.
Еще способ: хирурги вскрывают некоторые другие кости, вероятнее всего длинные кости в руках и ногах. Внутри таких – мягкая губчатая пульпа.
Так хирурги и сказали, и так написано в тех книжках.
"Губчатая".
– Моя мама, – рассказывает Манус. – Со своим новым мужем – мамочка много выходит замуж – купила себе курортную квартиру в Боулинг-Ривер, во Флориде. Людям моложе шестидесяти там недвижимость не продают. Такой у них закон.
Смотрю на Брэнди, которая по-прежнему в роли сверхчувствительной матери, присела и зачесывает волосы Манусу со лба. Смотрю вниз с обрыва, который рядом с нами. Те маленькие синие огоньки во всех домах – это люди смотрят телевизор. Голубой цвет от "Тиффани". Валиумный голубой. Люди в плену. Сначала моя лучшая подруга, а теперь и мой брат, пытаются украсть у меня жениха.
– В прошлом году я пришел к ним в гости на Рождество, – продолжает Манус. – К моей маме; их квартира на восьмом молодежном, и им там очень нравится. В Боулинг-Ривер будто пересрали все возрастные мерки. Маме и отчиму только стукнуло шестьдесят, так они там молодежь. И все это старье таращилось на меня так, будто я только и жду, чтобы грабануть чью-нибудь тачку.
Брэнди облизывает губы.
– По возрастной мерке Боулинг-Ривер, – говорит Манус. – Я вообще еще не родился.
Придется выломать у себя достаточного размера щепки этой мягкой, пропитанной кровью костной пульпы. Губчатой фигни. Потом нужно вставить эти костяные черепки и щепки в мягкую тканевую массу, которую привили к твоему лицу.
Конечно, этим заниматься не тебе: все делают хирурги, пока ты спишь.
Если щепки будут достаточно близко друг от друга, они образуют клетки фибробласта, которыми друг с другом сцепятся.
Опять же, слово из книжек.
"Фибробласт".
Опять же, на это уходят месяцы.
– Моя мама и ее муж, – рассказывает Манус, сидя в открытом багажнике своего "Фиата Спайдер" на вершине Роки-Бьют. – Самым большим подарком, который они приготовили мне на Рождество, была вот такая обернутая коробка. Размером с мощную стереосистему или телевизор с широким экраном. Я надеялся, что это оно и есть. Ну, то есть, там могло быть что угодно, но такое мне бы понравилось больше всего.
Манус опускает на землю одну ногу, следом другую. Став на ноги, Манус оборачивается к набитому серебром "Фиату".
– Так нет же, – говорит Манус. – Они презентовали мне вот это дерьмо.
Манус в ботинках-коммандос и армейском прикиде берет из багажника большой пузатый заварочный чайник и разглядывает собственное раздутое отражение в выпуклых боках.
– Вся коробка, – говорит Манус. – Была набита этим дерьмом и никому не нужными фамильными ценностями.
Точно как я кидала хрустальную сигаретницу Эви о камин, Манус отводит руку и резко швыряет чайник во тьму. В окружении темноты и пригородных огней чайник улетает так далеко за обрыв, что не слышно звука падения.
Манус не оборачиваясь тянется назад и хватает еще что-то. Серебряный подсвечник.
– Это мое наследство, – обьявляет Манус. С размаху брошенный подсвечник летит, бесшумно переворачиваясь, как спутники.
– Знаете, – Манус вышвыривает мерцающую горсть колец для салфеток. – Родители для тебя как подобие Бога. Конечно, ты их любишь и должен знать, что они всегда рядом, но никогда на самом деле их не замечаешь, пока им чего-нибудь не захочется.
Серебряная терка летит вверх, вверх, вверх к звездам, а потом падает, приземляясь где-то среди синих телевизионных огоньков.
И после того, как осколки кости срастутся, образовав тебе новую челюстную кость под куском привитой кожи, – только тогда хирург может попытаться придать всему этому форму того, чем потом можно будет говорить, есть, и на что придется тоннами накладывать косметику.
Это последующие годы мучений.
Годы жизни в надежде, что ты получишь лучшее, чем у тебя есть сейчас. Годы созерцаний и плохого настроения в надежде, что ты сможешь выглядеть хорошо.
Манус хватает свечку: белую свечу из багажника.
– Моя мама, – рассказывает Манус. – Ее подарок для меня под номером два была коробка, набитая всем барахлом из тех времен, когда я был ребенком, которого она оставила, – Манус говорит:
– Зацените, – и поднимает свечку. – Свеча с моего крещения.
Во тьме скрывается брошенная Манусом свечка.
Следом исчезают крепкие детские ботинки.
Завернутые в крещенский наряд.
Потом рассыпается горсть молочных зубов.
– Блядь, – говорит Манус. – Чертова зубная фея.
Локон светлых волос внутри медальона на цепочке; цепочку Манус раскручивает и пускает из руки в стиле австралийской "болы", та исчезает во тьме.
– Она сказала, что отдает все это барахло мне, потому что ей некуда его деть, – говорит Манус. – Речь не о том, что оно ей не нужно.
Глиняный отпечаток руки второклассника летит вверх тормашками во тьму.
– Так вот, мамочка, если тебя оно недостойно, – говорит Манус. – То и я не хочу таскать туда-сюда все это дерьмо.
Переключимся на то, что всякий раз, когда Брэнди Элекзендер донимает меня пластическими операциями, я вспоминаю стебли. Реабсорбацию. Клетки фибробласта. Губчатую кость. Годы надежды и боли, – и как я могу не рассмеяться.
Смех – единственный производимый мною звук, который могут понять окружающие.
Брэнди, первая королева благих намерений, у которой настолько раздутые силиконом титьки, что она не может стоять прямо, говорит мне – "Просто посмотри, что там да как".
И как я могу не смеяться дальше.
Этим я хочу показать, Шейн, что внимание мне не нужно до такой степени.
Лучше уж по-прежнему буду носить вуали.
Если не могу быть красивой – я хочу быть невидимой.
Переключимся на улетающий в никуда серебряный ковш.
Переключимся на исчезающие одна за другой чайные ложки.
Переключимся на все отбывшие вдаль школьные табеля и фотографии класса.
Манус терзает плотный бумажный лист.
Свое свидетельство о рождении. И резко вышвыривает его из бытия. Потом Манус стоит, перекатываясь с пятки на носок, с пятки на носок, обхватив себя руками.
Брэнди ждет моей реплики, глядя на меня. Пишу пальцем на земле:
"манус где ты сейчас живешь?"
Легкие прохладные прикосновения приземляются мне на голову и на персиковые плечи халата. Пошел дождь.
Брэнди спрашивает:
– Слушай, мне не интересно, кто ты такой, но если бы мог быть кем угодно – кем бы ты стал?
– Старше становиться не хочу, это уж точно, – говорит Манус, мотая головой.
– Ни за что, – руки крест-накрест, он перекатывается с пятки на носок, с пятки на носок. Манус склоняет подбородок на грудь, и продолжает раскачиваться, глядя на битое стекло бутылок.
Дождь усиливается. Уже не унюхать ни мои подсмоленные страусовые перья, ни духи Брэнди "Лер дю Темп".
– Тогда ты мистер Дэнвер Омелет, – говорит Брэнди. – Дэнвер Омелет, познакомьтесь с Дэйзи Сент-Пэйшнс.
Большая унизанная кольцами рука Брэнди распускается цветком и укладывается поперек сорока шести дюймов силиконовой роскоши:
– А вот это, – говорит она. – Это Брэнди Элекзендер.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Перенесемся в один из моментов, в нем ничего особенного, только мы с Брэнди в кабинете логопедши; и Брэнди застает меня, когда я лезу руками под вуаль: трогаю ракушки и слоновую кость торчащих наружу коренных зубов, глажу себя по тисненой коже рубцовой ткани, высушенной и отполированной вдохами-выдохами. Касаюсь мокрой и липкой слюны в месте, где та засыхает по бокам шеи, а Брэнди советует не принимать себя слишком близко.
– Дорогая, – говорит она. – В таких случаях помогает представить себя чем-то вроде дивана или газеты, чем-нибудь, что стоило сил многим людям, но не делалось на века.
Открытый край моей глотки наощупь как накрахмаленная синтетика, рубчато-вязанная, грубая от растяжек и примерок. Трогать его – все равно что трогать верхний край платья без бретелек, или трико, подбитое вшитой внутрь проволокой или пластиком. Грубое, но теплое, как розовый цвет. Костлявое, но покрытое мягкой, чувствительной кожей.
Такой тип острой травматической мандибулактомии, не будучи восстановленным посредством деканюляции или трахеостомической трубы, может привести к апноэ во время сна, сказали врачи. Так они общались друг с другом в время утренних обходов.
А люди еще говорят, что меня трудно понять.
Мне же доктора объяснили, что если они не восстановят как-нибудь мою челюсть, хотя бы до подобия кожного мешка, сказали они – то я могу умереть в любое время сна. Просто могу перестать дышать и не проснуться.
Быстрая безболезненная смерть.
Пишу на дощечке:
"отстаньте".
Мы в кабинете логопеда, Брэнди говорит:
– Помогает, когда поймешь, что ты не более в ответе за свой внешний вид, чем какая-нибудь машина, – рассказывает Брэнди. – Вот именно такая ты продукция. Продукция продукции продукции. Люди, которые проектируют машины – тоже продукция. Твои родители продукция. Их родители продукция. Твои учителя продукция. Священник в церкви – опять же продукция, – говорит Брэнди.
Иногда, лучший способ справиться со всем дерьмом, говорит Брэнди, это не держаться за себя как за маленькую дорогущую награду.
– Я считаю, – продолжает Брэнди. – Что от мира не скрыться, и ты не отвечаешь за то, как выглядишь, будь ты хоть красотуля, хоть страшная как жопа. Все это не в твоих руках, – говорит Брэнди.
Так же, как компакт-диск не несет ответственности за то, что на нем записано, – так же и у нас. Свободы действий у тебя – как у запрограммированного компьютера. Ты так же единственна и неповторима, как долларовая банкнота.
– На самом деле в тебе нет ничего действительно "твоего", – говорит она. – Даже в физическом теле все клетки у тебя за восемь лет заменятся другими.
Кожу, кости, кровь и органы пересаживают от одного другому. В конце концов, можно даже просто заглянуть внутрь себя: там колонии микробов и жучков, которые жуют для тебя пищу, без них не выжить. Ничто в тебе не исконно твое. Все перенято со стороны.
– Главное, спокойно, – говорит Брэнди. – О чем бы ты ни думала, сейчас о том же думает еще миллион. Что бы ты ни делала, делают и они, и никто из вас за это не отвечает. Все в тебе лишь плод совместных усилий.
Пальцами нащупываю под вуалью влажный торчащий обрубок языка, принадлежащий некоему истерзанному продукту. Врачи намерены были использовать кусочек моей тонкой кишки, чтобы удлинить мне глотку. Они намеревались вырезать по кости, по моим малоберцовым костям, по костям человеко-продукции во всей красе, придавая им форму и сращивая их, чтобы сконструировать мне – сконструировать продукции – новую челюсть.
Пишу на дощечке:
"кости ноги прицепить к костям головы?"
Врачи не поняли, о чем я.
Услышим же слово Господне.
– Ты продукт нашего языка, – говорит Брэнди. – И наших законов, какими бы они не были, и того, что мы верим в Бога, которому нужны. Каждая отдельная молекулочка вокруг уже была тщательно обдумана раз тысячу до тебя, миллионом человек, – говорит она. – Все, что ты можешь создать – скучно, старо и совершенно нормально. Ты в безопасности, потому что глобально поймана в ловушку собственной культуры. Все, о чем ты можешь размышлять – хорошо уже просто потому, что ты можешь размышлять об этом. Тебе не представить себе никакого пути к побегу. Нет способа, которым можно вырваться, – говорит Брэнди.
– Мир, – говорит Брэнди. – Твоя колыбель и западня.
Все это было после того, как я покатилась по наклонной. Я написала своему работодателю в агентство и поинтересовалась насчет моих шансов работать рукой или ногой. Демонстрировать часы и туфли. Еще до этого работодатель присылал в больницу цветы. Может, я смогу получить ассигнование, как модель по ногам. Сколько и чего им там наболтала Эви – не знаю.
Чтобы стать моделью по рукам, отвечает он в письме, нужно носить перчатки седьмого размера и кольца пятого. У ножной модели должны быть безупречные ногти на ногах и шестой размер обуви. Ножная модель не может заниматься спортом. У нее не должно быть заметных вен. Пока твои пальцы рук и ног не смогут сохранить хороший вид на отпечатанной странице журнала при троекратном увеличении, или на рекламном щите в двухсоткратном увеличении, пишет он, можно не рассчитывать на работу по частям тела.
Моя рука – восьмого размера. Нога седьмого.
Брэнди рассказывает:
– А если найдешь какой-нибудь выход из нашей культуры, то там тоже западня. Само желание вырваться из этой ловушки – ее укрепляет.
Книжки по пластической хирургии, буклеты и брошюры, в один голос обещали помочь мне жить более нормальной, более счастливой жизнью; но все меньше и меньше это казалось тем, что мне нужно. То, чего мне хотелось, все больше и больше смахивало на то, чего меня всю жизнь приучали хотеть. То, чего хотят все.
Дайте мне внимание.
Вспышка!
Дайте мне красоту.
Вспышка!
Дайте мне покой и счастье, любимого человека и безупречный домашний очаг.
Вспышка!
Брэнди учит:
– Лучшее, что можно сделать – это не бороться, а просто все отпустить. Не пытайся все время поправлять то да се. То, от чего бежишь – просто останется с тобой и дальше. Когда борешься с чем-то – делаешь его сильнее.
Она продолжает:
– Не делай то, чего тебе хочется, – говорит. – Делай то, чего тебе не хочется. Делай то, чего тебя приучили не хотеть.
Такое противоположно по смыслу погоне за счастьем.
Брэнди говорит мне:
– Делай вещи, которые пугают тебя больше всего на свете.