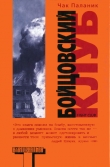Текст книги "Незримые твари"
Автор книги: Чак Паланик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Перенесемся обратно, на съемки для журнала мод, на ту самую бойню, где цельные свиньи без внутренностей висят плотно, как бахрома, вдоль движущейся цепи. Мы с Эви одеты в праздничные платья из нержавейки от Бибо Келли, а цепь жужжит за нами со скоростью сто свиней в час, и Эви спрашивает:
– Ну, был твой брат изуродован, а дальше что?
Фотограф смотрит на шкалу освещения и говорит:
– Не-а. Не годится.
Арт-директор сообщает:
– Девочки, туши сильно бликуют.
Каждая свинья проплывает мимо, огромная как пустотелое дерево, вся красная и блестящая изнутри, и покрытая снаружи по-настоящему прелестной свиной кожей, как раз после того, как кто-то убрал щетину горелкой. В сравнении начинаю казаться себе щетинистой, и отсчитываю дни, прошедшие с моей воскоэпилляции.
А Эви начинает:
– Твой брат...
А я вроде как считаю: пятница, четверг, среда, вторник...
– Как он от уродства дошел до смерти? – спрашивает Эви.
Свиньи эти проплывают мимо слишком быстро, чтобы арт-директор успевал припудрить их блеск. Становится интересно, как свиньям удается поддерживать кожу такой миловидной. Сейчас фермеры что, крем от загара используют, что ли? Пожалуй, прикидываю, прошел месяц с того времени, когда я была такой же гладенькой. Как некоторые салоны жгут своими новомодными лазерами, даже с охлаждающим гелем, – с тем же успехом они могли бы применять и газовые горелки.
– Девушка в облаках, – зовет меня Эви. – Позвони домой.
Все просторное помещение охлаждается слишком сильно, чтобы шляться тут в платье из нержавейки. Ребята в белых мешковатых халатах и сапогах на низком каблуке продувают раскаленным паром места, где у свиней были внутренности, – а я готова поменяться с ними занятием. Я готова поменяться занятием даже со свиньями. Отвечаю Эви:
– Полиция не повелась на историю с баллоном лака. Они были уверены, что отец измывался над лицом Шейна. Или что мама бросила баллон с лаком в мусор. Они называли это "преступная небрежность".
Фотограф спрашивает:
– Что если мы перегруппируемся и подсветим туши сзади?
– Слишком сильный стробоскопический эффект, когда будут ехать мимо, – возражает арт-директор.
Эви спрашивает:
– А почему полиция так решила?
– Сдается мне, – говорю. – Кто-то постоянно устраивал им анонимные звонки.
Фотограф предлагает:
– Мы можем остановить цепь?
Арт-директор отвечает:
– Не раньше, чем люди перестанут есть мясо.
До настоящего перерыва остаются еще долгие часы, и Эви спрашивает:
– Кто-то врал полиции?
Свиные ребята приходят нас проведать, и некоторые из них очень даже милы. Они смеются и елозят руками туда-сюда по блестящим черным паровым шлангам. Показывают нам изогнутые языки. Флиртуют.
– Потом Шейн сбежал, – рассказываю Эви. – И все дела. Пару лет назад моим предкам позвонили и сказали, что он мертв.
Мы как можно ближе подступаем к плывущим мимо свиньям, которые все еще хранят тепло. Пол очень скользкий наощупь, а Эви начинает мне рассказывать вою идею римейка на "Золушку", где звери и птицы, вместо того чтобы шить ей платья, делают пластические операции. Певчие птички дают ей подтяжку лица. Белки дают импланты. Змеи липосакцию. Плюс к этому, Золушка начинает в роли маленького одинокого мальчика.
– С тем вниманием, какое ему перепало, – рассказываю Эви. – Не удивлюсь, если мой братец сам положил в огонь тот баллончик.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Перенесемся в один из моментов, в нем ничего особенного, только мы с Брэнди, ходим по магазинам на утыканной лавками центральной улице какого-то городка в штате Айдахо, с окошком "Сирз", закусочными, магазинчиком просроченных хлебобулочных изделий суточной давности и офисом риэлтера, куда наш мистер Уайт Вестин-Гауз отправился уламывать какого-то агента. Мы заходим в одежный секонд-хенд. Это дверь по соседству с прибыльными булками суточной давности, и Брэнди рассказывает, как ее отец проделывал эдакий трюк со свиньями перед тем, как везти их на рынок. Она рассказывает, что тот обычно кормил их просроченными сладостями, которые покупал целыми грузовиками у булочных окошек вроде такого. Солнечный свет падает на нас сквозь чистый воздух. Горы с медведями вне пределов пешего перехода.
Брэнди смотрит на меня поверх вешалок с подержанными платьями.
– Знаешь такое кидалово? Это самое, солнышко, со свиньями? – спрашивает она.
Этот ее отец еще рассыпал картошку через печную трубу. Держишь сетчатый мешок раскрытым и по всей длине ставишь в него печную трубу. Кладешь вокруг трубы крупные клубни из урожая нынешнего года. В трубу насыпаешь прошлогодние мягкие, порезанные и гниющие клубни, чтобы никто не смог разглядеть их снаружи мешка. Вытаскиваешь трубу и туго зашиваешь мешки наглухо, чтобы внутри ничего не перемешивалось. Продаешь их у обочины, твои детишки тебе помогают, и даже при небольшой цене делаешь большие деньги.
В тот день в Айдахо у нас был "Форд". Коричневый внутри и снаружи.
Брэнди раздвигает тремпеля, проверяя каждое платье на вешалке, и говорит:
– Ты в своей жизни когда-нибудь слышала о чём-нибудь настолько подлом?
Переключимся на Брэнди и меня в секонд-хэнде на той самой главной улице, за занавеской, сгрудившихся вдвоем в примерочной размером с телефонную будку. Место в основном занимает бальный наряд, в который Брэнди не влезть без моей помощи, настоящая Грейс Келли от платьев, повсюду расписанная Чарльзом Джеймсом. Вставочки и переборки, запутанная скелетная конструкция, рассчитанная на высокие нагрузки, встроенная в кожу из розовой как рана органзы или голубого как лед вельвета.
Такие невероятнейшие платья, рассказывает мне Брэнди, сконструированные бальные наряды, спроектированные вечерние платья с кучей юбок и корсажем без бретелек, со стоячим воротом в виде подковы, со стянутой талией, со свободно сидящей баской и корсетом китового уса, – такие платья никогда долго не живут. Натяжения; трение и растяжка атласа и крепдешина пытается направлять собой проволоку и корсет: в борьбе ткани против металла такие натяжения разорвут ее. Со временем, когда внешность изнашивается, – ткань, видимая часть, – когда она слабеет, внутренности начинают пробивать и прорывать себе путь наружу.
Принцесса Принцесса заявляет:
– Чтобы всунуть меня в это платье, понадобится как минимум три дарвона.
Она открывает ладонь, и я вытряхиваю что доктор прописал.
Ее отец, рассказывает Брэнди, натирал мясо колотым льдом, чтобы оно набралось воды, прежде чем пойти на продажу. Временами втирал в него то, что называют "бычьим помолом", чтобы оно набралось муки.
– Он не был плохим человеком, – говорит она. – Все в пределах чуть более усердного выполнения правил.
Не столько тех правил, по которым надо быть честным и хорошим, говорит она, сколько тех, по которым надо беречь семью от нищеты. И болезней.
Иногда по ночам, рассказывает Брэнди, отец пробирался к ней в комнату, пока она спала.
Не хочу это слушать. Рацион Брэнди из "Проверы" и дарвона вызвал у нее побочный эффект: эдакий словесный понос, при котором она не в состоянии удержать ни один мерзкий секрет. Разглаживаю вуали на ушах. Спасибо, что не делитесь.
– Отец иногда по ночам садился мне на кровать, – говорит. – И будил меня.
Наш отец.
Бальный костюм возродился во всей славе на плечах Брэнди, вернулся к жизни, более чем к жизни, к сказке, которую нигде нельзя было носить все последние пятьдесят лет. Змейка с мой хребет шириной проходит сбоку ровно вдоль руки Брэнди. Полосы корсажа стискивают Брэнди в талии, заставляя ее стремительно раздаваться в стороны кверху: ее грудь, голые руки и длинную шею. Юбка набрана из слоев светло-желтого фая и тюля. Повсюду так много жемчуга и золотого тиснения, что любой кусочек бижутерии будет уже слишком.
– Это целый дворец, а не платье, – замечает Брэнди. – Но даже под наркотой в нем больно.
Вырвавшиеся концы проволоки остаются торчать у шеи, торчат в талии. Гибкие пластинки китового уса жуют и режут все своими ребрами и острыми краями. Горячий шелк, грубый тюль. Сами вдохи и выдохи Брэнди заставляют сталь и целлулоид лязгать внутри, спрятавшись под тканью, сам процесс жизнедеятельности Брэнди заставляет их кусать и прожевывать ткань и ее кожу.
Переключимся на то, что по ночам отец Брэнди обычно говорил – "быстрее". "Одевайся". "Буди сестру".
Меня.
"Надевайте куртки и лезьте в кузов", – говорил он.
Что мы и делали, поздно ночью, когда телестанции уже исполнили национальный гимн и покинули эфир. Подвели итог вещательного дня. Никого кроме нас на дорогах не было: предки в кабине пикапа, мы двое в кузове, Брэнди и его сестра, свернувшиеся на боку на бугристом настиле автомобильной кровати; скрип пружин, гул карданной передачи, проникающий прямо внутрь нас. Выбоины в дороге сильно стучат нашими репами о кроватный настил. Наши лица плотно прикрыты ладонями, чтобы нам не вдыхать опилки и сухой компост, – поднятый ветром с пола мусор. Наши глаза плотно зажмурены, чтобы туда не попало то же самое. Мы ехали сами не зная куда, но пытались сообразить. Поворот направо, потом налево, потом длинный прямой участок, который пройден нами непонятно с какой скоростью, потом новый поворот направо перекатывал нас на левый бок. Мы не знали, сколько уже едем. Уснуть было невозможно.
Занашивая платье в клочья и стоя максимально неподвижно, Брэнди говорит:
– Знаешь, где-то лет с шестнадцати я жила в одиночестве.
С каждым вдохом Брэнди дергается, даже при своих слабеньких дарвоно-передозированных воздушных всхлипах. Рассказывает:
– Когда мне было пятнадцать, произошел один несчастный случай, и после больницы полиция обвинила отца в издевательстве надо мной. Все это продолжалось и продолжалось, а я не могла им ничего сказать, потому что рассказывать было не о чем.
Она передергивается со вдохом:
– Беседы, консультации, терапия вмешательства – все продолжалось и продолжалось.
Пикап сбавлял скорость и соскакивал с дорожного покрытия на гравий или проезжую колею, грохотал всем корпусом, пробираясь дальше, вглубь, а потом останавливался.
Вот так бедно мы жили.
По-прежнему лежа в кровати грузовика, отнимаешь от лица руки, и – приехали. Пыль и компост осядут. Отец Брэнди откроет задний борт грузовика, и ты окажешься на проезжей дороге вдоль ломаной стены маячащих товарных вагонов, слетевших с рельс во все стороны. В вагонах проломы. Платформы будут перевернуты, их груз из бревен или всякой мелочи – рассыпан. Цистерны смяты и текут. Вагонетки, полные углем или щепой, сброшены и опрокинуты в золотые и черные кучи. Резкий запах аммиака. Приятный запах кедра. Солнце как раз над горизонтом, и свет падает на нас словно из-под окружающего мира.
Здесь на грузовик можно будет погрузить дрова. Коробки растворимого ирисового пудинга. Пачки писчей бумаги, туалетной бумаги, двуханодные батарейки, зубную пасту, консервированные персики, книги. Маленькие бриллианты триплекса рассыпаны повсюду вокруг свернутых набок автомобильных транспортеров с новенькими разбитыми машинами внутри, чистенькие черные шины которых смотрят в небо.
Брэнди оттягивает вырез платья и заглядывает внутрь, рассматривая прилепленный на одной из грудей пластырь "Эстрадерм". Отдирает заклейку с другого пластыря и лепит его на вторую грудь; потом делает еще один лихорадочный всхлип и передергивается.
– Вся муть сдохла и улеглась примерно за три месяца; все расследование случая издевательства над ребенком, – рассказывает Брэнди. – И вот, выхожу я раз из зала после секции по баскетболу, а ко мне подходит мужик. Говорит, мол, он из полиции, а это частная беседа по завершении следствия.
Брэнди вдыхает, дергается. Снова поднимает вырез и вынимает метадоновый диск, лежавший между грудей, откусывает половину, а остальное бросает обратно.
В примерочной душно и тесно, нас тут двое сбитых в кучу, плюс это платье – огромный инженерный проект гражданского назначения.
Брэнди командует:
– Дарвон, – говорит. – Быстрее, пожалуйста, – и щелкает пальцами.
Выуживаю еще одну красно-розовую капсулу, и она с бульканьем заглатывается всухую.
– Этот парень, – продолжает Брэнди. – Просит меня пройти в его машину – поговорить, просто поговорить – и спрашивает: может, я хочу рассказать о чем-то, что побоялась открыть ребятам из службы защиты детей?
Платье рвется на части, шелк расходится по всем швам, тюль торчит наружу, а Брэнди рассказывает:
– Этот парень, детектив, я ему говорю – "Нет", а он – "Хорошо". Говорит, ему нравится мальчик, который умеет хранить тайны.
На месте крушения поезда можно было подобрать за раз под две тысячи карандашей. Лампочки, которые еще работают, и внутри них ничего не гремит. Заготовки ключей – многими сотнями. Больше в пикап не помещалось; а потом приезжали другие грузовики, и люди лопатами бросали зерно на задние сиденья машин, и разглядывали нас и наши кучи с излишком, пока мы решали, что нам больше нужно – десять тысяч шнурков или тысяча банок засоленного сельдерея. Пятьсот вентиляторных ремней, все одной длины, нам нужны не были, но их можно было перепродать, – или же двуханодные батарейки. Банки растительного масла, которое мы не успели бы использовать до прогорклости, – или же три сотни баллонов лака для волос.
– Парень из полиции, – продолжает Брэнди, и каждая проволочка торчит над тугим желтым шелком. – Кладет на меня руку, прямо на ногу в шортах, и говорит, что нам не обязательно открывать дело заново. Нам не стоит причинять моей семье никаких больше проблем, – рассказывает Брэнди. – Этот детектив говорит, что полиция собирается арестовать моего отца по тому подозрению. А он может остановить их, мол. Говорит, мол, решать все мне.
Брэнди вдыхает, и платье рвется, – она дышит, и с каждым вздохом обнажается в новых местах.
– А что мне было знать, – говорит. – Мне было пятнадцать. Я вообще ничего не знала.
Сквозь десятки прорванных дыр виднеется голая кожа.
На месте крушения поезда отец предупреждал, что тут с минуты на минуту будет служба безопасности.
Мне это слышалось, как: это служит нашему богатству. Это служит нашей безопасности. А на самом деле оно значило, что надо поторопиться, или нас поймают, и мы все потеряем.
Конечно, я помню.
– Парень из полиции, – продолжает Брэнди. – Был молодой, года двадцать два-двадцать три. Не какой-нибудь там грязный старикашка. Это не было ужасно, – говорит она. – Но это не была любовь.
Платье рвется дальше, и в разных местах расцепляется каркас.
– В общем, – говорит Брэнди. – Это смутило меня на многие годы.
Так проходило мое детство, в железнодорожных крушениях вроде такого. Нашим единственным десертом на время от моих шести до девяти лет был исключительно ирисовый пудинг. Теперь выясняется, что меня воротит от ириса. Даже от цвета. Особенно от цвета. И его вкуса. И запаха.
С Манусом я познакомилась так: когда мне было восемнадцать, в дверь дома родителей вошел потрясно выглядящий парень, и спросил – получали мы хоть раз весточку от моего брата, после того как тот сбежал.
Парень был чуть старше, но в приемлемых пределах. Лет двадцать пять, максимум. Он дал мне визитку, которая гласила: "МАНУС КЕЛЛИ, Независимый Особый Уполномоченный Полиции Нравов". Кроме этого я приметила только то, что у него на пальце не было обручального кольца. Он сказал:
– Знаешь, а ты очень похожа на своего брата, – одарил меня сверкающей улыбкой и спросил:
– Как тебя зовут?
– Прежде, чем вернемся в машину, – говорит Брэнди. – Я должна кое-что рассказать тебе про твоего друга, мистера Уайта Вестин-Гауза.
Бывшего мистера Чейза Манхэттена, бывшего Нэша Рэмблера, бывшего Дэнвера Омелета, бывшего независимого особого уполномоченного полиции нравов Мануса Келли. Решаю задачку: Манусу тридцать лет. Брэнди – двадцать четыре. Когда Брэнди было шестнадцать, мне было пятнадцать. Когда Брэнди было шестнадцать, возможно, Манус уже успел войти в наши жизни.
Не хочу это слушать.
Прекраснейшее, безупречное старинное платье исчезло. Шелк и тюль сползли и упали, осыпались на пол примерочной, а проволока и крепления сломались и спружинили в стороны, оставив лишь несколько красных отметин, уже гаснущих, на коже Брэнди, которая осталась стоять ко мне почти вплотную в одном нижнем белье.
– Забавно то, – замечает Брэнди. – Что это ведь не первый раз, когда я уничтожила чье-то чужое платье, – и большой глаз в стиле "Темносиние Грезы" подмигивает мне. Чувствуется тепло ее кожи и дыхания, – вот так она близко.
– В ночь, когда сбежала из дому, – говорит Брэнди. – Я считай дотла спалила все шмотки, которые на бельевой веревке развесила моя семья.
Брэнди в курсе насчет меня, или же не в курсе. Исповедуется ли она всем сердцем, или же с меня прикалывается. Если в курсе, то про Мануса могла мне и наврать. Если не в курсе, тогда мой любимый мужчина – мерзкий, больной сексуальный хищник.
Либо Манус, либо Брэнди, – кто-то кормит меня гнусными враками – меня, которая здесь эталон правды и добродетели. Манус или Брэнди – не знаю, кого из них ненавидеть.
Я и Манус, или Я и Брэнди, – это не было ужасно, но это не была любовь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Должен быть какой-то лучший способ убить Брэнди. Освободиться. Как-то прикрыть все раз и навсегда. Какая-то перестрелка, из которой мне удастся выскользнуть. Эви меня сейчас ненавидит. Брэнди выглядит точно как я в свое время. Манус по-прежнему так влюблен в Брэнди, что попрется за ней куда угодно, даже сам не зная зачем. Все, что мне нужно сделать – поставить Брэнди в прицел перед Эви с ружьем.
Ванные речи.
Костюмный жакет Брэнди с санитарно-тонкой талией и стильными рукавами в три четверти по-прежнему лежит сложенным на аквамариновой полке у большого умывальника в виде моллюсковой раковины. Я подбираю жакет, и выпадает мой сувенир из будущего. Открытка с чистым солнечным небом 1962-го и днем открытия Космической Иглы. Можно выглянуть из окон-иллюминаторов ванной и увидеть, что случилось с будущим. Затопленное готами в сандалиях и с мокнущей дома чечевицей, будущее, которого я хотела, исчезло. Будущее, которое было мне обещано. Все, чего я ждала. То самое, чем все должно было обернуться. Счастье, покой, любовь и комфорт.
"Когда будущее", – писал как-то Эллис на обороте открытки. – "Из обещания превращается в угрозу?"
Заталкиваю открытку между брошюрами по вагинопластике и буклетами по лабиапластике, которые торчат меж страниц книжки мисс Роны. На обложке спутниковый снимок тайфуна "Белокурый Ураган" со стороны Западного берега лица. Блондинка усыпана жемчугом, там и сям блистает что-то, похожее на бриллианты.
Она очень счастлива с виду. Кладу книгу обратно, во внутренний карман жакета Брэнди. Подбираю косметику и наркоту, разбросанную по полкам, и прячу ее. Солнце падает сквозь иллюминаторы окон под низким-низким углом, и почта скоро закроется. А там по-прежнему деньги Эви, которые надо забрать. Думаю, как минимум полмиллиона долларов. Что со всеми этими деньгами можно сделать, – я не знаю, но уверена, что разберусь.
Брэнди перенесла травму прически в тяжелой форме, поэтому я трясу ее за плечо.
Глаза Брэнди в стиле "Темносиние Грезы" трепещут, моргают, трепещут, щурятся.
Все ее волосы примяты сзади.
Брэнди привстает на локте.
– Знаешь, – говорит она. – Я сейчас под наркотой, поэтому ничего страшного, если скажу тебе это.
Брэнди смотрит на меня, склонившуюся над ней и предлагающую протянутую руку.
– Должна тебе сказать, – говорит Брэнди. – Что в самом деле люблю тебя.
Говорит:
– Не знаю, как ты отнесешься, но я хочу, чтобы мы стали одной семьей.
Мой братец хочет на мне жениться.
Рывком поднимаю Брэнди с пола. Брэнди наваливается на меня; потом эта Брэнди валится на край полки. Говорит:
– Мы не получились бы типа две сестрички-лесбиянки, – говорит Брэнди. – У меня еще осталось немного деньков Курса Реальной Жизни.
Воровать наркотики, продавать наркотики, покупать шмотки, брать напрокат дорогие тачки, сдавать шмотки назад, заказывать коктейли, – не назвала бы я это Реальной Жизнью, даже близко.
Унизанные кольцами руки Брэнди распускаются цветками и разглаживают ткань юбки спереди.
– У меня сохранилось все изначальное оборудование, – говорит она.
Большие руки продолжают гладить и расправлять промежность Брэнди, пока та становится боком к зеркалу и смотрит в него на свой профиль.
– Через годик оно должно было сойти, но тут я встретила тебя, – продолжает она. – Я неделями сидела в Конгресс-Отеле с собранными в дорогу сумками в одной надежде, что ты придешь и вызволишь меня.
Брэнди поворачивается к зеркалу другим боком и погружается в исследования.
– Я прям так тебя любила, что даже подумала – может, еще не поздно?
Брэнди проводит тюбиком блеска по верхней губе, потом по нижней, промокает губы платком и бросает большой поцелуй в стиле "Незабудка" в ракушечный унитаз. Брэнди спрашивает своими новыми губами:
– Есть идеи, как эту фигню сливать?
Я просидела многие часы на этом толчке, и – нет, ни разу не приметила, как сливать в нем воду. Ступаю в коридор, чтобы Брэнди пришлось следовать за мной, раз уж она собралась болтать.
Брэнди спотыкается в дверях ванной комнаты, в месте, где плитка встречается с коридорным ковром. У нее на туфле сломался каблук. Чулок побежал в том месте, где зацепил за косяк двери. Для равновесия она схватилась за вешалку для полотенец и выщербила себе лак на ногте.
Эта сверкающе-жопная королева совершенства, она говорит:
– Вот срань.
Эта принцесса Принцесса орет мне вслед:
– Дело не в том, будто мне в самом деле охота стать женщиной, – кричит. – Стой ты!
Брэнди орет:
– Я делаю такое лишь потому, что это самая большая ошибка, которую я могу для себя выдумать. Это глупо и разрушительно, и кого ты ни спроси – любой скажет тебе, что я неправа. Вот поэтому я и должна пройти это.
Брэнди спрашивает:
– Разве не ясно? Потому что мы натасканы так, чтобы вести жизнь правильно. Чтобы не делать глупостей, – говорит Брэнди. – А я считаю – чем большей кажется глупость, тем больше шансов для меня вырваться и жить настоящей жизнью.
Как Христофор Колумб, который поплыл навстречу бедствию на край света.
Как Флеминг со своим хлебным грибком.
– Настоящие наши открытия приходят из хаоса, – кричит Брэнди. – Из странствий в те места, которые кажутся неверными, глупыми и дурацкими.
Ее величественный голос заполняет дом, она орет:
– Не надо убегать от меня, когда я, на минутку, пытаюсь объясниться!
Ее пример – женщина, которая карабкается на гору, без разумной причины для таких упорных стараний, и для большинства людей это дурная блажь, неприятности, глупости. Та альпинистка может целыми днями быть в голоде и холоде, мучениях и страданиях, но всю дорогу будет карабкаться на вершину. И, может быть, оно ее изменит, но все, что она хочет видеть в этом – свою личную историю.
– А я, – говорит Брэнди, все еще стоя в двери ванной комнаты, все еще разглядывая потрескавшийся лак. – Я делаю такую же глупость, только гораздо хуже: боль, деньги, время, и то, что меня бросили все старые друзья – а в конце мое тело станет моей историей.
Операция по смене пола может казаться кому-то чудом, но если тебе такого не хочется – это высшая форма самоуродования.
Она продолжает:
– Речь не о том, что быть женщиной плохо. Может быть, это замечательно, если хотеть быть ею. Фишка в том, – говорит Брэнди. – Что быть женщиной мне хочется меньше всего на свете. Это самая большая в мире глупость, которую я могу себе выдумать.
Потому что мы настолько пойманы в западню нашей культуры, в бытие бытия человеком с этой планеты, с мозгами как нам положено, с такой же парой рук и ног, как у всех. Мы настолько в ловушке, что любой путь к побегу, который мы можем вообразить себе, окажется лишь новой частью западни. Все, чего мы хотим – мы приучены хотеть.
– Моей первой идеей было ампутировать себе руку и ногу, левые или правые, – она смотрит на меня и пожимает плечами. – Но ни один хирург не согласился бы мне помочь.
Говорит:
– Я рассматривала СПИД в качестве опыта, но тут СПИД уже был у всех подряд, и это казалось совершенно попсовым и банальным.
Говорит:
– Что-то такое сестры Реи сказали моей родной семье, почти уверена. Эти сучки иногда очень переимчивы.
Брэнди вытаскивает из сумочки пару белых перчаток, того типа, у которых на запястье застежка из жемчужины. Она сует руку в каждую перчатку и застегивает пуговицы. Белый – не очень хороший выбор цвета. В белом ее руки кажутся пересаженными от гигантского мультяшного мышонка.
– Потом я подумала насчет перемены пола, – продолжает она. – Хирургии изменения сексуальных функций. Эти Реи, – говорит она. – Считают, будто меня используют – а на самом деле я использую их с их деньгами, позволяя им думать, что они надо мной хозяева и вся идея принадлежит им.
Брэнди поднимает ногу, разглядывая сломанный каблук, и вздыхает. Потом тянется и снимает вторую туфлю.
– Ни к чему из этого Реи меня не толкали. Ни к чему. Просто это было самой большой глупостью, которую я могла сделать. Самым большим вызовом, который я могла себе бросить.
Брэнди отламывает каблук с целой туфли, оставляя ноги в двух уродливых плоскодонках.
Говорит:
– В бедствие надо прыгать обеими ногами.
Выбрасывает каблуки в мусорное ведро ванной.
– Я не натуралка и не голубая, – продолжает она. – И не бисексуалка. Я хочу вырваться из ярлыков. Не желаю, чтобы вся моя жизнь была втиснута в рамки одного слова. Или рассказа. Я хочу найти что-то другое, непостижимое, какое-то место, которого нет на нашей карте. Настоящее приключение.
Сфинкс. Тайна. Пустая страница. Непостигнутая. Неопределенная. Непостижимая. Неопределимая. Всеми этими словами Брэнди обычно описывала меня в вуалях. Не просто рассказ, который продолжается в духе – "а потом, а потом, а потом", а потом раз – и смерть.
– Когда тебя повстречала, – говорит она. – Я завидовала тебе. Я жаждала твое лицо. Я подумала, что лицо как у тебя потребует куда больше крутизны, чем любая операция по смене пола. Оно даст тебе открытия значительней. Оно сделает тебя сильнее, чем я когда-либо смогу стать.
Начинаю спуск по лестнице. Брэнди в новых плоскодонках, я в полном смущении, – мы добираемся в фойе, а через двери гостиной слышно, как протяжный, глубокий голос мистера Паркера талдычит снова и снова:
– Правильно. Давай.
Мы с Брэнди на минутку приостанавливаемся за дверьми. Снимаем друг с дружки клочки пыли и туалетной бумаги, и я взбиваю Брэнди примятые сзади волосы. Брэнди немного подтягивает колготки и одергивает пиджак спереди.
Открытка и книжка спрятаны у нее в жакете, член спрятан в колготках, – сразу не скажешь, есть оно там, или нет его.
Распахиваем двойные двери гостиной, а там мистер Паркер и Эллис. Штаны мистера Паркера спущены до колен, голый волосатый зад маячит в воздухе. Остаток его наготы воткнут Эллису в лицо. Вот он, Эллис Айленд, бывший Независимый-Особый-Уполномоченный-Полиции-Нравов Манус Келли.
– О да. Давай. Как здорово.
Эллис выполняет работу по должности на пять с плюсом, – его руки обхватывают мощные футбольно-стипендиатские булки Паркера, и он втягивает своим личиком мальчишки с нацистского плаката столько, сколько влазит в рот. Эллис мычит и булькает, празднуя возвращение на службу после вынужденной отлучки.