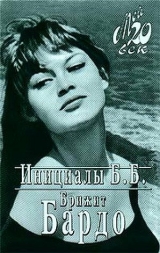
Текст книги "Инициалы Б. Б."
Автор книги: Бриджит Бордо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
В Теколутле комфорт был сведен до минимума.
Не было даже гостиницы – только мотель, где стены от сырости так и сочились теплыми грязными каплями. Дряхлый, скрипучий вентилятор, облепленный дохлыми насекомыми, распространял свое зловонное, обжигающее дыхание. Удобства – омерзительный умывальник в углу и стенной шкаф, кишащий тараканами.
Телефона не было. Все пахло затхлостью, смесью перегноя с морской солью: бушующие волны океана, подернутые смолистым налетом, с оглушительным гулом разбивались на множество сверкающих капелек в нескольких метрах от кокосовых пальм, окружавших это странное и мрачное место. Чистя зубы, мы полоскали рот «кока-колой», чтобы не глотнуть воды; даже принимать душ надо было с большой осторожностью.
В общем, я хотела уехать немедленно. Не могло быть и речи о том, чтобы сниматься в таких условиях, тем более что – вот невезение! – снимать предстояло эпизоды боев и партизанской войны, где были мои самые важные сцены, а Жанна почти не появлялась.
И все-таки никуда я не делась.
Съемка на следующий день – это было нечто.
Хуже смертной казни. Загримироваться невозможно: все текло. Причесаться невозможно – все слипалось. Одеться – это и вовсе была трагедия: я задыхалась в шерстяной юбке, в корсаже с накрахмаленным стоячим воротничком и галстуком и в высоченных, до колен, ботинках на шнуровке. Ноги мне обрызгали каким-то составом от насекомых: среди тропических паразитов могли оказаться опасные. Инсектицид плюс жара и пот – и несколько дней я ходила с ожогами на ногах и на ляжках. В общем, я пребывала в плачевном состоянии!
Луи Маль положил себе на голову пузырь со льдом и нахлобучил сверху шляпу! Счастливчик. У всей съемочной группы началась «болезнь туристов». Меня она тоже не миновала! Мы все просто подыхали. Даже у моего утенка был понос!
У Жанны так упало давление, что она слегла на несколько дней. Врач-мексиканец, сопровождавший съемочную группу, день и ночь оказывал нам помощь и пичкал лекарствами. Единственной пищей, которой нас здесь потчевали, были крабы и ванильное мороженое: Папантла, столица ванили, находилась неподалеку.
Какая гадость!
Прости-прощай, серебряная посуда, белые трюфели, ужимки и кривлянья – теперь мы все были на равных и боролись, чтобы выжить в этом аду, снявши маски и штаны – по разным причинам. Мы увидели друг друга такими, какие мы есть. Зрелище было не из приятных, ох, не из приятных.
* * *
В этой изнуряющей жаре мои силы были на исходе, но на исходе была и война, и съемки тоже. Я победила крепости и вражеские армии, я захватила – и какой ценой! – пулеметы противника, скоро, скоро я смогу вернуться в цивилизованные края.
Следующая остановка предстояла недолгая.
А потом – потом для меня съемкам конец! Свобода!
Директор отеля, самодовольный, надутый тип, смотрел на меня сальными глазами, когда я явилась с моим утенком.
У них в саду было что-то вроде маленького зоопарка, где розовые фламинго, утки, гуси, ибисы, самые разные птицы с грехом пополам привыкали жить общей стаей, что по природе им не свойственно. Дело в том, что уехать с утенком я не могла. Во-первых, я неминуемо должна была задержаться еще на несколько дней в Мехико. А потом – перелет с посадкой в Нью-Йорке, всякая живность и растения под запретом. Полетта Дюбо и Дедетта посоветовали мне на пробу оставить моего утенка на одну ночь в стае!
С болью в сердце я оставила его в эту первую ночь за решеткой, такого потерянного среди других птиц, абсолютно чужих ему. Он плакал, звал меня, натыкаясь на железную проволоку, которая впервые в жизни стала на его пути. Я до утра не сомкнула глаз, терзаясь угрызениями совести, горюя, тоскуя без моего чудесного маленького друга.
На другой день я нашла моего утенка догола ощипанным, но еще живым. Он подвергся нападкам и насмешкам всей стаи, не умел постоять за себя, он был такой слабенький и не понимал своего нового положения. Я лечила его меркурохромом, целовала и ласкала, потом с тяжелым сердцем пошла на съемку. Еще целую неделю я держала утенка при себе, врачуя его раны.
Затем настало время уезжать.
* * *
Дома все показалось мне тесным, смехотворно маленьким, жалким и пошлым. Я побывала в мире величия, просторов, бескрайности, и теперь мне не хватало места в Париже, я задыхалась на авеню Поль-Думер, мне был мал французский дух, так непохожий в своей узости и ограниченности на возвышенную и страстную натуру людей, которых я только что покинула, чьим духом еще была пропитана. Зато моя Гуапа радовалась моему приезду.
Я помчалась в Базош.
Дом, оправившийся от работ, был великолепен – как будто по взмаху волшебной палочки, он преобразился в одно мгновение.
Был даже бассейн, точь-в-точь как в Куэрнаваке! Я в свое время послала план и фотографию – теперь, если я прищурю глаза, мне будет казаться, что я снова там. Еще я велела вырыть маленький пруд на болотистом лугу – он полностью изменил пейзаж, кроме того, собирал воду всех окрестных ключей, и стало не так сыро. Глядя на пруд с плоскодонкой и почти совсем закрыв глаза, я представляла себе плавучие сады Хочимилько. Я думала о моем милом утенке – как хорошо было бы ему здесь, добейся я разрешения взять его с собой.
Реадаптация далась мне трудно еще и потому, что на меня свалились неожиданные проблемы.
Жак решил полностью поручить Николя заботам своей сестры Эвелины. Мать многочисленного семейства, она сумеет лучше меня обеспечить ребенку правильное воспитание в здоровой, незагрязненной среде, близ Монпелье. Я долго размышляла, прежде чем согласиться с этим категоричным и бесповоротным решением.
Имею ли я право воспротивиться воле отца ребенка?
Есть ли у меня желание, время, терпение, чтобы посвятить три четверти жизни воспитанию сына?
Когда горничная уходит, потому что не знает, кого ей называть «месье», – это еще куда ни шло. Но если ребенок будет травмирован на всю жизнь тем, что его мать меняет любовников, как перчатки, в зависимости от погоды и настроения, от ссоры или случайной встречи, – это дело другое, гораздо серьезнее. Не зная, как быть, я дала согласие, фактически отказавшись от своего единственного ребенка и лишившись счастья, которое знает каждый, у кого есть дети.
Сегодня я не убеждена, что решение, на котором настаивал Жак, было верным. Николя носит в себе глубокую рану. Наши отношения, хоть мы и близки с сыном уже много лет, страдают от недостатка повседневной близости, взаимопонимания, всего того, что соединяет людей и укрепляет кровные узы.
XX
Жики и Анна встретили меня в «Мадраге», и – о чудо! – я обнаружила там тех же сторожей, что и в прошлом году. Я не верила своим глазам. Капи, грозный пес, радовался моему возвращению на свой манер, чуть не отхватив мне полруки от избытка чувств. Без меня его баловали, и он стал менее агрессивным.
Благодаря новеньким стенам, отныне и навсегда оградившим мои владения от соседних пляжей, я надеялась, что в эти каникулы на мою долю выпадет меньше стрессов, чем обычно. После многочисленных просьб и поклонов властям мне удалось добиться, в порядке исключения и очень дорогой ценой, разрешения на постройку защитных дамб, вдающихся в море на десятки метров. Еще и сейчас, тридцать лет спустя, эти стены, о которых тогда кричали все газеты, остаются предметом ядовитых нападок. А ведь если бы не они, я давным-давно была бы вынуждена расстаться с «Мадрагом».
Жики, Анна и их годовалый сын Эмманюэль по-прежнему жили на вилле «Малый Мадраг». Им стало там тесновато, тем более что жилая комната – прекрасная, но единственная – служила Жики еще и мастерской: там он писал, там же и хранил свои полотна, рисунки, эскизы. Когда они сказали мне, что подыскали дом в Гримо и скоро переедут, меня это убило. Жики был моим страховочным тросом, моим буфером, моим советчиком, другом, братом, а Анна – моей единственной подругой, наперсницей, сестрой!
Что я буду делать без них?
Конечно, со мной останется Боб, но это совсем другое.
* * *
Я приступила к озвучиванию фильма «Вива, Мария!».
Я ненавижу сидеть в темном, плохо пахнущем, похожем на могилу зале и повторять с поправками слова, которые я произносила в действии, в ситуации. Даже вздохи нужно записывать заново! Перед тобой без конца прокручивается один и тот же кадр с плохим звуком, потом внизу появляются субтитры – слова, которые надо механически проговаривать, как только они доходят до контрольной черты. Полсекундой раньше или позже – будет уже не синхронно. Приходится повторять снова и снова, до полного изнеможения, сохраняя нужную интонацию: гнев, лукавство или решимость – это так глупо, когда сидишь перед микрофоном и твердишь одно и то же, как попугай!
Я преклоняюсь перед актерами, для которых это профессия, перед всеми теми, кто озвучивает иностранные фильмы, причем поразительно талантливо.
Были, правда, и смешные моменты. Например, кадр, где я, вся запыхавшаяся, в поту, взбегаю на вершину холма, размахивая винтовкой. В оригинале я рычала: «Пропади пропадом эта дерьмовая профессия, мне жарко, вы все мне осточертели!» В диалогах этой фразы не было, я произнесла ее по вдохновению! А Луи Маль в этом месте вложил в мои уста следующий текст: «Мы одолели их, одолели, наша взяла! Да здравствует революция!» Все-таки озвучание бывает иногда необходимо!
А потом мне сообщили, что я должна присутствовать на премьере фильма «Вива, Мария!» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе! Я отказалась: я наконец-то свободна и спокойна, разделавшись со всеми профессиональными обязательствами, я хочу отдохнуть, пусть едет Жанна Моро!
Но Жанна как раз поехать не могла!
Я ни разу в жизни не была в Соединенных Штатах. Хотя прославилась я именно благодаря американцам. И я смирилась.
Итак, 16 декабря 1965 года я вылетела в Нью-Йорк на самолете «Эр Франс», переименованном в «Вива, Мария!», в сопровождении внушительного эскорта: со мной были Боб, Жики, моя портниха Элен Важе, моя гримерша Дедетта, мой парикмахер Жан-Пьер, Ольга, Луи Маль, Франсуа Райхенбах, армада пресс-атташе и толпа фотографов и журналистов, удостоившихся чести лететь в «моем» самолете. Я была во всей красе, одетая, наманикюренная, подмазанная, причесанная и обутая в совершенстве. Все казалось мне нереальным, как будто я раздвоилась.
Полет прошел под непрерывные интервью, фотографирование, шампанское, тосты. Я чувствовала себя смертельно усталой и в то же время была лихорадочно возбуждена.
Прибытие в Нью-Йорк было чрезвычайно впечатляющим.
Я вышла на трап, как бык выходит на арену: вот она я! Мерцали вспышки, сыпались вопросы, толпа ревела. Медленно, как в «Казино-де-Пари», я спустилась по ступенькам. Полиция пыталась сдержать оголтелую толпу, но меня хватали, пихали, толкали, повсюду были огни, повсюду руки, повсюду люди, меня окружили, теснили, я задыхалась. И улыбалась. Я во что бы то ни стало должна была улыбаться, быть сильной, выдержать, выдержать, Боже ты мой!
Меня втолкнули в огромный зал – ожидала пресс-конференция. Огромный стол, уставленный микрофонами, афиша «Вива, Мария!» на стене, множество журналистов, фотографов, телевидение…
Мне представили человека справа от меня. Это оказался Пьер Сэлинджер, бывший личный пресс-секретарь Кеннеди и Белого дома. К нашим услугам были его знания, его чувство юмора, его опыт и ум.
Из множества заданных мне вопросов, которые я парировала то по-французски, то по-английски, очень коротко и забавно, мне запомнились самые нахальные:
– Ваша первая таблетка?
– Таблетка аспирина.
– Самый счастливый день в вашей жизни?
– Это была ночь.
– Самый глупый человек, которого вы встречали?
– Тот, кто задал мне такой глупый вопрос.
– Ваш любимый фильм?
– Следующий.
– Ваше любимое украшение?
– Красота, потому что ее нельзя купить.
– Что вы любите делать?
– Ничего не делать.
– Что вы думаете о свободной любви?
– Я вообще не думаю, когда занимаюсь любовью.
– Что вы надеваете на ночь?
– Объятия моего любимого.
(Когда этот вопрос задали Мерилин, она дала незабываемый ответ: «Шанель номер пять».)
– Что вас больше всего прельщает в мужчине?
– Его женщина.
– Чем, по-вашему, вы обязаны вашей славе?
Я встала и, бросив им: «Смотрите!», быстро скрылась.
Меня засунули в роскошный двенадцатиместный «линкольн» с открытым верхом, потом протащили через холл отеля «Плаза» и, наконец, впихнули в королевско-президентские апартаменты, в которых было не меньше семи комнат!
Назавтра я не могла выйти из отеля, осаждаемого толпами журналистов; пришлось провести день взаперти. Я мерила шагами семь комнат вдоль и поперек, пока почти все мои друзья гуляли по улицам Нью-Йорка, который мне уже стал поперек горла. Мои двери охраняли полицейские в штатском, никто не мог войти или выйти, не сказав пароль.
Я заказала ужин «для узкого круга» на двенадцать персон.
Когда метрдотель подавал нам мой любимый сырный пирог, явился рабочий в спецовке, со стремянкой на плече и сумкой с инструментами под мышкой: дирекция прислала его проверить электропроводку. Мы продолжали ужинать, болтали обо всем и ни о чем, обсуждали свежие газеты, в которых только и говорилось, что о вчерашней пресс-конференции, преимущественно с похвалой, пытались поймать по телевизору какие-то отрывки, фрагменты с моим участием. Мы чувствовали себя совершенно непринужденно, а парень между тем, то ползая на четвереньках, то взбираясь на стремянку, все проверял и проверял, в порядке ли проводка.
На другой день я обнаружила детальнейшее описание нашего вечера в одной из самых желтых нью-йоркских газет. Электрик оказался опытнейшим и опаснейшим журналистом падкой до сенсаций американской прессы.
Настал день Х.
День моего первого появления собственной персоной в «Астор», одном из прославленных бродвейских кинотеатров.
От Сорок четвертой улицы до Бродвея народу было столько, что мы с огромным трудом добрались до места, несмотря на охрану полиции и дорожного патруля, достойную главы государства.
Луи Маль, Пьер Сэлинджер и все остальные помогли мне выбраться из машины. Полицейские, стоя плечом к плечу, не могли сдержать напор ревущей толпы. Я боялась за мое платье, которое могло лопнуть по швам в любую минуту. И вдруг нас буквально подхватил, оторвал от земли и понес людской шквал невероятной силы!
Что-то ударило меня прямо в лицо.
Потом в трех сантиметрах от моего правого глаза сверкнула вспышка, вызвав отслойку сетчатки. Полуослепшая, оглушенная, насмерть перепуганная, на нетвердых ногах, я вошла наконец в холл, уцепившись за Луи Маля, и рухнула на первый же стул. Многие в тот вечер пострадали, и вой сирен «скорой помощи» странно вплетался в диалоги фильма. У меня остались от премьеры леденящее душу воспоминание, неизлечимая травма моего единственного здорового глаза и окончательная убежденность в том, что эта страна мне не подходит.
В больших черных очках я отправилась в Лос-Анджелес в сопровождении все того же шума и того же окружения, усталая, безропотная, зная, что там все начнется сначала.
В вечер премьеры, затянутая в платье телесного цвета, я выглядела голой, будучи одетой, а мои длинные волосы, усмиренные и уложенные волнами, придавали мне вид типичной американской кинозвезды. Меня вывели на подиум, откуда я отвечала на вопросы. Выставленная напоказ фотографам, но недосягаемая для толпы, я осталась целой и невредимой, и все были очарованы. Я надела темные очки и твердо решила смыться как можно скорее.
От этих безумных поездок мне запомнились только роскошные апартаменты, в которых я была заперта.
В пустом – был канун Рождества! – самолете вместе с нами летели Пьер Сэлинджер и его жена Николь, прелестная, обворожительная француженка! Они собирались провести 1 января у друзей в Париже, куда намеревались вскоре окончательно переселиться. В полночь, когда родился младенец Иисус, я выставила свои туфли в проход… Мы чудесно поужинали, выпили шампанского, а наутро, когда прилетели в Орли, я нашла в туфлях много маленьких подарочков.
Спасибо, «Эр Франс», за это незабываемое Рождество в небесах.
Через несколько дней мне позвонил Ален Делон. Он умолял взять к себе его собаку Чарли, великолепную немецкую овчарку.
Я решила взять Чарли. Мое жилище на Поль-Думер было маленькое, миленькое, комнаты на разных уровнях, лесенки, ступеньки. Гуапа царила там полновластно! Чарли пришлось подчиниться.
Нас с ним было не разлить водой. Это была любовь с первого взгляда, и с его и с моей стороны. До него у меня никогда не было немецкой овчарки – как, впрочем, и после него.
Этому псу не хватало ласки. Я дала ему то, в чем он нуждался, и он вел себя просто изумительно, порой даже чересчур бурно проявлял свою любовь: он все-таки был великоват для моей квартиры. Когда мы с Чарли выходили на прогулку, никто не смел ко мне приблизиться. Он никого не подпускал, с ним было так спокойно, просто потрясающе.
* * *
Как раз когда я вернулась после американской эпопеи, мне доставили наконец мой великолепный «морган», выкрашенный в английскую зелень, двухдверный, с откидным верхом, собранный вручную, пахнущий кожей и розовым деревом.
«Морган» был моей любимой игрушкой, моей страстью, моим капризом. Но отнюдь не идеальной машиной для тех, кто желает ездить с комфортом.
У Жанны Моро был «роллс-ройс»; на меня он произвел огромное впечатление! Сколько ни тверди, что ты не отличаешься снобизмом, привыкла жить, как Бог на душу положит и плюешь на показную роскошь, но «роллс» – это хоть кому утрет нос.
Чем я хуже?
Мишель, моя чудо-секретарша, которая оставалась при мне на протяжении пятнадцати с лишним лет, провернула для меня сделку века, отыскав новенький «сильвер-клауд», серый с металлическим блеском, с раздвижными стеклами между водителем и задними сиденьями, маленьким баром с графинчиками из хрусталя и серебра, в безупречном состоянии. Роскошь, красота, комфорт, высочайший класс и прочее за 20 000 франков. Я так и села! «Роллс» за двадцать штук!
Я купила его немедленно.
Фирма «Роллс» доставила мое приобретение из Леваллуа со всеми почестями, подобающими особе моего положения. Его припарковали за «морганом», на автобусной остановке. Ключи и документы доставили мне на восьмой этаж и долго рассыпались в благодарностях, когда Мишель по моей просьбе вручила чек. Я смотрела в окно на эту махину, игравшую в паровозики с «морганом», сомневалась, сумею ли я ее водить, и ломала голову, где мне ее держать. Долго я не раздумывала: позвала маму с папой, Бабулю, Дада, Биг, тетю Помпон, загрузила всю онемевшую от восхищения компанию в «роллс», села за руль и с бесконечными предосторожностями сделала круг по кварталу.
Я гордилась собой, но почивать на лаврах было рано.
Припарковывать машину пришлось папе: я с перепугу не справилась с ее колоссальными, по сравнению с «морганом», размерами. Через некоторое время я освоилась и водила ее сама, невольно став причиной множества уличных происшествий. Люди изумленно таращили глаза, узнавая меня за рулем «роллса», врезались друг в друга, а я невозмутимо ехала своей дорогой, вызывая все новые столкновения, что меня несказанно веселило.
Но мне стало не до веселья, когда я подсчитала, в какое количество штрафов обходится мне эта машина. Полиция закрывала глаза на маленький «морган», но огромный «роллс» на автобусной остановке трудно было не заметить. А у меня нет ни гаража, ни места на стоянке! Очень скоро сумма штрафов сравнялась с ценой машины.
Наконец-то получив возможность жить, как мне хочется, свободная от контрактов и прочих обязательств (хорошенького понемножку), я сняла шале в Мерибеле.
Этот маленький поселок, тогда еще заповедный и не затоптанный, щедро дарил всем, кто любил его, неповторимую красоту окружавших его гор: на высоченных, но совсем не страшных заснеженных вершинах трасса делала длинные изгибы, по которым можно было совершать головокружительные спуски без малейшей опасности.
* * *
Я была далеко не чемпионкой по лыжам и съезжала чаще на пятой точке, чем на ногах. Чарли неизменно сопровождал меня. Вот в такой, не самой выгодной для меня позиции я и познакомилась с Валери Жискар д’Эстеном.
Началась многолетняя дружба, продолжавшаяся и после того, как я отдала ему свой голос на выборах в 1974 году.
Валери приходил расслабиться в мое маленькое шале в Мерибеле, удирая из своего снобистского, претенциозного и безобразного Куршевеля, где он, должно быть, смертельно скучал за бешеные деньги!
* * *
Франсуа Райхенбах, используя в качестве посредников Боба и Ольгу, уговаривал меня сделать новогоднее музыкальное шоу на телевидении. В это же время Серж Бургиньон, чья картина «Воскресенья в Виль-д’Авре» имела большой успех, предложил мне роль в фильме под условным названием «Две недели в сентябре»; натурные съемки в Шотландии, партнер – Лоран Терзиефф. Я колебалась.
Тем временем Боб загорелся идеей поставить вместе с Райхенбахом пресловутое шоу, которое смотрят и по сей день. А поскольку у него не было ни гроша за душой, он попросил меня дать ему необходимые на постановку 20 000 франков. Я дала Бобу эту сумму, чтобы сделать ему приятное и чтобы он от меня отвязался.
По поводу Бургиньона я не питала радужных надежд, к тому же мне очень нравилась одна книга, которую я прочла – «Форель» Роже Вайяна, которую хотел поставить Джозеф Лоузи… Вот этот проект меня по-настоящему интересовал: я предпочитала «Форель» Бургиньону! [5]5
Здесь и дальше Брижит Бардо обыгрывает фамилию режиссера, используя название блюда французской кухни: «bourguignon» – рагу из говядины с луком и красным вином.
[Закрыть]
Потом «Форель» сама собой рассосалась, и я подписала контракт, пересмотрела и поправила сценарий. Я дала фильму название «С радостным сердцем» – названием я была очень горда, а вот фильмом горжусь меньше.
Но все это было еще впереди!








