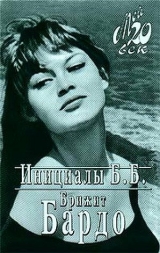
Текст книги "Инициалы Б. Б."
Автор книги: Бриджит Бордо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 22 страниц)
Брижит Бардо
Инициалы Б.Б
Пилу и Тоти, моим родителям, и Николя, моему сыну
Спасибо тем, кто любил меня глубоко и искренне, их немного, и они узнают друг друга. Спасибо тем, кто пинками в зад научил меня жить, кто предал меня и, пользуясь моей наивностью, увлек в бездну отчаяния, откуда я выбралась чудом. Именно такие испытания приводят если не к смерти, то к успеху. Спасибо и тем, у кого достанет охоты и терпения прочесть эту книгу, она – память обо мне в будущем.
Брижит Бардо
Посвящаю эти воспоминания Жики Дюссару, скончавшемуся 31 мая 1996 года
Жики, друг всем нам, покинул нас внезапно, – застенчиво и скромно, как делал все важное в своей жизни. Не хотел никогда никому надоедать.
Он оставался до конца смелым, цельным и бескомпромиссным. Человеком в благороднейшем смысле слова. Верным другом и любящим отцом и мужем, властным, но привязанным к семье, им созданной, и глубоко страдавшим от холодности ближних.
Жики служил нам примером, маяком, светом, символом радостно-безоблачных дней. Он был художественной натурой. Живописец и фотограф прекрасного, он не выносил неодаренности и некрасивости.
Еще до того, как превратить своих детей в людей, он старался учить меня уму-разуму, так сказать, жизненной стойкости. Его науку я помнила, помню и буду помнить.
У меня не было брата, и он заменил мне его.
Он уходит, унося важнейшую часть нашей жизни. Тем самым мы провожаем его в неведомый, но уже открывшийся ему мир.
Привет тебе, Жики!
Господь пребудет с тобой.
Прощальная речь Брижит Бардо, сказанная ею на похоронах Жики Дюссара в Сен-Тропезе 7 июня 1996 года
Сколь книжек ни читай – но книгу жизни, даже
Соскучившись читать, другому не отдашь.
Однако ни один не перечтешь пассаж:
Кто, неизвестно – сам листает все пассажи!
Мы перечесть хотим какой-нибудь послаже,
А раскрывается пассаж последний наш!
Альфонс де Ламартин (1790–1869)
БРИЖИТ
Чудная, всякая, тихоня, непоседа,
Смешение она бесчисленных кровей:
Гуляка-стрекоза сегодня до обеда,
А ближе к вечеру – трудяга-муравей.
И к ближнему она внимательна на диво.
И глазки у нее опущены стыдливо.
Но миг – и влюблена, и сразу – кипяток…
Дружок в наличии и про запас пяток.
Но папе рядом с ней, ей-богу, благодать.
Он разболеется – она ему сиделка.
И душу, и гроши готова всем раздать.
И плавает она то глубоко, то мелко.
А станет где-нибудь тоскливо – не шутя
Помчится к мамочке, как малое дитя.
Пилу (мой папа). Вилла «Мадраг», 16 мая 1959 года
Светило солнце, было 3 августа 1933 года, и в Париже в ту пору масса народу проводила отпуск, слоняясь по городу.
В церкви Сен-Жермен-де-Пре состоялась в тот день красивейшая церемония бракосочетания.
Невеста была хороша собой, необычайные чистота и свежесть исходили от нее и ее белого платья. Жених, высокий, стройный, в ладно сидящем черном костюме, казался самым счастливым человеком на свете: после долгих поисков он нашел спутницу жизни.
Анн-Мари Мюсель, по прозвищу «Тоти», сочеталась браком с Луи Бардо, по прозвищу «Пилу». Ей – 21, ему – 37.
Год, месяц и 25 дней спустя родилась девочка. 28 сентября 1934 года месье и мадам Бардо с радостью сообщили о рождении дочери Брижит.
I
Было 13 часов 20 минут, и я оказалась Весами с Асцендентом в Стрельце.
Мама очень мучилась, производя меня на свет, как мучилась потом, на свете меня удерживая!
А ждали, само собой разумеется, мальчика!
Зная, что разочаровала, я выросла с сильным характером, но и легкоранимая, как незваный гость. Мама выглядела очень усталой и очень счастливой. Красный сморщенный комочек у нее на руках орал не смолкая. Зваться бы ему Шарль, а тут какая-то Брижит!
Мама рожала дома: дом 5, площадь Вьоле, 15-й округ Парижа. Первые дни своей жизни я в основном сосала мамину грудь среди цветов, друзей и дедушки с бабушкой, маминых родителей, восхищенных крошечной диковиной. Но люди без сложностей не могут, и меня понадобилось крестить. В церкви на холоде, над купелью, как грязных грешников, очищают от греха и порока бедных невинных младенцев с солью во рту и елеем на лбу! Я лежала в горячих объятьях крестной, Мидимадо, и вопила, глядя на крестного, доктора Орли. А все-таки была крещена – 12 октября 1934 года и наречена Брижит Анн-Мари, благослови, Господи!
Мама играла со мной, как с куклой.
Я была маленьким требовательным зверенышем, и бедная мамочка, кормившая меня грудью, оказалась призванной на службу потрудней военной – материнскую! Материнские тепло и запах остались в моем подсознании. Внушала я маме настоящую страсть, по малолетству о том не ведая.
Папе надоело, что жена его в рабстве у младенца, и в один прекрасный день он решил нанять няню. Мама не хотела никому отдавать меня – боялась ужасно! Бабуля Мюсель, мамина мама, в ту пору привезла из Италии молодую особу, выросшую в сиротском приюте. При бабушке она находилась в качестве служанки и была прелестна и предана, как никто.
Так и познакомилась я со своей Дада!
И стала переходить с рук на руки, к Дада (звали ее Мария) от мамы, и не кричала. Мама смогла отвлечься и поспать, а папа – почитать, посмеяться, пожить спокойно: в доме была Дада!
Папа с мамой переехали, мы с Дада, разумеется, тоже.
Площадь Вьоле сменили мы на авеню де ля Бурдонне, 76, возле Марсова поля.
Дада стала мне второй матерью, я души в ней не чаяла. Перед сном она рассказывала мне сказки на своем итальянском, и я это воркованье обожала – слушала ее, сосала палец и вопила, стоило ей отойти.
И опять пошла у папы с мамой нормальная жизнь: в доме была Дада!
Ходить я научилась, падая на руки к маме, к папе или к Дада. С мамой и папой я говорила по-французски, с Дада по-итальянски. По-итальянски я говорила лучше, чем по-французски, а по-французски – всегда с итальянским акцентом. Мама ужасно смеялась, слыша, как я раскатываю «р», и заставляла меня то и дело повторять гостям: «Я прриеду на тррамвае В трри утрра или в четырре На кррасивом кррасном крресле С госпожою Буррдерро».
В те годы родители по вечерам часто уходили куда-нибудь.
Однажды вечером в бистро, где они с друзьями обедали, заявилась гадалка. Она бегло посмотрела всем в ладони, а над папиной задержалась. «Месье, ваше имя облетит мир, прославится и в Америке, и везде-везде!»
Папа обрадовался. Он решил, что заводы Бардо – дела как раз шли в гору – в результате упорных семейных трудов принесут плоды! Друзья потребовали шампанское и выпили за предсказанье прекрасной Пифии. Они и представить себе не могли, что не завод прославит на весь мир фамилию Бардо, а я, безвестная девочка, и что уготована мне судьба удивительная, и что подтвержу я чуднґое пророчество, ни разу в жизни этой фамилии не сменив, несмотря на все свои многочисленные замужества.
* * *
Мне было три с половиной года, когда начались неприятности.
Мама стала какой-то не такой, не то больной, не то рассеянной, папа казался озабоченным и раздраженным. А Дада была сама доброта, к Дада я всегда отовсюду бежала, и она меня согревала и нежила. А потом у меня заболел живот, заболел очень сильно, и ко мне позвали противного дядьку, вонявшего лекарством. Он принес с собой странные инструменты. И, слышу, стали говорить: аппендицит, операция, и прочие страшные слова, о которых я старалась забыть на руках у Дада.
А потом мне сказали, что у меня скоро будет маленький братик или сестричка, что мама очень устала и что я должна быть умницей, хорошо себя вести и не шуметь.
Как же я беспокоилась!
Дада плакала и складывала чемоданы. Она уложила даже сумку с моими вещичками. Я-то считала, что еду с Дада в Милан к Буму и Бабуле, маминым родителям, которые там жили. А на деле очутилась в больнице с папой. Папа – он дал мне прозвище Крон – уверял, что я счастливица, говорил, что буду надувать мяч. А Дада насовсем вернулась к бабушке с дедушкой, потому что будущему младенцу и мне брали настоящую няню. Я плакала часами в своей мрачной больничной палате. Мяч или не мяч, а подайте мне Дада!
Мяч-то я получила! Страшно вспомнить!
Меня усыпили эфиром, а на маску наложили огромный мяч – контролер дыханья. Припоминаю жуткий, нечеловечески белый мир. Помню свой дикий страх, чувство полной беспомощности. А дальше… дальше тишина.
Задыхаюсь! Умираю!
Я была еще совсем мала, но вспоминаю все очень ясно. Кстати, животные, как дети, беззащитны, а чувствуют все то же, и потому, я уверена, позорно, бесчеловечно пользоваться их слабостью и умерщвлять их всевозможными способами, к примеру, в медлаборатории в ходе научных опытов. Я не против опытов, я против убийства.
Когда я пришла в сознанье, Дада, моя Дада улыбалась мне.
Меня тошнило, было очень больно, но Дада со мной сидела!
Папа спал на раскладушке, а на полочке над раковиной в банке с формалином плавал мой аппендикс! Ни дать ни взять, сигара с надрезанным концом – фу, гадость! Мне хотелось пить, и Дада макала палец в стакан с водой и смачивала мне губы, при этом воркуя на свой манер – что меня успокаивало.
А потом, позже, пришла Бабуля Мюсель, милая, мягкая, теплая, толстая. Она плакала и называла меня своей «ластонькой». А рядом стоял дедушка, добрый и – умный: я говорила – «бумный». У деда «Бума» была черная борода. Он целовал меня, коля усами, доставал из кармана часы, и они тикали: так-так, так-так. И я уже не хотела расстаться ни с ним, ни с часами.
Тапомпон пришла тоже. Она работала в больнице и прозвище получила «Тампон». Бабуле она приходилась сестрой и из «тети Тампон» вышло «Тапомпон». Бывало, зажмет Тапомпон мне нос и заставит проглотить таблетку. Потом поцелуй в щечку и укол в попку. Скажет: «Раз, два, три» – готово дело!
В день, когда папа меня – с мишкой Мердоком и склянкой с аппендиксом в руках – все вместе в охапке привез из больницы домой, я с ума сходила от радости. Скорей бы увидеть маму, показать ей гадость, которую вынули у меня из живота, и шрам, покрытый ртутной мазью, и сказать ей, как я ее люблю! Увидеть, увидеть! Но увидела я жуткую тетку, урода с накладным пучком и волосатой бородавкой на подбородке.
Звали ее Пьеретта, и пахло от нее ужасно.
Это и была новая няня!
Она взяла меня за руку. Я завопила! Она попыталась поцеловать меня – я вопила. Она заговорила быстро и громко – я вопила и вопила. Тогда папа снова подхватил меня и понес к маме в спальню. Мама – красивая, горячая. Я вцепилась, зарылась в нее, дышала ею, обливала ее слезами, обожала и не хотела отпустить – боялась жуткую тетку, мамочка, мамочка… Я так и заснула у нее в постели.
На другой день, проснувшись, я помчалась в спальню к Бабуле. А Бабули и нет. Ну, знаете!
Кровать была такой же безупречной, как накануне, и так же пахло ланвеновским «Арпежем». Я ринулась к Буму, уж он-то, ясно, в постели, тепленький. Но трубкой и лавандой пахнет, а Бума нет.
Я – на кухню, к Дада. Дада на месте.
Дада объяснила, мешая французский с итальянским, что у меня родилась сестричка:
«Понимаес, Бриззи, твой мамма родило ребенко, уно сестрицко ке си кьяма Мария-Занна. Твой бабулио сидело с мамма всю ночь, а Бум узе усол на работто».
А моя не понимай ничеготто!
Что это такое – сестричка?
Жизнь и без того была сложной: уже имелась тетка-страшила с пучком, а если еще и сестричка, к папе с мамой я назад не желаю. Тем временем я поглощала булочки с горячим молоком. Хорошо было мне, крошке, у Дада и Бума с Бабулей! Когда Бабуля, без сил, наконец, вернулась, я ткнулась ей в колени, стала карабкаться по ногам и чуть не свалила ее. Эх, Бабуля, бедняжка, и любила же ты меня, если не послала куда подальше!
Но все рано или поздно кончается, кончились и мамины роды.
И с мишкой Мердоком в левой руке и бабулиной рукой в правой я вернулась на авеню Бурдонне. Уродина с пучком была там, но я на нее и не глянула, а ворвалась к маме в спальню. И остановилась как вкопанная! У нее на руках, где прежде ласкалась я, теперь лежало что-то вроде мишки Мердока, розовое, кругленькое.
А мама говорит: это Мижану, крошка-сестричка, и скоро я буду играть в нее, как в куклу. И должна всю жизнь оберегать.
И вот у меня на руках тяжесть и тепло крошечного пискуна. Один поцелуй – и контакт установлен. В три с половиной года я узнала чувство ответственности, приняв Мижану. Меня так и подмывало шепнуть папе на ухо: «Папочка, а на Новый год у меня будет братик?»
Когда дедушка с бабушкой Бардо, жившие в Линьи-ан-Баруа, узнали, что у них опять внучка, уваженья к супругам Пилу-Тоти в них заметно поубавилось. И папа послал им телеграмму: «Вы не поняли. Вместо одной Тоти у нас целых три. Три жемчужины в короне!»
* * *
Мы приехали в Линьи-ан-Баруа к папиным родителям.
Мама была еще слаба и не выходила из своей комнаты, а я знакомилась с другими дедушкой и бабушкой, совершенно не такими, как Бум с Бабулей, а еще с кучей дядей и теть и двоюродных сестер и братьев.
И ужасно робела!
Дом был огромный, всюду окна. Перед домом, посредине, – квадратный участок. За домом – парк, сплошь деревья, цветы, особенно розы – розы дедушка Бардо обожал. Он часами готов был нюхать и разглядывать их. А потом долго не мог разогнуться, так и стоял, скрючившись и опершись на палку.
А к Бабусе Бардо я вышла на разведку.
Встретила сдержанную любезность. И поняла, что не следует переходить определенных границ. Однако была я совершенно сражена широченной черной юбкой, в которую она прятала ключи, платок и деньги. А еще у нее была круглая железная коробка с леденцами. Вечером она награждала ими всякого, кто днем хорошо себя вел. Коробка – в мешочке для рукоделья, мешочек – при Бабусе. И две палки. Ходила она, опираясь на обе палки, маленькими шажками. В прятки с вами не поиграет. Где ты, Бабуля Мюсель, благоуханная, нежная и так меня любившая!
Подобно чуткому зверьку, я учуяла что-то неладное. У взрослых был озабоченный вид. Папа приходил с работы с газетами, и мама читала их с беспокойством, между бровей у нее появлялась морщинка.
Бум и папа то и дело что-то обсуждали, каждый высказывал свое мнение, а мама с Бабулей тем временем перешептывались. Тапомпон волновалась за Жана… Папины и мамины друзья, приходя к нам, не смеялись, как раньше. Люди приникали к радиоприемнику и напряженно слушали сводки новостей.
Был 1939 год, накануне войны между Германией и Францией.
II
Несколько дней спустя шкафы, благодаря маме, оказались забиты съестным. Были даже плитки шоколада, целая стопка, но трогать их запрещалось. Видит око, да зуб неймет, а почему, непонятно! Дом стал похожим на магазин, в котором нельзя покупать.
Все – припасы. Благодать!
С Мижану стало интересней. Она что-то лепетала сама с собой, сама же себе смеялась и силилась встать в своем манежике, цепляясь за решетку. Точно зверек в клетке.
«Война, война!» Только о войне и говорили. Меня слово «война» пугало, и я спрашивала у мамы, что это значит. «Это как если бы твоя подружка Шанталь стала отнимать у тебя Мердока, а ты бы не отдавала и подралась бы с ней, защищая его. Так вот, война – это то же самое, только больше!»
В одно прекрасное утро мы покинули свой дом. Я поехала с папой в «драндулете» – в набитом чемоданами стареньком «рено», а следом за нами в «ситроене», сидя за рулем, катила мама вместе с Бабулей, Мижану и Пьереттой.
Остальные: Бум, офицер запаса, отбыл в Шартр, Тапомпон продолжала работать медсестрой, Дада сторожила дом, а Жан определился как военврач.
Мы проехали многие километры по дорогам Франции – люди заполонили их, пешком, на лошадях, на машинах. Под бомбы мы, к счастью, не угодили и после долгих переездов остановились наконец в Андэ, провели там некоторое время и уехали в Динар, где было надежней.
Папа оставил нас и отправился добровольцем в 155-й Альпийский артиллерийский полк. Теперь одна мама у нас командовала, решала, утешала.
Папа «ушел на немца». И я представляла, что папа стоит на каком-то чудовище, попирая его, как в книжках с картинками. А что дальше – было загадкой, и только из разговоров взрослых я уразумела, что папа в опасности. И еще потому, что больше не получала булочек с шоколадной начинкой, а ведь вела себя хорошо!
В Динаре очутились мы в двух меблированных комнатенках у хозяйки мадемуазель Ленэ. Пьеретта ушла от нас еще в дороге, и я была очень этим довольна.
А потом папу отослали в тыл.
Франции нужен был завод, заводу – папа. Мы вернулись в Париж. В доме на улице Бурдонне стало мрачно. Жили мы в двух комнатах, обогреваясь – папа, мама, Мижану и я – одной-единственной электрической печкой. Бум находился в шартрском гарнизоне, и Дада уехала к нему помочь по хозяйству.
Я спала не раздеваясь, с мишкой Мердоком, лежа между папой и мамой, тоже одетыми. Иногда среди ночи мы впопыхах спускались в подвал, светя себе свечкой, а стены дома сотрясались, сирены выли, и самолеты бомбили Париж, и Булонь, и всю страну. Мне было страшно. Этот страх травмировал меня. До сих пор не могу без того детского ужаса слышать вой сирены.
Мама была святой! В самый разгар войны она и учила нас, и лечила, ибо переболели мы всеми детскими болезнями. Начало положила я, в 6 лет подцепив среди зимы скарлатину в школе Буте де Монвель.
Кроме уроков в школе Буте, игр с подружкой Шанталь и воздушной тревоги развлечений у меня не имелось. Прогулки были опасны.
Я с трепетом обнаружила папин патефон. Что за чудо! От сети и без – крутилось! С восторгом ставила я пластинки. Тогда-то я начала танцевать! Это было сильнее меня. Когда меня заставали, я краснела до ушей. Но мама была в восхищении и, поставив мне на голову банку с водой, заставляла ходить по дому.
«Малышка держится так прямо!»
Еще бы не прямо! Согнись попробуй – обольешься и получишь затрещину. И было решено водить меня раз в неделю в танцкласс, в свободный от школы день!
Мсье Рико стал моим первым учителем танцев.
Из своей старой шелковой, бледно-розовой ночной рубашки мама сшила мне платьице, и купили мы туфельки на пуантах. В балетных школах всегда особый запах. Пахнет потом, духотой, целлофаном, косметикой и дешевыми духами. Я была заинтригована. «Пахнет, – объяснила я Бабуле, – сладеньким». Объяснение так и осталось в семье. О запахе театральных кулис, танцзалов и спортклубов мои родные говорят «сладеньким пахнет».
Плие, дегаже, антраша и глиссады давались мне куда легче счета и письма! Даже при том, что силы были неравны: день в танцклассе и неделя в школе. В 7 лет я получила первый танцевальный приз у нас в классе и похвальную грамоту в школе.
Маме хотелось сменить квартиру.
Улица Бурдонне напоминала ей о грустном и неприятном!
И мы с папой на большом и маленьком велосипедах колесили по городу в поисках объявлений «сдается квартира». Сняли мы квартиру в доме № 1 на улице де ля Помп, где и жили, когда не сидели в бомбоубежище, не ходили в танцкласс, в школу, не стояли в очереди за продуктами. В этой чудесной квартире и провела я остаток детства и отрочество. Вот это была роскошь! С угольной топкой в кухне! С балконом во всех комнатах, выходящих на площадь Мюэт. И с длинным коридором, где я каталась на самокате, а Мижану, которой было 4 года, с криком бежала сзади.
* * *
Переехав на новую квартиру, я перешла и в другую школу, из Буте да Монвель в Атмер Принье на рю де ля Фезандри. У новой было в моих глазах огромное преимущество: занятия три дня в неделю, остальное время – уроки дома.
Три дня школа – три дня танцы!
Все время занято!
Бабуля отводила меня в танцкласс и после класса приводила к ним с дедом домой. Бум, вернувшийся из Шартра, где был демобилизован по старости, выходил из кабинета и помогал мне готовить уроки. Иногда я оставалась ужинать, и Дада подавала рагу из брюквы и топинамбура, приправленное маргарином, и пирог из отрубей с эрзацем какао.
Ничего, есть можно!
Но часами надо было стоять в очередях в магазинах, чтобы приготовить такой ужин. В 3 ночи Дада занимала очередь, а в 5 утра ее сменяла Бабуля, и тогда была надежда, что, стоя 20-й или 25-й, ухватишь те крохи, которые окажутся на прилавке.
А я и не знала о таких трудностях.
Потом близился комендантский час, и надо было успеть добежать до дома. Или же я оставалась на Ренуар и спала на большой деревянной кровати с вишнево-красной атласной, надутой, как мяч, периной. А если, увы, среди ночи нас будила воздушная тревога, Бум относил меня в постель к Бабуле, и, пока они читали «Отче наш», я продолжала спать, засунув голову под подушку.
Кроме Шанталь, с которой я виделась очень часто, друзей у меня не было. Мама косо смотрела на девчонок из танцкласса, они же – «кухаркины дети»! Стоило мне завести подружку, папа с мамой тут же спрашивали: «А кто у нее родители?» Я не знала. Я не успевала с новой девочкой и двух слов сказать, как меня уводила домой служанка или забирала Бабуля.
Единственным моим товарищем по играм была Мижану.
* * *
В кино мы ходили редко, два-три раза в год. Телевизора еще не существовало, а театр был привилегией важных шишек.
Поэтому вечером устраивался, как правило, именно вечер, хотя порой и долгий. А если родители не шли в гости и не ждали гостей сами, то просто сидели вместе с нами. Закончив уроки, мы могли немного побездельничать перед сном. Папа читал нам сказки про кота на насесте Марселя Эме и рассказы Киплинга. Читал он забавно. На разные голоса, и сам смеялся. На его смех смеялись и мы. Или еще он рассказывал нам сказки о сороке-воровке, которые сам же и сочинял, так что им не было конца. Эти воспоминания мне дороже золота, потому что их у меня очень немного.
Не могу припомнить в своем детстве счастливого времени. Почему? Ведь моя родная семья вполне могла дать все то счастье, какое требуется ребенку.
Конечно, время было военное, скудное. Но мне по малолетству сравнивать было не с чем, и я прекрасно приспосабливалась. Получала самый минимум питания, не знала ни конфет, ни сладостей, вместо них имела витаминные галеты и литиевые порошки «от доктора Гюстена» – лимонный эрзац с сахарином: пакетик на стакан воды – восхитительная шипучка!
Разумеется, бомбардировки травмировали. От подспудного страха по ночам я просыпалась в ледяном поту; я дрожала на уроках арифметики или танца. Не зная, что будет дальше, мы тем больше ценили редкие минуты затишья, от сирены до сирены. Этот душ Шарко, может, не опасен взрослым, детям он – противопоказан.
Но самый большой след оставили во мне семейные отношения. Со временем я почувствовала, что отдаляюсь от родителей, что Мижану у них любимей. Последствия родительского предпочтения младшей сестры сказываются до сих пор.
До чего же это было несправедливо!
То и дело мне ставили ее в пример. В школе Любек Мижану – отличница, а я в Атмере – в «двоечной троице» (в классе, кроме меня, были еще две двоечницы). А еще Мижану – хорошенькая куколка, хоть и ябеда, и бежит жаловаться на меня по каждому пустяку. А мне – порка. И вечно исполосован зад. Я не раз слышала, как мама говорит подругам: «Слава Богу, есть Мижану. Только от нее и радость. Брижитка – и злая, и некрасивая».
А я смотрелась в зеркало и плакала.
И правда, некрасивая!
Своей внешности я стыдилась. Все отдала бы, чтобы стать, как Мижану, с рыжими, до пояса, волосами и фиалковыми глазами, и быть любимицей папы и мамы. Господи, ну почему у меня волосы тусклые и как палки, и косоглазие, и очки, и зубы выпирают (в детстве сосала палец), и приходится носить проволочку! Проволочка, к счастью, ничего не дала! Зубы у меня так и выпирали, и казалось, что я надула губы – моя знаменитая на весь мир гримаска!
Беспокойство поселилось во мне и постоянно меня точило.
Может, я им неродной ребенок?
Ни на кого не похожа, урод, а в семье все красивые.
Я стала сторониться Мижану, как чумы, совсем замкнулась в себе. Забыться могла только на уроках танцев. Особенно я любила упражненья у станка, всегда одни и те же – прекрасный разогрев и подготовка к работе «на середине». Прощайте, очки, комплексы, уныние! На скачущие аккорды пианистки я распахивалась, как сезам. Танец делал красивыми и душу, и тело. Мышцы растягивались и расковывались, я становилась гибкой, и стройной, и пластичной, чувствовала ритм и такт и слушалась музыки. От танцев у меня и эта посадка головы, и походка, которые называют «типично моими». Танец же научил меня дисциплине и придал выносливости. Уж их-то, по крайней мере, сестрице моей было у меня не отнять!
Занятия с Бумом и уроки в школе Атмер не давали мне того образования, которого хотели мои родители. Меня перевели в школу де Ля Тур – там училась и, судя по всему, получала прекрасные знания Шанталь. Итак, конец танцам! Теперь мой досуг – молитвы и молитвы.
Вот это не повезло!
Сплошные монашки! Да, сестрица, нет, сестрица… Не по мне все это. А потом я была новенькой. За моей спиной перешептывались – хуже этого в монастырской школе нет. Я сидела в Ля Тур на задней парте и получала колы, зато научилась врать и притворяться. Полагалось ходить с опущенными глазами, то и дело преклонять колени, носить в кармане четки, исповедоваться по утрам, ябедничать на подруг, доносить про все, что видишь и знаешь.
Словом, ужас.
К счастью, я свалилась с воспалением легких и тем сократила себе учебно-монастырский курс. Правда, пришлось остаться на второй год в 7-м классе, зато я вернулась в родную школу Атмер и в любимый танцкласс.
После воспаления легких я очень ослабела, к тому же и настоящих каникул у меня не было давным-давно. Родители решили отправить меня к Шанталь. У ее матери была крошечная ферма в окружении яблонь в Нормандии, в Мениль-Жильбер, близ Безю-Сент-Элуа. На тот момент дела в стране обстояли так, что отдыхать приходилось в самых невероятных местах. Мать у Шанталь была женщиной суровой и злой. Вечно в трауре, помешана на принципах, редко улыбается и без конца молится. Она обожала свою дочь, всех остальных детей считая выродками. В то время, как, в общем, и теперь, я безумно нуждалась в ласке. От костлявого лица Сюзанны меня слегка воротило. Вся Сюзаннина нежность доставалась дочери, а я, как сейчас помню, часто засыпала, плача под одеялом и мечтая о материнском поцелуе. Однако в свободное от слез время я веселилась!
При помощи бутылочных пробок и проволоки мы с Шанталь изготовляли дамские туфли, по тогдашней моде – на сплошной подошве. Сделаем – и взгромоздимся на пробочные платформы, и прохаживаемся горделиво, как индюки. Наконец Шанталь – этого следовало ожидать – вывихнула ногу.
Пробки отправились в шкаф, Шанталь – в постель!
Когда она выздоровела, появился велосипед и прогулки на колесах по деревенскому простору, который я открыла с восхищением. Еще у нас имелись качели, вещь редкая, в Лувесьенне их не было. Качели да еще бассейн – вот, казалось тогда, верх счастья, несбыточная мечта! Но бґольшую часть времени отнимали у нас домашние задания на лето. Хуже того, ежедневно добрую четверть часа нам втирали «Мари-Роз», ароматизированное средство от вшей. Как у всех школьников, вши у нас водились, и Сюзанна упорно на них охотилась.
С тех пор я против любой охоты!
Вскоре я стала так скучать по родителям, что потеряла аппетит. Видя это, Сюзанна позвонила папе, чтобы он приехал и забрал меня. Приедет – 6 июня! Осталось потерпеть всего-то три дня!.. Минуты шли, аппетит возвращался.
Папа должен был прибыть на вокзал в Этрепаньи, откуда пригородным автобусом добраться за город до местной дороги. И вот мы втроем сидим, жаримся на солнце у обочины, на откосе… Время автобуса прошло, мы ждем и ждем… Час, другой… Нет автобуса. Я реву, Сюзанна удивляется. Автобус ходит без опозданий, а тут три часа его нет…
Убитые неудачей и жарой, мы все еще ждем, и вдруг… черная точка в конце дороги. Что-то движется к нам, пешком… В жарынь, такую, что плавится асфальт, по самому солнцепеку мог идти только папа! Я со всех ног кинулась навстречу!
Он был совсем без сил, пройдя 20 км пешком, потому что не оказалось ни автобуса, ни машин, ни даже телефона! Не оказалось ничего!.. Только что высадились Союзники! Папа, капитан 155-го артполка, вспомнил привычку подолгу шагать с рюкзаком… Он уселся рядом и рассказал нам о высадке, то есть о том, что успел узнать в Париже.
Мы смотрели на него во все глаза.
Мы-то знать ни о чем не знали и весь день с утра только и слышали, что пенье птиц да шорох листьев. А в это время где-то рядом происходили такие события! У Сюзанны папа помылся, поел наскоро и тут же собрался со мной обратно. Безумие, конечно, но он обещал маме вернуться в тот же вечер и не хотел, чтобы она беспокоилась. Телефонная связь была прервана, предупредить ее он не мог. Оставалось пройти в обратном направлении 20 км, днем уже пройденные папой. Вечером из Этрепаньи отходил поезд, на него следовало успеть! Лет мне было 9 с половиной, и так долго топать пешком я бы не отважилась. Папа посадил меня к себе на спину. Оттуда я любовалась пейзажем. Папа шагал быстро и ровно. Покачивание убаюкивало. Я заснула, положив голову папе на макушку и обвив его шею обеими руками.
Как волнующе воспоминание об этом путешествии на спине у папы!
Когда отец состарился, ослаб, утратил твердость походки, я снова и снова с волнением думала, что этот человек пронес меня, уже вполне большую, на спине 20 километров по жаре! Будь ты проклята, старость, если отнимаешь столько силы и крепости! Прибыли мы в тот день, верней, в ту ночь, в Париж, если не ошибаюсь, за полночь, около двух. И опять я проехала у папы на спине остаток пути от вокзала Сен-Лазар до дома по тихому, пустому Парижу, и папины шаги гулко звучали по мостовой.
Самый длинный день связан у меня именно с ходьбой обессиленного, измученного человека, который несет домой свое дитя, а поблизости решается судьба Франции, гремят снаряды, умирают люди, горит земля. И у меня одна любовь на свете – к тому, кто наперекор стихиям уносит меня к теплу домашнего очага.
В августе 1944 года Париж был наконец освобожден!
Флаги вынули из нафталина и вывесили на окнах. Мы разгуливали по улицам с бумажными трехцветными флажками, а американские солдаты дарили нам жвачку, шоколад, поцелуи. Жвачка шла на подметки куклам, шоколад мне самой, поцелуи – к черту.
Было время всеобщей эйфории.
Конец бомбардировкам и комендантскому часу, можно наконец пойти в Булонский лес, нагуливать красные щечки, как говаривала няня. Наконец я узнала, что такое белый хлеб, и молоко досыта, и сливки, и хорошее настроение у взрослых, и смех, и игры на воздухе.
1 октября с карманами, набитыми жевательной резинкой, я снова пошла в школу Атмер. Ненавидя и уроки и жвачку, я заключила сделку с соседкой по парте: она переписывает мне задания в тетрадь за жвачку. Счастье длилось три дня! На четвертый учительница заметила, что у нас с соседкой в тетрадях один почерк, и устроила нагоняй.
И осталась я при жвачке и при позоре. И вернулась в «двоечную троицу».








