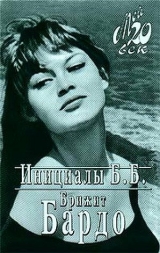
Текст книги "Инициалы Б. Б."
Автор книги: Бриджит Бордо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Это оказалась Доун Адамс!
Все сцены были сняты заново с ней! Снимали на скорую руку, чаще всего крупным планом, декораций не хватало, а мой живот занимал слишком много места. Мне казалось, что я вижу Сильвию, а передо мной была Доун. Мы с Анри Видалем очень тяжело переживали скоропостижную, такую неожиданную кончину Сильвии. Но таков уж закон зрелищ – может случиться несчастье, а продолжать все равно надо.
Я заехала ненадолго в «Мадраг», затем вернулась в Париж и стала готовиться к переезду в квартиру побольше, как вдруг соседка сообщила мне, что продает свою. Вот удача! Квартира прямо-таки свалилась с неба – я смогу видеть ребенка, когда захочу, стоит только пересечь лестничную площадку. Он будет жить там с Мусей, а я останусь в своей квартире, которую так люблю.
Уже было решено, что я, как все знаменитости, буду рожать в клинике «Бельведер», самом снобистском медицинском учреждении того времени.
А пока я потихоньку обустраивала квартиру, которая должна была стать детской. Там была комнатка, предназначенная младенцу, и огромная, залитая солнцем гостиная с пятью окнами, которую я отвела под кабинет Жака. Мне очень нравилось обставлять и украшать квартиру.
И вот в этот-то период относительного спокойствия Жака призвали в армию. Эта новость нас потрясла! Его отсрочка кончилась, ее не продлили. Служба в то время продолжалась от двух с половиной до трех лет. Шла война в Алжире.
Я о военной службе была столько наслышана, как будто прошла ее сама! Я знала об уставах, знала, что надо пить, чтобы нашли белок в моче, знала, как глупы унтер-офицеры и какая все это чудовищная потеря времени. Я становилась воинствующей антимилитаристкой.
Как я буду жить целых три года без Жака?
Конец его актерской карьере, его далеко идущим планам, честолюбивым замыслам о собственных фильмах.
Мы плакали, обнявшись, но наши слезы никого не трогали, кроме нас самих, и безотказный капкан административного аппарата уже захлопывался за молодостью, которую один из множества мужчин должен был отдать Франции. Жак поклялся мне, что его комиссуют, он добьется этого ради меня, пусть даже ценой своего здоровья, репутации, жизни, в конце концов.
Он уехал 20 сентября, в день выхода на экраны фильма «Бабетта идет на войну». На афишах Жак выглядел бравым лейтенантом. С горделивым видом он красовался рядом со мной на стенах парижских домов и рекламных страницах газет.
«Бабетта» одержала победу в своей войне и была благосклонно принята публикой: зрителей привлекла чета, которую составили мы с Жаком, окружавшие нас великолепные актеры – Франсис Бланш и другие – и вся эта потешная и уморительная война не всерьез.
А Жак после уик-энда, проведенного в вооруженных силах, вернулся мрачнее тучи. В то время освободиться от воинской службы было практически невозможно, и никакие липовые оправдания всерьез не принимались. Годными признавались самые хилые из сынов Франции. Для пополнения рядов армии мобилизовали даже тех, кто прежде был комиссован; иные воинские части, наверно, представляли собой отряды рахитиков.
Жак делал ставку на психическую неуравновешенность. При его действительно подавленном настроении он без труда сыграл нервную депрессию, отказался принимать пищу и демонстрировал полное равнодушие ко всем и вся. Однако его физическую форму признали более чем удовлетворительной, и приговор был: «годен к службе». Жак твердо решил с помощью своего друга доктора Д. подорвать свое здоровье до мобилизации, лишь бы избежать кошмара, которым была для него и для меня эта бесконечная и бессмысленная воинская служба. Он ничего не ел, накачивался кофе, перестал спать и поглощал в огромных количествах успокоительные и снотворные. Он исхудал, глаза ввалились и покраснели. Его нервозность внушала опасения! Слабость не поддавалась описанию! Доктор Д. мерил ему артериальное давление – оно неуклонно падало!
Я перепугалась не на шутку!
Я жила с тяжело больным человеком, больным от нашего бесчеловечного общества, которое забирает себе лучшее, а отдает только худшее. Я видела, что Жак разрушает себя, что он, возможно, навсегда погубит свое здоровье, и все это ради того, чтобы быть со мной, когда родится наш ребенок.
На Поль-Думере мы жили, как в клетке.
Правда, мы могли пересечь лестничную площадку и оказаться в квартире напротив: еще несколько квадратных метров, где можно было ходить кругами. Но мы просто сходили с ума! Как же я понимаю зверей, на всю жизнь запертых в тесных клетушках зоопарка!
Доктор Лаэннек, которому предстояло принимать у меня роды, посоветовал мне по часу в день гулять пешком в Булонском лесу с моими собаками. Но как я могла совершать этот необходимый моцион, когда десятки набитых фоторепортерами машин поджидали меня возле дома?
Я заказала у Дессанжа парики – черные, с короткой стрижкой. Выйти я никуда не могла и видела, как с каждым днем увеличивается темная полоса у корней моих светлых волос. Нужно было покраситься, но сама я никак не могла этого сделать. Весь день я ходила в парике, это было очень мило, но вечером, сняв его, я видела мои волосы, слипшиеся, тусклые, как слежавшееся сено, видела широкую каштановую полосу у корней и чувствовала себя грязной, неухоженной. А ведь длинные густые волосы всегда были моей гордостью, моим лучшим украшением. Что же я с ними сделала?
Наконец однажды я решила, надев черный парик, поехать к Дессанжу подправить свою красоту. Жак увидел меня, когда я была уже готова, на выходе, в сопровождении Алена, который должен был вести машину.
– Куда это ты?
– К Дессанжу, покрасить волосы.
– Я тебе запрещаю!
– Могу я узнать, на каком основании?
– Запрещаю, и все!
– А я все равно поеду!
Затрещина обрушилась на меня, прежде чем я успела среагировать. Моя голова так стукнулась о дверцу стенного шкафа, что та треснула: в резьбе осталась пробоина! От такого нокаута я отключилась на несколько секунд и упала. К счастью, парик немного смягчил удар. Я чувствовала, как сильно стучит что-то в виске в ритме ударов моего сердца. Очень долго я лежала, скорчившись, на полу и плакала.
Мне хотелось умереть.
Ален долго ждал меня внизу, окруженный фоторепортерами, которые тоже меня ждали. Я все не выходила; наконец он поднялся и нашел меня лежащей в позе зародыша, с синяком у виска, в полной прострации.
Моя правая почка оказалась слабой, а в результате падения весь вес младенца пришелся на нее, и в тот же вечер меня скрутил приступ нестерпимой боли. Срочно вызванный доктор решил было, что это выкидыш, но потом определил почечную колику. Я так мучилась, что пришлось вколоть мне морфий. Я и не знала, как хорошо бывает после этого чудодейственного укола. Боль утихла, и я парила в каком-то удивительном мире.
Какие все вокруг красивые, какие все добрые!
Даже Жак, склонившийся надо мной, казался мне сказочным существом. Мама, ласковая, встревоженная, смачивала мне губы ледяной водой, а я бредила, купаясь в беспредельном блаженстве, я пугала всех, а сама обретала покой.
Это был первый из длинной череды приступов, не отпускавших меня до рождения Николя.
На Жака после той памятной затрещины я смотрела с ненавистью. Теперь я ждала его отъезда в армию – пусть остается там как можно дольше и оставит меня в покое! Треснувшая дверца стенного шкафа постоянно напоминала мне о его несдержанности, злобе и дурацком желании непременно настоять на своем. Я мечтала, чтобы с ним обошлись так же безжалостно, как он обошелся со мной.
Однако в день отъезда я увидела, какой он жалкий, слабый, подавленный, – и гадких мыслей как не бывало: я думала только о предстоящих ему мучениях и о том, что я останусь одна, соломенной вдовой с ребенком на руках по милости незыблемой и беспощадной административной системы.
Меня опять мучили почечные колики.
Оставшись дома одна, я звонила, как правило, среди ночи, ассистентке доктора Лаэннека. Она делала мне спасительный укол морфия и засыпала рядом со мной в кресле, а я тем временем купалась в море блаженства. Доктор Лаэннек, встревоженный частыми приступами, испугался, что морфий может сильно навредить ребенку. Он осмотрел меня дома и посоветовал сделать рентген, чтобы определить положение плода. К рентгенологу необходимо было поехать: не мог же он прийти ко мне со всей своей аппаратурой!
Я по-прежнему жила в осаде: фоторепортеры обосновались в бистро на первом этаже, у консьержек в соседних домах и даже сняли за бешеные деньги комнаты для прислуги в доме напротив, окна которых смотрели прямо в мою гостиную. Я жила с закрытыми окнами и задернутыми шторами, боясь всех и вся. И вот теперь надо выйти и встретить армию противника лицом к лицу! Как быть?
Черный парик и очки преобразили меня; Алена я попросила ждать меня с машиной у черного хода соседнего дома. Я не знала, что длинные языки сделали свое дело и мой план тайного выхода перестал быть тайной благодаря щедрым чаевым.
Ничего не подозревая, я вышла к дому 28 по улице Виталь.
Машины там не оказалось. Я была одна!
Но недолго! Двое репортеров ринулись на меня… я услышала щелканье фотоаппаратов… они взяли меня в тиски, прижали к стене, я была в их власти… Я заметалась, толкнула дверь черного хода, из которой только что вышла, и попыталась убежать от них. Не тут-то было: они кинулись за мной, втиснули в узкий, вонючий проход, заставленный мусорными ящиками. Как загнанный зверь, я попыталась проскочить между ними и бачками для отбросов. Они толкали меня, загораживали дорогу, и кончилось тем, что я упала прямо в огромный ящик из зеленого пластика, который стоял открытый, точно только и ждал меня. Итак, я, с животом, лежу в помойке.
Вот он – сенсационный кадр, за которым они охотились столько дней!
Потом я узнала, что Алена с машиной трое репортеров остановили в начале улицы, создав чудовищную пробку; они не освобождали путь, дожидаясь, пока я, сфотографированная, окруженная, униженная, буду у них в руках. В съехавшем набок парике, с пылающим лицом, я вернулась в свое ненадежное убежище на восьмом этаже. Нет, решительно, жизнь ополчилась против меня. При всем моем горячем желании, я не могла больше бороться. Я проглотила все снотворные таблетки, какие попались под руку. Те, что оставил Жак, и те, что выписал мне доктор.
Ну и натворила же я беды! Врачи сменяли друг друга у моей постели и никак не могли вытащить меня из глубокой комы. Перевезти меня в клинику было невозможно: на другой день о случившемся кричали бы газеты всего мира.
А тем временем Жак, ничего об этом не зная, был доставлен в госпиталь Валь-де-Грас в безнадежном состоянии: он вскрыл себе вены.
Мой час еще не пробил… я пришла в себя.
Что-то слишком часто я уходила за грань и возвращалась. Я смертельно устала. Я не поднималась с постели и терпела адские мучения от почечных колик. Не успела я прийти в себя от комы после снотворного, как меня отправили в нирвану с помощью морфия.
Мне было очень плохо, и только морфий приносил подлинное облегчение. Доктор Лаэннек категорически заявил, что больше не станет колоть мне морфий, что это слишком вредно для ребенка и для меня.
Беда не приходит одна.
10 декабря 1959 года меня разбудил телефонный звонок.
Фран-Фран неживым голосом сообщил мне, что умер Анри Видаль.
Что?
Я завопила в трубку, забилась в истерике!
Я кричала, рыдая, нет, это невозможно, я не хочу, нет, только не он, такой живой, такой веселый, молодой, красивый.
Нет, нет, не-е-е-ет…
Мой крик перешел в жалобный вой обиженной собаки. И все же «да» – Анри Видаль умер ночью от сердечного приступа в возрасте 40 лет. Это было так несправедливо, так ужасно, что я не могла, не хотела в это поверить. Судьба ополчилась на фильм «Хотите танцевать со мной?». Сперва умерла Сильвия Лопес, такая молодая и красивая, теперь Анри Видаль, в расцвете лет и совершенно здоровый! Бог любит троицу, третьей буду я – я умру при родах. Смилуйся, Господи! Смилуйся!
Я накинула пальто прямо на ночную рубашку и велела Алену немедленно везти меня на остров Сен-Луи, в отель «Ламбер», где жил Анри. Плевать мне на всю эту мразь, на репортеров, которые кружат, как стервятники, поджидая добычу. Мой близкий друг, мой замечательный партнер умер, и пусть мир рушится ко всем чертям, а я помчусь к нему, даже если уже ничем не могу ему помочь.
Эта смерть глубоко потрясла меня.
Неделю спустя, 18 декабря 1959, как пышные похороны, состоялась премьера «Хотите танцевать со мной?». На экраны Парижа вышел не фильм – кладбище!
Жак вернулся с временным освобождением от военной службы – это вместо ордена Почетного легиона.
Он был не в себе. Я тоже.
Мы уехали за город попытаться успокоить наши смятенные души. В Фешроле нашлась чудесная сельская гостиница под названием «Приют Святого Антония». Держала ее Жермена, женщина, много в жизни повидавшая. Там я познакомилась с изумительным врачом, гинекологом, доктором Буане. Его простота покорила меня. Роды, считал он, это вполне естественно, и бояться их вовсе не надо. Это ведь тот же любовный акт, только наоборот! Он так умел успокоить, представить все в прекрасном свете! Я тут же решила оставить Лаэннека с его светскими замашками ради Буане с его простотой и «спокойной силой»! За месяц до родов менять врача! Дружный вопль мамы, Ольги, Алена и иже с ними.
Только Жак понял и одобрил меня. Буане и его подключил к моей подготовке к родам без боли! Он объяснил ему, как все будет происходить, чтобы Жак как бы непосредственно участвовал в рождении своего ребенка.
Осада дома на Поль-Думере продолжалась, это стало пострашнее осады Алезии. Не осталось ни одного окна напротив, где не маячил бы телеобъектив, нацеленный на наши окна. Каждый входивший или выходивший слеп от вспышек.
Мне было жаль жильцов дома!
Бедняги, прежде жившие так спокойно, теперь не могли избежать вторжения одержимой толпы в их частную жизнь.
При таком наплыве международной прессы я никак не смогла бы в день Х отправиться в клинику, не вызвав вопящего, щелкающего, ужасающего шквала; поэтому моему врачу, моим родителям, моему мужу и мне самой пришлось срочно принимать меры. Надо было оборудовать родильную в квартире напротив, предназначенной для будущего ребенка. Я связалась с одной специализировавшейся на этом фирмой, и нам доставили множество орудий пыток, достойных Инквизиции. Стены и пол покрыли белым пластиком! Посреди всего этого сверкал сталью стол для роженицы. Были там баллоны с кислородом и азотом, каждый – с манометром, гибкой трубкой и страшной резиновой маской. В стальных коробках прятались маленькие, но острые инструменты. Весь этот устрашающий арсенал был достоин самых жутких фильмов о Франкенштейне. Чтобы не пугать меня заранее, мне не разрешали входить в квартиру напротив. Как все запретное, она манила меня; на какие только уловки я не пускалась, чтобы хоть что-нибудь увидеть сквозь стеклянные квадратики двери, которая тоже была затянута занавеской из белого пластика.
Я купила колыбель, шкафчик для пеленок, подогреватели для бутылочек и английскую прогулочную коляску с большими колесами. Но детского приданого у меня было немного. Бабуля связала какие-то белые вещички – я хотела, чтобы все было только белое. Они были такие крошечные, даже не верилось, что в них поместится ребенок. Одна фирма, выпускающая товары для новорожденных, должна была прислать мне в подарок все необходимое ребенку в первые годы жизни.
Муся приехала и царила во владениях напротив.
Клоун и Гуапа выражали свое недоумение непрестанным лаем. Клоун, более нервный, чем Гуапа, бросался на каждого, кто проходил из одной квартиры в другую – двери были все время открыты, потому что ходили туда-сюда часто. Пришлось отдать Клоуна доктору Д., который его очень любил. Я была в отчаянии от разлуки с моим милым коккером!
Решительно, роды становились тяжким испытанием.
Я воспринимала их как расплату с жизнью и твердо решила: если выживу, никогда больше не стану рабой младенца, который так глупо переворачивает жизнь женщины, плохо ко всему этому подготовленной.
Жак выглядел очень усталым, подавленным: испытание, которое он так трагически пережил, оставило на нем неизгладимый отпечаток на всю жизнь. Как сказал бы мой Бум, «ваши дела следуют за вами по пятам».
Рождество и Новый год прошли у нас совсем не празднично. Только мама прислала мне украшенную елочку, чтобы соблюсти традиции. Проходя мимо нее, я думала: «Пахнет елкой!»
Комментарии излишни!
XV
Вечером 10 января мы – Жак, Гуапа и я – смотрели телевизор. Было воскресенье, у горничной выходной. Я лежала и наслаждалась записью «Кармен» в «Опера» с Джейн Родс и оркестром Роберто Бенци. «Кармен» вошла в репертуар «Опера» – это было событие. Я думала о Бизе, о том, как осчастливило бы его это признание через столько лет после его кончины, и тут вдруг острая боль пронзила мне живот. Согнувшись пополам, задыхаясь, я едва смогла пересохшими губами сказать Жаку: «Началось».
– Что началось? – спросил он.
До чего же мужчины порой туго соображают, дебилы, да и только!
Под звуки знаменитой арии тореодора, которого ждала любовь, я корчилась в спазмах такой силы, что мой организм, конечно же, не мог долго этого выдержать.
Я стану третьей жертвой фильма «Хотите танцевать со мной?».
Я умру, умру, я точно знаю.
Я далеко не неженка. Мне выпадали в жизни физические страдания, боли на грани переносимого, и всегда я с ними справлялась. Но то, что терзало мой живот, раздирало меня надвое в ту ночь с десяти до двух часов, находится за пределом всех человеческих возможностей. Как смертельно раненный зверь, я кричала, не сдерживаясь, не воспринимая ничего, кроме своей боли. Схватки следовали одна за другой так часто, что я не успевала перевести дыхание.
Я была вся мокрая от пота, волосы слиплись, меня рвало, изо рта текла слюна.
Доктор Буане пытался заставить меня дышать, как дышат щенята, часто-часто и очень сильно выдыхая, но куда там! Другая жизнь во мне, которая была сильнее моей собственной, пользовалась моим телом, чтобы принять свою судьбу. Я стала ненужным коконом, который куколка покидает, превращаясь в бабочку.
Меня перенесли на холодный стол, на который женщину кладут, как на жертвенный алтарь. Я видела склоненные головы между моих широко раздвинутых ног. Я всегда была так стыдлива во всем, что касалось секретов моего тела, тайны моего пола – и вот я лежу, разодранная, окровавленная, словно туша на прилавке мясника, и меня потрошат глазами все эти незнакомцы. Какая-то могучая сила заставляла меня исторгать наружу меня самое. Испуская нечеловеческие вопли, я выталкивала все мое нутро. Я вдыхала отвратительный запах, было душно, анестезиолог дал мне маску, я задохнулась. Дьявольский перезвон колокольчиков у меня в ушах слился с криком новорожденного, перед глазами замелькали желтые и синие полосы, как будто вдалеке я слышала бесконечно повторяющееся эхо, и мое тело охватил огонь где-то в самой его сердцевине.
Все, я умираю…
Я открыла глаза и удивилась, что не вижу больше горы раздувшейся до предела плоти, которой был мой живот, а на ее месте оказалось что-то теплое – я подумала, что это резиновая грелка. Сильно жгло между ног. Я чувствовала только эту боль, той, другой больше не было! «Резиновая грелка» тихонько шевелилась на моем животе – это было первое знакомство с жизнью.
Когда я, окончательно придя в себя, поняла, что это мой ребенок тихонько ползет по мне, я завопила, умоляя, чтобы его забрали: я носила его девять кошмарных месяцев, я не хочу его видеть! Мне сказали, что у меня мальчик!
– Мне все равно, я не хочу его видеть!
И я забилась в истерике…
Это может показаться крайностью, согласна, это нелепо, не укладывается в голове.
И все же я отвергала моего ребенка!
Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее. И вот теперь, после того как кошмар достиг высшей точки, я должна была на всю оставшуюся жизнь взвалить на себя то, что принесло мне столько мук.
Нет, ни за что, лучше умереть!
Бедный малыш, ни в чем не повинный, спал свою первую ночь, отвергнутый, далеко от меня, за лестничной площадкой и двумя крепко запертыми дверями. Наверное, я была чудовищем!
Внизу авеню Поль-Думер превратилось в бушующее живое море. Сотни и сотни фоторепортеров и журналистов остановили уличное движение. Все обсуждали рождение самого знаменитого ребенка года. Моя консьержка, мадам Аршамбо, заперла подъезд на ключ, предварительно выгнав половой щеткой самых ловких репортеров, притаившихся на каждом этаже. Вызванный папой полицейский нес охрану у дома, как будто это была резиденция главы государства. Автомобильные гудки на все лады скандировали добрые пожелания в мой адрес от всей этой безымянной и гордой за меня толпы!
С самого утра дом был заполнен цветами; тысячи букетов, и великолепных, и скромных, прислали все, кто меня любил, и богатые, и бедные. От Робера Оссейна мне доставили восхитительную золоченую клетку, в которой пели две прелестные канарейки.
Жак, взволнованный, потрясенный до глубины души, смотрел на меня с бесконечной благодарностью. Радость переполняла его: родился сын, долгожданный, желанный. Из нас двоих у него был сильнее развит материнский инстинкт! Он принес мне белый сверток, из которого чуть виднелась негроидная головка зачинщика всей этой суматохи. Надо было кормить. Нет, нет и нет! Я не дам грудь.
Я не стану уродоваться, принуждая себя к бесчеловечной роли кормилицы. Теперь есть всякие смеси, близкие к материнскому молоку. Пусть Муся разбирается как знает! Мои огромные, раздувшиеся груди болели, молоко промочило насквозь рубашку и простыни, но я не хотела больше отдавать ни капли себя – пусть даже лопну!
Мы с Жаком заранее выбрали два имени – «Мари» для девочки, «Николя» для мальчика. И вот Жак отправился в мэрию, чтобы зарегистрировать рождение «Николя-Жака Шарье», 11 января 1960 года.
Пройти незамеченным через бушующую толпу, которая осаждала дом, ему не удалось. Фотографы щелкали наперебой, газетчики приглашали его выпить шампанского в бистро на первом этаже. Это была буря, почти революция. Репортеры из каждой газеты, от каждого агентства умоляли Жака впустить их, чтобы сфотографировать меня с младенцем. Их было не меньше тысячи!
Жак вернулся, зарегистрировав Николя, с пачкой газет под мышкой. На всех первых полосах красовались заголовки: «Б.Б. – мама». «У Жака и Брижит замечательный сын 3 кг 500».
«Самый знаменитый в мире младенец родился сегодня ночью в 2 часа 10 мин.». «Самая знаменитая и самая красивая в мире мать произвела на свет сына!» и т. д., и т. п.
Телеграммы приходили со всего света.
Ален отвечал на звонки, бегал вниз за цветами, возвращался, нагруженный подарками, письмами, всевозможными посланиями. Это было сущее безумие, всеобщее ликование тех, кого случившееся не касалось. Для моих близких это была небольшая драма. Для меня – катастрофа.
Из фирмы «Приданое для новорожденных» доставили огромные коробки, полные распашонок, ползунков, пинеток, пальтишек. Фирма сделала широкий жест в рекламных целях: подарила от моего имени полное детское приданое всем младенцам, родившимся в этот день, 11 января, во всех парижских больницах и родильных домах. Потом, когда меня благодарили все эти неизвестные мне люди, я узнала, что именами «Николя» и «Брижит» назвали множество детей, появившихся на свет в тот день в Париже.
Жером Бриерр, директор «Юнифранс-Фильм» – я знала его с моих первых шагов в кино и всецело ему доверяла, – ухитрился, прорвавшись через кордоны полиции, секретаря и родных, войти ко мне в комнату. Это был старый приятель, он мог видеть меня в любом состоянии! И Бог свидетель, в тот день он увидел меня в состоянии полного физического и морального упадка. После непременных поздравлений и пожеланий он объяснил мне, зачем он здесь. Мне нельзя оставаться в осаде сотен фоторепортеров! Жильцы уже жаловались, а журналисты могли в любой момент ворваться в дом силой, чтобы заполучить наконец снимок века!
Он, Жером, если я не против, предлагал свои услуги, чтобы сделать серию фотографий Николя со мной и с Жаком. Мы просмотрим их вместе, отбракуем плохие, оставим только удачные, и он бесплатно раздаст их всем желающим, тем самым избавив меня от необходимости принимать тысячу фотографов одного за другим, без всякой гарантии качества снимков. Я лежала, измученная, некрасивая, грязная, мои простыни и волосы были еще липкими от пота, которым я обливалась, терпя ту чудовищную боль, – и я уже должна была платить дань своей славе: позировать фотографу!
Нет, что же это за профессия у меня! Я не на съемочной площадке!
Мама и Бабуля попытались уговорить Жерома. Надо подождать немного, день или два! Но Жером недаром был профессионалом! Злоба дня превыше всего! Если я не сфотографируюсь, может разразиться скандал: какой-нибудь паршивец рано или поздно найдет способ проникнуть ко мне, сделает черт знает какие снимки и пустит их в продажу.
Скрепя сердце я согласилась.
Мама помогла мне дойти до ванной, а тем временем Бабуля, Ивоннетта, моя горничная, и Дада превращали мою спальню в покои королевы. Сухой шампунь распушил мои слипшиеся волосы, и я долго расчесывала их щеткой. Принять ванну было нельзя, я обошлась очень горячим душем и сразу почувствовала себя отдохнувшей. Мама принесла мне прелестную ночную сорочку, голубую, шелковую с кружевами. Я кое-как подкрасилась и подобрала самые непослушные пряди моей шевелюры, соорудив небрежную, но очаровательную прическу, – она послужила основой так называемой «кислой капусты», модной в последующие годы.
Жером сделал сотни фотографий этой молодой женщины и ее младенца! Снял он и несколько кадров с Жаком. Повсюду были цветы, на простынях тоже – голубые. Эти снимки облетели весь мир, появились на обложках всех крупных журналов, на первых полосах всех газет и осчастливили каждого, кто их видел.
Кристина Гуз-Реналь не могла иметь детей.
Я выбрала ее в крестные. Она подарит Николя преданную и надежную любовь, заменит ему мать на время моих отлучек и обеспечит воспитание в строгости, но не без юмора.
Пьера Лазареффа можно было назвать моим отцом в области прессы. Ведь именно благодаря многочисленным обложкам и фотографиям в «ELLE» я сделала свои первые шаги в кино! Крестным отцом я выбрала его. Он подарит Николя знания, мужество, житейскую мудрость, размах и, быть может, успех в жизни. Но Пьер был евреем, оказалось, что ему нельзя держать Николя над купелью, и Алену пришлось заменить его. Католическая религия не перестает удивлять меня своими запретами. Ей не хватает великодушия, снисходительности, подлинной широты.
Сейчас, когда я пишу эти строки, мне 47 лет, и у меня есть мой чудный двадцатидвухлетний Николя, моя семья и моя опора. Я люблю его больше всех на свете. Я благодарю небо за этот дар и ни за какие сокровища не согласилась бы прожить свою жизнь заново без него – но тогда!
* * *
Вымотанные всеми этими событиями, мы с Жаком решили забыть о них в горах, в снегу. Николя оставили под бдительным оком Муси и Алена, зная, что Бабуля в новом качестве прабабушки присмотрит за всем и мама в новом качестве бабушки-наседки не упустит из виду ни единой мелочи. Мы уехали в направлении Альп, сами толком не зная, куда.
Избегая больших отелей, жаждущих рекламной шумихи, мы то и дело набредали на маленькие гостиницы-шале для спортсменов! После изрядного количества пересадок с одного подъемника на другой мы наконец обнаружили затерянный в горах маленький домик, увенчанный шапкой снега, уединенный и с виду такой тихий!
Канатные дороги кончали работать в 4 часа, и, когда мы поняли нашу ошибку, бежать было поздно. Мы оказались в окружении оравы буянов-горцев. О, узнать-то они нас узнали! Но для них мы были такие же люди, как все! Хлоп! – я получаю звонкий шлепок пониже спины.
Бардо? Ну и что с того, что ты Бардо?
Мы любим горы, и видали мы всех этих Бардо в белых тапочках!
Бац! – дружеский тычок кулаком в спину! И тут же к нам лезут чокнуться полными стаканами какого-то «вырви-глаза»! И плевать все хотели на Бардо и Шарье, на Шарье и Бардо! Дети орали, взрослые топали по полу тяжеленными башмаками, громко разговаривали, грубо хохотали. Я робко осведомилась, где моя комната. «Да нет тут никаких комнат, все спят в общем зале!» Я посмотрела на Жака, как приговоренный к смертной казни на того, кто может его помиловать!
Эту ночь нам пришлось коротать в храпящей и скверно пахнущей тесноте, среди спортсменов, истосковавшихся по жизни бойскаутов. В 8 часов утра, оставив их с лыжами и воплями, мы бежали к канатной дороге и первой же кабиной вернулись к нашей машине, как в тихую гавань!
Мы отправились в Кордон, где маленькая гостиница «Рош-Флери» предлагала желающим тишину, прекрасный вид и спокойную семейную атмосферу – все, чего мы хотели.
Наш приезд стал событием. Рэн, хозяйка, побежала предупредить свою старушку мать, распоряжавшуюся на кухне, захлопала в ладоши, сзывая своих постояльцев. Под их любопытными и умиленными взглядами мы заперлись на два поворота ключа в нашей – только нашей! – комнате.
Мы чудесно провели время в «Рош-Флери».
Первое потрясение прошло, и мы жили бок о бок с простыми и милыми людьми, которые старались наперебой сделать мою жизнь приятной.
Я потом часто приезжала к Рэн, и всегда меня ждали там теплый прием без лишней пышности и та уютная семейная атмосфера, которую я всю жизнь искала, но нигде больше не нашла.
Однако нам пришлось уехать: Жак должен был встретиться с одним своим другом в Шамони. Мы остановились в отеле «Монблан», в самом центре города. Я ненавижу, сразу возненавидела Шамони, этот заснеженный город в слепящих огнях, грязь в водосточных канавах, толпу и гнетущие горы, которые мешают видеть и дышать. Где фермы, источники, лесопильни, так приятно пахнущие свежераспиленным деревом, где Кордон?
В окно было видно только здание напротив, поэтому я закрыла ставни и легла в постель средь бела дня, твердо решив не вставать до самого отъезда. Чтобы скорее уснуть, я проглотила несколько таблеток снотворного. Жак, вернувшись, застал меня в бреду. Пришлось вызвать врача. Хозяйка отеля была просто чудо. Она выхаживала меня как родную дочь, говорила со мной, успокаивала.
Когда меня в очередной раз поставили на ноги, я, благодаря ей, познакомилась с самыми известными проводниками этих беспощадных гор. Это был удивительный, незабываемый вечер с настоящим фондю по-савойски. Я увидела грубоватых и каких-то очень настоящих людей, здоровых, широких душой, отважных и жизнерадостных.
Я попала в мир, совсем не похожий на мой, манящий мир, но и жестокий. Здесь все имело свою истинную ценность. Здешние женщины мирились с одиночеством, с преждевременным вдовством. Таков был суровый закон гор. Они подчинялись ему, но не как покорные рабыни, и хранили традиции с восхитительной безмятежностью. Я вспоминала, как пыталась бежать, укрыться от жизни, травясь снотворными. А вот они жили с высоко поднятой головой. Только морщины – следы пролитых слез, солнечными лучиками расходившиеся от глаз, – говорили о многом. Женщины с гор – воплощение мужества.








