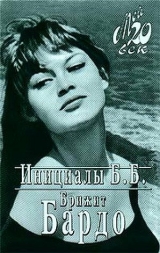
Текст книги "Инициалы Б. Б."
Автор книги: Бриджит Бордо
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
В то время я получала много подарков, а тогда, перед Рождеством, особенно. Консьержке было дано указание звать охранника с восьмого этажа, от парадной двери, когда приходили посылки или письма. Он вскрывал все на улице, потом отдавал то, что находил безопасным, мадам Аршамбо, а та относила все мне.
* * *
Клод Боллен и Жан-Макс Ривьер решили, что я должна петь. Они не отступились, пока не одолели мою робость.
Жан-Макс был чародеем слова, гитары и дружбы. Боллен – асом оркестровой адаптации.
И вот я стою перед микрофоном и лепечу слова под дивную музыку. День ото дня мой лепет становился все музыкальнее, все больше походил на пение, и фальшивые ноты тушевались перед известным нахальством, постепенно бравшим верх над болезненной робостью моего растреклятого характера. Мне даже понравилось петь.
* * *
Как раз тогда, перед Рождеством, когда в моей жизни царила полная кутерьма в связи со всеми этими событиями, я получила поразительное и трогательное письмо. Оно пришло из больницы в Ларибуазьере, от одной старой женщины, которая была совсем одна на свете и умирала от рака горла. Липкой лентой к листку бумаги было приклеено обручальное кольцо, единственная ее драгоценность – она дарила его мне по выбору своего сердца, даже не зная лично, она назначала меня наследницей.
Я была тронута до слез.
Письмо было написано фиолетовыми чернилами, в очень изысканных выражениях. Она ни о чем меня не просила, не жаловалась, принимала свою судьбу с большим достоинством. Она только хотела, чтобы это кольцо, связанное для нее со столькими воспоминаниями, не попало в неизвестно чьи руки. Если я приму его, она умрет спокойно.
Не долго думая, я купила портативный телевизор, украшенную елочку, шоколадные конфеты, халат из пиренейской шерсти и, нагруженная всем этим скарбом, явилась на следующий день в больницу с Мала и шофером киностудии, которого я с перепугу позвала на помощь.
Мой приезд стал сенсацией.
Мог ли кто-нибудь ожидать, что Брижит Бардо собственной персоной явится, навьюченная, как папский мул, всевозможными свертками для мадам Сюзон Пеньер, умирающей в двести восемнадцатой палате? В сопровождении всего персонала отделения я постучалась и вошла. Крошечная женщина, лежавшая на кровати, увидела меня, всхлипнула и от потрясения лишилась чувств!..
Тут началось нечто невообразимое, настоящая боевая тревога. Спешно вызванный доктор быстро навел порядок, посоветовал мне впредь не волновать так людей в подобном состоянии и поблагодарил за то, что я своим присутствием подарила Сюзон надежду на выздоровление, в которое он уже не верил.
Малышка-мышка Сюзон плакала от радости!
Ей полностью ампутировали голосовые связки, и она не могла произнести ни слова, но ее глаза говорили больше, чем любые речи. Она взяла меня за руку, увидела свое кольцо, которое я с тех пор не снимала, и ее взгляд сказал, что мне принадлежит ее жизнь, ее любовь и безграничная нежность.
Ей исполнилось 64 года, росту в ней было метр пятьдесят пять сантиметров.
Благодаря мне она выздоровела, покинула Ларибуазьер и вернулась в свою мышиную норку в Ла-Фертэ-су-Жуарр.
Все двадцать лет, что она прожила с того дня, когда мы с первого взгляда полюбили друг друга, я была ее семьей, ее единственной опорой и надеждой.
Я любила Сюзон как неотъемлемую часть себя. Эта маленькая женщина, умная, мужественная и здраво мыслящая, порой язвительная и даже коварная, была моим талисманом, моей первой названой бабушкой. Родные мало-помалу покидали меня, а моя Сюзон давала мне поддержку, совет, житейскую мудрость.
* * *
Настал 1962 год.
Жан-Поль Стеже, мой юный друг и защитник животных, нанялся мясником на скотобойню в Виллетт. Тайком он сделал ужасающие снимки несчастных животных, которых приносили в жертву самым бесчеловечным образом. Жан-Полю было тогда 20 лет – какое же надо было иметь мужество, чтобы взять на себя подобную работу с единственной целью добыть документы, чтобы показать всему свету жестокость и гнусность французских боен.
Животные уже стали смыслом моей жизни, но что я в этом понимала? Говорило только мое сердце! Я не имела ни малейшего представления о том, что законно, а что нет. Но я горько сетовала всем своим существом, что ради благополучия людей ежедневно творится столько скрытых от глаз мерзостей.
Когда однажды январским вечером 1962 года Жан-Поль пришел ко мне на авеню Поль-Думер со снимками и подробным рассказом о трех неделях своего пребывания на бойне, я пришла в бешенство. Как может человечество принимать, терпеть и даже одобрять подобные действия?
А что же делает правительство? Закрывает глаза, как всегда.
Мне стало плохо, физически плохо – от омерзения, от сознания собственного бессилия, от боли. Я тут же позвала горничную и строго-настрого наказала ей: «Больше никакого мяса, никогда, ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин! Никогда! Слышите – ни для меня, ни для вас».
Потом я долго плакала над фотографией, где маленький теленок с переломанными ногами и перерезанным горлом лежал весь в крови, распятый на козлах, – это было страшнее самых страшных пыток средневековья! Что ж, раз ни у кого не находится мужества или возможностей, чтобы разоблачить это чудовищное кровавое смертоубийство, – я это сделаю!
Я не спала, не ела, ничего не могда делать целую неделю. Франсис Кон, продюсер «Отдыха воина», съемки которого должны были начаться 5 февраля, встревожился не на шутку. Я не примеряла платья, забыла о пробах грима и прочей подобной чепухе, нужной мне как прошлогодний снег! Я ходила по квартире из угла в угол, пытаясь найти решение больного вопроса. В конце концов, по совету Жан-Поля, я попросила Мала, мою верную секретаршу, добиться для меня приема у Роже Фрея, министра внутренних дел.
* * *
Роже Фрей согласился принять меня в Министерстве внутренних дел, на площади Бово в Париже. Я, разумеется, сказала об этом Жан-Пьеру, и он дал мне несколько образцов пистолетов, предназначенных для забоя крупного скота, – хотя бы самых тяжких мучений, когда животное в полном сознании медленно умирает, истекая кровью, в большинстве случаев можно было избежать благодаря выпущенной в мозг стреле, парализующей нервные центры.
Я ничего не стану от вас скрывать – знайте же, что мясо съедобно, только если животному выпустят всю кровь. А для этого нужно, чтобы сердце билось как можно дольше. То есть просто убить животное нельзя. Оно должно жить с перерезанным горлом, пока кровь не вытечет до последней капли.
Вот против этой пытки я и воевала.
Поэтому оснащение боен такими специальными пистолетами было для меня вопросом человеческого достоинства.
Я приехала в Министерство внутренних дел – одна, оробевшая, растерянная, с полной сумкой пистолетов. Очень элегантный, внушительного вида привратник усадил меня в приемной. Я напоминала себе Глупышку из комиксов! Двое строгих мужчин в штатском ходили взад-вперед мимо меня.
Один из штатских, глядя очень подозрительно, пожелал меня обыскать. Таково правило для всех, кто входит к министру. Моему возмущению не было границ. Как он смеет оскорблять меня подобным образом, да знает ли он, кто я такая? Будь я хоть Папой Римским, ему необходимо посмотреть, что у меня в сумке.
Хороша же я была! Хоть раз моя популярность могла сослужить мне службу – так нет же, эти типы, заподозрившие во мне террористку, видимо, никогда не ходили в кино и редко читали скандальную хронику в газетах. Слава Богу, Роже Фрей услышал нашу перепалку, открыл дверь своего кабинета и поспешил ко мне с распростертыми объятиями.
В тот день я поняла, что при беседе с министром улыбка может оказаться действеннее, чем море слез. Вот только улыбаться, показывая орудия убийства, казалось мне нелепым. Однако я сдержала слезы, улыбнулась и попыталась заговорить на одном языке с сидевшим напротив меня человеком. Его куда больше интересовала моя карьера в кино, чем та трудная миссия, что привела меня к нему. Мы пошутили, поболтали о разных пустяках, но я упорно возвращалась к проблеме, которая так волновала меня.
До чего же я, наверно, его раздражала!
Какое дело министру до страданий тысяч животных? Все же он пообещал мне рассмотреть этот больной вопрос, только не теперь, когда он очень занят ОАС и ее угрозами. Я, воспользовавшись случаем, рассказала ему о шантаже, которому подвергли меня, и о том, как я тщетно искала защиты у правительства. Его это очень позабавило: я одна оказалась столь гордой жертвой.
О! Франции следовало бы взять с меня пример!
Время, отпущенное для визита, истекло, и я ушла, оставив на столе министра три образца пистолетов. Десять лет спустя они были одобрены и введены в эксплуатацию на всех французских бойнях, включенных в систему социального страхования.
После таких бесед я сознавала свою бесполезность, ничтожность, никчемность. Зачем мне нужна эта пресловутая мировая слава, если я не могу добиться обещания более легкой смерти для животных на бойнях?
Выполнив свою миссию, я готовилась уйти на три месяца в киномонашескую жизнь: мне предстояло сыграть с Робером Оссейном в «Отдыхе воина», ставил картину Вадим. Об этом знаменитом романе Кристианы Рошфор много говорили: свобода языка и нравов шокировала тех, кому хотелось бы поступать так же, да только они не смели. Таких было много! Я знала: тот факт, что я сыграю Женевьеву Ле Тей, даст лишний повод вылить на меня ушаты грязи.
Я по-настоящему устала от всего этого. Но я не могла не сняться в этом фильме: контракт был подписан почти два года назад. Два года – большой срок! То, чего хотелось тогда, может со временем стать невыносимым. Это был тот самый случай. Что делать, я очень хорошо относилась к Вадиму. Я не хотела осложнять ему работу и жизнь, но душа у меня к этому фильму уже не лежала.
Больше подписанных контрактов, слава Богу, не было, и я решила, что это будет моя последняя картина. «Отдых Брижит» был самым дорогим моему сердцу замыслом на долгие годы вперед. Решение казалось мне окончательным и бесповоротным, и я объявляла его всем и каждому. Под впечатлением ада скотобоен я была подавлена, и вообще человечество мне опротивело.
Поскольку мне всегда в этой жизни приходилось сражаться в одиночку, я решила преподнести себе роскошный подарок к Новому году. Если сама себя не порадуешь, то кто тебя порадует? Я влюбилась в фильм Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», где Дельфина Сейриг играла сногсшибательную роль в платье от «Шанель», которое запало мне в душу в десять раз глубже, чем «Номер 5»! Я решила, что должна носить точно такое же платье, и отправилась к «Шанель», где меня приняла Мадемуазель Коко собственной персоной!
Робко ступив в эту святая святых, на заповедную территорию на последнем этаже, куда не имел доступа никто, кроме прославленной законодательницы мод, я увидела перед собой Коко – вполне доступную, земную, очаровательную и, разумеется, элегантную! Она говорила мне о том, как ей ненавистна расхлябанность, как она борется за то, чтобы женщины всю свою жизнь оставались ухоженными и были как можно привлекательнее. Она терпеть не могла домашних тапочек, пеньюаров, халатов, если только они не были роскошными и элегантными. Она сказала, что женщина должна выглядеть безупречно и быть красивой в любое время дня и ночи!
Мне стало немного стыдно.
А ведь я специально для нее навела красоту! Я объяснила ей, что хочу точно такое же платье, как у Дельфины Сейриг! Она приказала снять с меня мерки. И подарила мне платье!
Спасибо, Мадемуазель Шанель, за этот незабываемый подарок.
XVIII
В феврале я встретилась на студии в Бианкуре с Вадимом и с воином, чьим отдыхом мне предстояло стать – Робером Оссейном.
Я не очень довольна этим фильмом.
Мне не удалась роль мещаночки, которая превращается в вульгарную девку ради прекрасных глаз Рено. А в Робере Оссейне было так мало от воина, что всякий поединок – будь то кулачный, словесный или любовный – приводил его в панику. Плохо подобранный дуэт, тусклая экранизация – всему этому не хватало живого дыхания, размаха, безумия. Высушенный фильм.
Я вновь вернулась к Сэми. У него были свои приключения на театральном и кинематографическом поприще. Пропасть между нами ширилась, вопреки нашей воле, вопреки подлинности и силе страсти, которая связывала нас. Ужасно быть так далеко друг от друга из-за работы, а потом с таким трудом возвращаться в прежнюю колею.
Вилла «Мадраг» протянула нам руки.
Я все-таки любила Сэми наперекор всему, и он меня тоже. Он навсегда останется для меня символом любви – любви глубокой и разрушительной, как все слишком абсолютное. Мы родились под одним знаком – Весов, и наша неуравновешенность увлекала нас в бездну всеотрицания, где мы терялись, отчаянно цепляясь друг за друга. Мы оба слишком остро чувствовали, слишком ясно видели и поэтому жили как будто с содранной кожей. Мы почти нигде не бывали, жили затворниками, нам хотелось как можно дольше побыть вместе, запастись друг другом впрок, чтобы легче было смириться с мыслью, что очередные съемки, гастроли, моя и его работа снова разлучат нас.
Дом был наполнен дивной классической музыкой – Бах, Моцарт, Вивальди, Гайдн. Я разучила с Сэми адажио из концерта для кларнета Моцарта. Только Жики и Анна, жившие на вилле «Малый Мадраг», допускались в наше уединение.
5 августа – я тогда пыталась позагорать, укрывшись от нескромных взглядов любопытствующей публики, которая заполонила причал и осаждала нас, – я узнала новость, всколыхнувшую весь мир: Мерилин Монро покончила с собой! Я была потрясена. Как эта женщина могла дойти до столь глубокого отчаяния?
На меня нахлынули мучительные, такие еще свежие воспоминания. Значит, и она тоже! Но почему? Ей удалось умереть. Мне – нет.
Что за странная сила толкала нас к самоубийству – ведь в глазах всех мы были существами исключительными и имели все, что нужно для счастья. Наверное, это не так, потому что, как ни прискорбно, еще немало женщин-знаменитостей наложили на себя руки: Роми Шнайдер, Эстелла Блен, Мари-Элен Арно, Джин Сиберг, Жаклин Юэ и, увы, многие другие.
Бедная малышка Мерилин с глазами потерянного ребенка, такая хрупкая и чистая. Она останется единственной и неповторимой, сколько бы ни делалось позорно грубых попыток подражать ей.
Осенью этого года Эдит Пиаф через Кристину Гуз-Реналь изъявила желание познакомиться со мной. Эта женщина, которой я так восхищалась, женщина, которая стала символом французского народа, его глашатаем, его рупором, оттеняя цвета нации своим неизменным черным платьем и своим огромным талантом, – эта женщина хотела меня видеть! Не может быть!
Почему именно меня?
Я была приглашена на обед в ее квартиру на бульваре Ланн, где она жила со своим мужем Тео Сарапо. И я приехала! Не знаю точно почему, но только не из любопытства и не из жалости. И что же я увидела? Лишь тень ее тени, как выразился бы Жак Брель! Уже тяжело больная, худая до жути, наполовину лысая, в шерстяном халате, она казалась отсутствующей, но присутствие духа сохраняла.
Я часто вспоминаю слова песни, которую напевали в дни моей юности, – они так ей подходят: «Где все мои любимые, все те, что так меня любили?!» Ее, столь щедро одаренную женщину, оставили наедине с собой, с болезнью, с горем, с одиночеством души, и только один мужчина был с нею и помогал ей умереть. Этот мужчина, Тео Сарапо, через некоторое время тоже умер, и сколько же ядовитых насмешек было отпущено в его адрес!
Сколько мерзости в душе человеческой!
Я решила больше не сниматься долго-долго… отдохнуть «на седьмой год», но оказалось, что я уже как бы запрограммирована. Жизнь, не подчиненная строгим графикам и работе, забавляла меня только первое время.
Потом я заскучала.
Николя и Муся вернулись наконец на Поль-Думер, но тот факт, что трехлетний малыш долго жил вдали от своего дома, нашему сближению не способствовал. Я не отличаюсь терпением, и чем больше он орал, тем сильнее я раздражалась. Я уже не решалась зайти поцеловать его, удивляясь: казалось бы, он должен быть мне необходим. Тогда я не знала, что это я ему необходима, а не наоборот.
Сэми был по-прежнему поглощен Брехтом, «Городскими джунглями», у него было свое окружение, в которое я не входила: я-то ведь звезда! Жан-Макс Ривьер и Клод Боллен соблазняли меня новыми песнями. Еще я познакомилась с композитором, написавшим для меня «Игральный автомат». Звали его Серж Гейнзбур…
Безделье начинало тяготить меня, хотя я чудесно провела время в Мерибеле – в этом заповедном местечке снег еще был чистый, никаких туристов, дивные маленькие шале и пустые лыжные трассы.
24 февраля Мижану и Патрик Бошо, этакий неотразимый Грегори Пек, наполовину швейцарец, наполовину бельгиец, телеграммой сообщили мне о рождении дочери Камиллы. Я обрадовалась и встревожилась. Мижану была дикаркой, жила богемной жизнью, ее муж пробовал себя в кино модного интеллектуального направления. Достанет ли у них средств, чтобы вырастить эту девочку? По собственному опыту я знала, что воспитание ребенка предполагает определенные обязанности, порой обременительные, с которыми я, например, справлялась плохо. И все же тот день в шале в Мерибеле стал праздником: родилась маленькая Камилла.
Благодаря Патрику Бошо в начале этого года я имела честь встретиться с Жан-Люком Годаром и его шляпой. Он являл собой полную противоположность моему миру, моим взглядам. Когда я принимала его у себя на Поль-Думере, мы не обменялись и тремя словами. В его присутствии я цепенела. А он, должно быть, был от меня в ужасе. Однако он не отказался от своего намерения и непременно хотел снять меня в «Презрении».
Он был ключевой фигурой «новой волны», я – звездой классического образца.
Какая гремучая смесь!
* * *
Я обожала книгу Моравиа и знала, что она будет безнадежно испорчена режиссурой и диалогами, идущими вразрез с оригиналом. И все-таки я согласилась. Я как будто заключила пари с самой собой, зная, что могу много проиграть, но выиграть – еще больше. И я пустилась в одну из самых немыслимых авантюр в своей жизни. В первых числах апреля я, оставив Гуапу и Николя на попечении Муси, выехала с Дедеттой, Дани, Жики и Анной в Сперлонгу, деревушку на юге Италии, где должны были начаться съемки. Моими партнерами в этой игре были Мишель Пикколи и Джек Паланс, американский актер, похожий на мартышку, который ни слова не знал по-французски.
Отель был из самых простых, безликий, как все на свете отели, с комнатами, одинаковыми, как близнецы. Годар, в своей неизменной шляпе и темных очках, вяло пожал мне руку и пробормотал какие-то приветственные слова. Я была не в духе, мне было страшно, я трусила перед первой съемкой и хотела домой.
Когда в моем номере зазвонил телефон, я так и подскочила. Это оказался Раф Валлоне! Он был в Сперлонге и пригласил меня поужинать с ним. О да, конечно, как я рада!
Я чудесно провела с ним вечер и вернулась рано: съемка была назначена на 7 часов утра. Войдя в свой номер, я решила, что ошиблась дверью.
Пусто! Моя комната была пуста!
Ни кровати, ни чемоданов, ни мебели, ни лампы – ничего. Что за шутки? Было около полуночи, в отеле царила мертвая тишина, за стойкой портье – никого. Единственное, что я обнаружила в своем номере, – приколотую к стене фотографию мартышки с нежным признанием за подписью Джека Паланса.
Я рвала и метала: где я буду спать?
Какая скотина ухитрилась вынести всю мебель, все вещи, вплоть до туалетных принадлежностей? Я улеглась в ванне, а под голову вместо подушки подложила свои свернутые брюки. Всю ночь я не сомкнула глаз, проклиная съемки, натуру, путешествия, все на свете съемочные группы и недоумков, способных на такие идиотские розыгрыши.
К утру я просто кипела от злости.
Одетта, придя меня гримировать, вскрикнула от изумления при виде пустыни Гоби, в которую превратился мой номер! На съемку я шла как на бойню. Никто, разумеется, ничего не знал, но Жики хитро косил глазом. Не кто иной, как он, с помощью Пикколи, сыграл со мной эту шутку. Что же до Джека Паланса, он смотрел на меня умильным взглядом. Если не считать фотографии мартышки с его объяснением в любви, я его никогда в жизни не видела. Но я все поняла, когда он достал из кармана мою фотокарточку с нарисованным на ней сердечком и моей подписью, искусно подделанной Жики.
С этого дня съемки превратились в нескончаемую череду шуток и розыгрышей. Чего только мы ни вытворяли на Капри, в великолепном отеле, где нас поселили: были и ведра с водой над дверью, и натянутые перед входом в номер веревки, и всевозможные предметы в постели, и многое другое.
В Риме я сняла «Палаццо Веккиарелли» – роскошный особняк, расположенный в двух шагах от замка Сант-Анджело и прямо напротив монастыря. В нашем распоряжении был целый штат прислуги во главе с отменно вышколенным дворецким по имени Бруно, который на работе не снимал белых перчаток.
Все они лебезили передо мной, сообщая, что «синьора контесса» (владелица дома) имела обыкновение завтракать в этой комнате… пить кофе там… а аперитив здесь… Жить в анфиладе мрачных раззолоченных комнат было невозможно: я бы шевельнуться не смогла в этих роскошных и неподъемных кандалах в стиле рококо. Я решила расположиться в спальне и смежной с ней комнате – это было что-то вроде прихожей «синьоры контессы», и, по счастью, там имелся подъемник для подачи блюд прямо из кухни.
Дедетта, Дани, Кристина в качестве пресс-атташе, Жики и Анна поделили остальную территорию – комнаты в этом дворце, с кариатидами, лепными завитушками и тяжелыми портьерами, украшенными золотым шитьем, напоминали дорогие бордели начала века.
Презрение – именно тогда я ощутила его на себе в полной мере.
Моя комната выходила, как почти во всех домах старого города, на очень красивую террасу. Там стояли вазоны с цветами, а как раз напротив находилась такая же терраса, принадлежавшая священникам, которая сразу же стала смотровой площадкой для всех римских газетчиков. Большущие, как базуки, телеобъективы были постоянно нацелены на нас, поэтому мы очень скоро приучились передвигаться на четвереньках. Это стало условным рефлексом. Каждый, кто входил ко мне, опускался на четыре конечности, чтобы не стать мишенью фотографов.
Один только Бруно, дворецкий, стоически оставался на ногах, в белых перчатках и с изумленным лицом. Представляю, какое у него с тех пор сложилось мнение о мире кино.
Та же комедия повторялась и на террасе. Приходилось ползать и прятаться за вазонами с геранью.
Однажды мама приехала меня навестить.
Ее реакция была такой же, как у Бруно: она решила, что мы слегка повредились умом. Чтобы показать ей, как на нас охотятся, я насадила один из моих париков на длинную палку и медленно приподняла ее: тотчас защелкали фотоаппараты, замерцали вспышки – противник открыл огонь из всех батарей. Это смешно, если рассказывать как анекдот. А на деле было далеко не так забавно. И все же, несмотря на постоянную осаду, мы здорово веселились в этом старом и мрачном римском дворце.
Как-то вечером нам особенно не терпелось избавиться от Бруно, который, со своей безупречной выучкой, убирал со стола часами. Мы быстренько составили на подъемник все вперемешку – венецианское стекло, расписной фарфор XVIII века, столовое серебро с гербами, скатерть, салфетки – и вдруг услышали оглушительное: крак! Бум! Трах-тарарах! Подъемник не выдержал тяжести, и все рухнуло вниз, в кухню.
О ужас! Но как же мы хохотали!
Упал не только подъемник – мы тоже окончательно упали в глазах Бруно: с тех пор он больше не надевал для нас белых перчаток, что для него, вероятно, было выражением глубочайшего презрения.
Ах, да, в промежутках между взрывами веселья еще и съемки шли своим чередом. Это было далеко не так смешно! Годар в шляпе набекрень работал мозгами, или наоборот – Годар в шляпе работал мозгами набекрень. Кому как больше нравится.
Мы с Пикколи и Жики прекрасно спелись, разыгрывая всех, кого только можно, но Годар неизменно сохранял серьезный вид. Он с ним вообще никогда не расставался, как и со шляпой. Ну а Джек Паланс, наверно, до сих пор не может понять, какого черта его занесло в этот фильм.
Однажды Годар сказал, что меня будут снимать со спины: я должна идти прямо, удаляясь от камеры. Я репетировала, ему не нравилось. Я спросила почему. Потому что, сказал он, моя походка не похожа на походку Анны Карины.
Ничего себе, отмочил!
Чтобы я подражала Анне Карине – этого только не хватало.
Сняли дублей двадцать, не меньше. В конце концов я заявила: пусть приглашает Анну Карину, а меня оставит в покое.
В этом фильме мне не грозило влюбиться в партнера! Мишеля Пикколи я обожаю, но он мужчина не моего типа, и к тому же на голове у него постоянно была нахлобучена шляпа, даже в ванне! Вот она – «новая волна». А о бедняге Палансе и говорить не хочется.
На Капри снимали в доме Малапарте [3]3
Итальянский писатель (1898–1957).
[Закрыть]– это что-то вроде рыжевато-красного бункера, прилепившегося к скале, сюрреалистическое и холодное орлиное гнездо, откуда нам открывался потрясающий вид на море. Яростные волны, пенясь, разбивались у наших ног. На этом фоне, величественном и безумном, Годар, с помощью Фрица Ланга, замыслил своеобразнейшую «Одиссею» на свой манер. Я всегда чувствовала себя несколько чуждой этому фильму. Я не вложила в него ничего из глубины своего «я». Все что я делала – исполняла указания Годара.
Жак Розье снимал «второй план» фильма: «папарацци», итальянцев, которые зачастую бывали несносны, говорили мне гадости или делали непристойные жесты; снимал тревоги Годара, его противоречия и сомнения. Вся эта мешанина имела огромный успех – я так и не поняла почему!
Когда за мной приехал Сэми, нам пришлось бежать с этого острова в шторм на суперсовременном катере продюсера Карло Понти. Больше я никогда там не бывала. Для меня с Капри было покончено. Въезд запрещен. Я увезла с собой воспоминание о недолгом времени, полном веселья, жизни, друзей, – это был как будто конец каникул, вернувший мне желание жить, смеяться, вдыхать полной грудью живительный воздух моих двадцати восьми лет.
* * *
Летом я познакомилась с Бобом Загури, другом Жики.
Вся полнота жизни, все веселье и беззаботность Бразилии пришли в «Мадраг». Боб танцевал как бог, у него были бархатные глаза, белые длинные зубы…
Слишком долго я жила, погрязнув в проблемах и сомнениях; меня вдруг словно прорвало, и вся жизненная сила, дремавшая во мне, выплеснулась наружу. Дом наполнился друзьями, жизнь превратилась в нескончаемый праздник, я играла на гитаре с бразильцами, танцевала в объятиях Боба. К чертям злые языки и досужие сплетни! Я на все плевала и ничего не скрывала.
Моя новая идиллия заняла все первые полосы, скандальная хроника распространила ее с молниеносной быстротой.
Сэми был в Париже. Он узнал обо всем из газет.
Это была трагедия.
Я всегда хотела иметь все сразу: и сливки снять, и денежки выручить. Боб мне очень нравился, с ним было легко и весело, наш роман не отличался глубиной, но в этом и была его прелесть. С Бобом мне было спокойно. Но потерять Сэми я не хотела ни за что на свете.
Мне нужны были они оба.
Я звонила Сэми, говорила, что люблю его, только его, я приеду завтра же, мы больше никогда не расстанемся, он – моя любовь, моя совесть, моя опора, моя последняя надежда, моя жизнь, моя смерть, время и бесконечность. Я плакала, проклиная себя за то, что изменила ему, я чувствовала себя грязной и мерзкой.
Между тем появлялся Боб, веселый, обаятельный, влюбленный, нежный, неотразимый. Он губами осушал мои слезы, нашептывал ласковые слова, утешал. Он говорил, что увезет меня в Бразилию, покажет мне ее красоты, чистые и дикие, похожие на меня, он никогда меня не покинет – даже если мне придется сниматься на Камчатке, он поедет со мной. Я его девочка, его маленькая, его единственная, он хочет, чтобы я была счастлива, мне не идет плакать, я такая красивая, когда улыбаюсь. Он согревал мне сердце.
Я убирала дорожную сумку и наводила красоту для Боба.
Жики и Анна поджидали нас за стаканчиком вина на причале. Мы шли ужинать, танцевать, веселиться до поздней ночи. И я забывала о Сэми. Мне было так хорошо с Бобом: в нем было столько обаяния, он умел делать столько всяких вещей, которые я любила, он кружил мне голову, с ним не было проблем.
Это лавирование продолжалось недолго.
В один прекрасный день Сэми не подошел к телефону. Он покинул квартиру на авеню Поль-Думер. Вот тогда-то я по-настоящему осознала, что разрыв неизбежен.
Мне было очень больно: ведь я так любила его.
Я вдруг разозлилась на Боба: это он был виноват в том, что я причинила боль Сэми. Моя совесть была нечиста. Я пыталась найти в Бобе все то, что любила в Сэми.
Разумеется, не нашла! И он стал меня раздражать.
Он не способен на глубокие чувства. Но как послать его к чертям, я ведь останусь совсем одна? Этого я не могла даже вообразить.
* * *
«Очаровательную идиотку» я прочла еще зимой, в Мерибеле. Книга показалась мне очень смешной.
По правде говоря, история-то глуповатая, но мне в то время немного было надо, чтобы влюбиться во что угодно и в кого угодно. Ничего не поделаешь: я сказала однажды, просто так, в пространство (теперь я боюсь этого как чумы!), что книга прелестна – и все продюсеры, у которых я снималась, передрались за право экранизации. Победу одержал «Бель-Рив». В партнеры мне достался Энтони Перкинс, «недостижимый идеал» каждой женщины.
И вот я пустилась в очередную киноавантюру – отнюдь не блистательную. Хотя Эдуар Молинаро, модный тогда режиссер, проявил все свои таланты, Энтони Перкинс пустил в ход все свое обаяние, а я выглядела как нельзя более идиоткой и, по чистой случайности, очаровательной, этот фильм остался для меня ошибкой юности, из разряда «лучше б я сломала ногу».
В Лондоне 250 журналистов и фоторепортеров оказали мне такой прием, что я начала сожалеть о Капри, о «папарацци» и об итальянцах, хотя, видит Бог, те были невыносимы!
* * *
Как ни старались продюсеры, снимать на улицах Лондона было невозможно, и они решили воссоздать столицу Англии в Булонской студии – там будет спокойнее.
Мы с Бобом вышли через кухню отеля, замаскировавшись под старичка и старушку. Я смогла час походить по магазинам, купить себе непромокаемый плащ, волынку и «морган», машину моей мечты, современную копию «бугатти», ручной сборки – роскошную игрушку, какой во Франции не найти. С доставкой через год… и то только потому, что это я!
Возвращение в Париж было нерадостным.
Как я и предвидела, горничная заявила, что уходит.
Оставалась, правда, секретарша, которая заменила мою заболевшую Мала, но эта женщина «из общества» только вскрывала мою почту, не осмеливалась вторгаться в мою личную жизнь и, вообще, знала разве только, как меня зовут, – и все!








