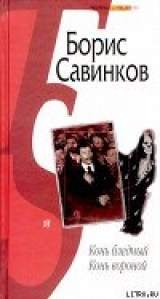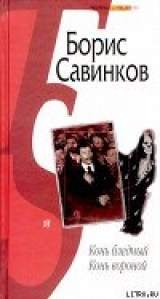сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– Боже мой… Я же вам говорю: усилением террора.
Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:
– Усилением террора? Что же? Дай Бог.
– А вы что думаете об этом?
– Я? Ничего.
– Как ничего?
Я встаю.
– Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать террор не берусь.
– Но почему же, Жорж? Почему?
– Попробуйте сами.
Он в изумлении разводит руками. У него сухие жёлтые руки и пальцы прокопчены табаком.
– Жорж, вы смеётесь?
– Нет, не смеюсь.
Я ухожу. Он наверное долго ещё сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребёнок.
11 июля.
Ваня и Фёдор уже в Москве. Я подробно условился с ними. План остаётся тот же . Через три дня, 15 июля, генерал-губернатор поедет в Большой театр. Чистый сбор со спектакля поступит в пользу комиссии о раненых воинах. Он не может не быть в театре.
В 7 часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. У ней в комнате готовые оболочки и динамит. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайного взрыва.
В 8 часов я раздам снаряды. Ваня станет у Спасских ворот, Фёдор – у Троицких, Генрих – у Боровичьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.
На моём столе букет чахлой сирени. Зелёные листья поникли, бледно-лиловые кудри увяли. Я ищу в увядших цветках пять листиков, – счастье. И я рад, когда нахожу его, ибо дерзким удача.
14 июля.
Я помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем посёлке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Всё кругом мне чужое. И небо, и скалы, и ворвань, и эти люди, и их странный язык. Я терял самого себя. Я сам был чужой.
И сегодня мне всё чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На вычищенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются по столбам, с размаху кидаются вниз, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них, на их упругие и крепкие тела. Что я им и что они мне?… А мимо скучно снуёт толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая ругаются, скучая смеются. Женщины жадно ищут глазами.
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встаёт чёткая мысль. Мысль об убийстве. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец и смерть – терновый венок.
16 июля.
Вчера с утра было душно. В Сокольниках хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Чёрная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась жёлтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнём, сверкнула первая молния.
В 7 часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зелёная юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках большая корзина с бельём.
В этой корзине снаряды. Я бережно кладу их в портфель. Тяжёлый портфель больно тянет мне руку. Эрна вздыхает.
– Устала?
– Нет, ничего… Жоржик, можно мне с вами?
– Эрна, нельзя.
– Жорж, милый…
– Нельзя.
В её глазах несмелая просьба. Я говорю:
– Иди к себе. В двенадцать часов приходи на это же место.
– Жорж…
– Эрна, пора.
Ещё мокро, дрожат берёзы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.
Ровно в 8 часов Ваня – у Спасских ворот, Фёдор – у Троицких, Генрих – у Боровичьих. Я брожу по Кремлю. Я жду, когда ко дворцу подадут карету.
Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Чёрные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты… Генерал-губернатор уже у Боровичьих ворот… Я стою у памятника Александру II. Надо мною во мраке статуя царя. Окнами блестит Кремлёвский дворец.
Я жду. Идут минуты. Идут дни. Идут долгие годы.
Я жду.
Тьма ещё гуще, площадь ещё чернее, башни выше, тишина глубже.
Я иду. Снова поют куранты.
Я побрёл к Боровичьим воротам. На Воздвиженке Генрих. Он в синей поддёвке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту. У него в руках бомба.
– Генрих.
– Жорж, это вы?
– Генрих, проехал… Генерал-губернатор проехал. Мимо вас.
– Мимо меня?…
Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
– Мимо меня?…
– Где вы были? Да, где вы были?
– Где?…
Я был здесь… У ворот…
– И не видели?
– Нет…
Над ним тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя
– Жорж.
– Ну?
– Я не могу… уроню… Возьмите… бомбу… скорее…
Я почти вырываю у него снаряд. Так мы стоим под газовым фонарём и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.
– До завтра.
Он в отчаянии машет рукой.
– До завтра.
Я ушёл к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Чахнет сирень. Я машинально рву увядшие листья. Я опять ищу цветочное счастье. А губы шепчут сами собою: «Лучше мёртвому льву, чем псу живому»
17 июля.
Генрих, взволнованный, говорит:
– Я сначала стоял у самых ворот… Минут десять стоял… Потом вижу: городовой заметил. Я пошёл по Воздвиженке… Вернулся. Постоял. Генерал-губернатора нет… Снова пошёл… Вот тут он, наверное, и проехал…
Он закрывает руками лицо:
– Какой позор… Какой стыд…
Он не спал всю ночь напролёт. Под глазами у него синяя тень и на щеках багровые пятна.
– Жорж, ведь вы верите мне?
– Верю.
Пауза. Я говорю:
– Слушайте, Генрих, зачем вы идёте в террор? Я бы на вашем месте работал в мирной работе.
– Я не могу.
– Почему?
– Ах, почему?… Нужен террор или нет? Ведь нужен… Вы знаете: нужен.
– Ну так что ж, что нужен?
– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?… Ведь нельзя же звать на террор, говорить о нём, желать его и самому не делать… Ведь нельзя же… Нельзя?
– Почему нельзя?
– Ax, почему?… Ну, я не знаю, может быть другие и могут… Я не могу… Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:
– Боже мой, Боже мой… Пауза.
– Жорж, скажите же прямо, верите вы мне или нет?
– Я сказал: я вам верю.
– И дадите мне ещё раз снаряд? Я молчу. Он медленно говорит: Нет, вы дадите… Я молчу.
– Ну тогда… Тогда… В его голосе страх. Я говорю:
– Успокойтесь, Генрих, вы получите ваш снаряд. И он шепчет:
– Спасибо. Дома я спрашиваю себя: зачем он в терроре? И чья в этом вина? Не моя ли?
18 июля.
Эрна жалуется. Она говорит:
– Когда же это всё кончится, Жорж?… Когда?..
– Что кончится, Эрна?
– Я не могу жить убийством. Я не могу… Надо кончить. Да, поскорее кончить…
Мы сидим вчетвером в кабинете, в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет «матчиш». Жарко, но Эрна кутается в платок. Фёдор пьёт пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Фёдор сплёвывает на пол и говорит:
– Поспешишь – людей насмешишь… Вишь, дьявол-Генрих: из-за него теперь остановка.
Ваня подымает глаза:
– Фёдор, не стыдно тебе? Зачем?… Не виноват Генрих ни в чём. Мы все виноваты.
– Ну уж и все… А по мне, – назвался груздем, полезай в кузов…
Пауза. Эрна шёпотом говорит:
– Ах, Господи… Да не всё ли равно, кто прав и кто виноват… Главное кончить скорее… Я не могу. Не могу.
Ваня нежно целует ей руку.
– Эрна, милая, вам тяжело… А Генриху? А ему?
За стеной не умолкает «матчиш». Пьяный голос поёт куплеты.
– Ах, Ваня, что Генрих? Я жить не могу…
И Эрна плачет навзрыд. Фёдор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?
20 июля.
Я лежу с закрытыми глазами. В растворённое окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится: Эрна готовит снаряды.
Вот она заперла двери на ключ, глухо щёлкнул замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие, синие язычки – змеиные жала – лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща поблёскивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьёт стеклянную трубку. Тогда будет взрыв.
Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги и руки. Навалили всё это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же.
Ну, а если её в самом деле взорвёт? Если вместо льняных волос и голубых удивлённых глаз, будет красное мясо?… Тогда Ваня приготовит снаряды. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.
Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил бомбы? Да, почему?… Генрих – не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?
Всё равно. Всё – всё равно. Пусть моя вина в том, что Генрих в терроре. Пусть его вина в том, что генерал-губернатор жив. Пусть Эрну взорвёт. Пусть повесят Ваню и Фёдора. Генерал-губернатор всё-таки будет убит. Я так хочу. Я встаю. Внизу на площади, под окном, копошатся люди – чёрные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкой злобой дня. Я презираю их. И не прав ли, в сущности, Фёдор: «Бомбой бы их всех, безусловно».
21 июля.
Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжёлый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я её встречу сегодня.
Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твёрдый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заострённых игл багрово-красный махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий аромат. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.
Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить её. Я весь в моей мести. И уже не спрашиваю себя: стоит ли мстить?
22 июля.
Генерал-губернатор ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию, в свой дом на Тверской. Он ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займём все дороги. Ваня будет ждать его на Тверской, в Столешниковом переулке – Фёдор. Генрих в резерве: он станет в дальних улицах, сзади дворца. На этот раз нас едва ли ждёт неудача.
Что бы я делал, если бы не был в терроре? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твёрдо знаю одно: не хочу мирной жизни.
Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без террора? Что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И ещё я могу сказать: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Время жатвы тех, кто не с нами.
25 июля.
Я говорю Фёдору:
– Ты, Фёдор, займёшь Столешников переулок, от площади до Петровки. Генерал-губернатор должно быть поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.
Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит и его чёрные усы закручены вверх.
– Ну, Жорж, будет им на орехи.
– Ты думаешь?
– Верно. Теперь не уйдёт.
Мы в далёком конце Москвы, в Нескучном саду. В густой зелени лип затаился белый дворец. Здесь недавно жил генерал-губернатор. Фёдор задумчиво говорит:
– В каких хоромах, мерзавцы, живут. Сладко спят, сладко едят… Баре проклятые… Ну да ладно: гляди, – служи панихиду.
– Фёдор…
– Чего?
– Если будут судить, не забудь взять защитника.
– Защитника?
– Да.
– То есть это адвоката какого?
– Ну да, адвоката.
– Адвоката не надо… Не люблю я их, адвокатов этих… Да и суда вовсе не будет… Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов… Последняя пуля в лоб, вот и готово дело.
И я по голосу знаю, да, действительно: последняя пуля в лоб.
27 июля.
Я иногда думаю о Ване, об его любви, об его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился…
И ещё:
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Ваня умрёт. Его не будет. С ним погаснет и «угль, пылающий огнём». А я спрашиваю себя: в чём же разница между ним и, например, Фёдором? Оба убьют. Обоих повесят. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах. И когда я думаю так, то смеюсь.
29 июля.
Эрна говорит мне:
– Ты меня не любишь совсем… Ты забыл меня… Я чужая тебе.
Я говорю неохотно:
– Да, ты мне чужая.
– Жорж…
– Что, Эрна?
– Не говори же так, Жорж.
Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:
– О чём ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.
Она шёпотом повторяет:
– Да, неудача за неудачей.
– А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.
– Ты любишь другую?
– Может быть.
– Нет, скажи.
– Я сказал давно: да, я люблю другую.
Она тянется всем телом ко мне.
– Всё равно. Люби, кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.
Я смотрю в её голубые, опечаленные глаза.
– Эрна.
– Жорж, милый…
– Эрна, лучше уйди.
Она целует меня.
– Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.
Над нами тихо падает ночь.
31 июля.
Я сказал: не хочу помнить Елену. И всё-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть её глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть её рук, её длинных прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души?… Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу её, и нет её лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви её красота и сила.
Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоённой росой земли встаёт мутный, мелочно-белый туман. В его тёплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звёзды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.
Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне её беспечная жизнь, муж офицер, её будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железной цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать?
3 августа.
Завтра опять наш день. Опять Эрна приготовит снаряды. Опять Фёдор, Ваня и Генрих займут назначенные места. Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нём думать. Но я жду и верю в него.
5 августа.
Вот что было вчера. В два часа я взял у Эрны снаряды. Я простился с ней на Тверской и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Фёдора. Фёдор занял Столешников переулок, Ваня Тверскую, Генрих дальние переулки.
Я зашёл в кофейню Филиппова, спросил себе стакан чая и сел у окна. Было душно. По камням стучали колёса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжёлый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грозно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стёкла. Потом всё умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Столешников переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: генерал-губернатор убит.
Я с трудом пробился через толпу. В переулке густым роем толпились люди. Ещё пахло густым дымом. На камнях валялись осколки стёкол, чернели раздроблённые колёса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг, где-то справа, в другом переулке отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов. Я знал: это стреляет Фёдор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятьях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять всё умолкло. Фабричный повернул ко мне своё лицо и сказал:
– Ишь ты, палит…
Я схватил его за руку и с силою оттолкнул. Но толпа ещё теснее сомкнулась передо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины. И вдруг услышал слова:
– Генерал-губернатор-то жив…