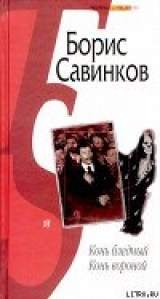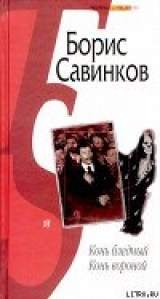сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Год назад я впервые увидел её. Я весной был проездом в N. и утром ушёл в парк, большой и тенистый. Над мокрой землёй вставали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зелёной сетке ветвей стояла женщина.
Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу. Это была Елена.
14 марта.
Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепьяно. Шаги тонут в мягком ковре.
Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Я не хочу знать будущего. Я стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:
Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, tout envie.
Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На «звезду утреннюю»? Я знаю: если мы убили вчера, то убьём и сегодня, неизбежно убьём и завтра. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь». Ну, а кровь водой не зальёшь и огнём не выжжешь. С нею, – в могилу.
Je ne voit plus rien,
Je perds la memoire
Du mal et du bien,
О, la triste histoire!
Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделённой земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода… И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя террора, для революции? Во имя крови, для крови?..
Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creu x d'un caveau
Silence, silence…
17 марта.
Я не знаю, почему я иду в террор, но знаю, почему идут многие. Генрих убеждён, что так нужно для победы социализма. У Фёдора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня… Но пусть Ваня скажет сам за себя. Накануне он возил меня целый день по Москве. Я назначил ему свидание у Сухаревки, в скверном трактире. Он пришёл в высоких сапогах и поддёвке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:
– Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?
– О ком? – переспрашиваю я.
– О Христе? О Богочеловеке Христе?… Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя во дворе я часто читаю Евангелие и мне кажется есть только два, всего два пути. Один, – всё позволено. Понимаешь ли: всё. И тогда – Смердяков. Если, конечно, сметь, если на всё решиться. Ведь если нет Бога и Христос человек, то нет и любви, значит нет ничего… И другой путь, – путь Христов… Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, то и убить тогда можно. Ведь можно?
Я говорю:
– Убить всегда можно.
– Нет, не всегда. Нет, – убить тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крёстную муку принять, нужно из любви, для любви на всё решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе, – опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве, ведь, не помолишься. Убьёшь, а молиться не станешь… И, ведь, знаю: мало во мне любви, тяжёл мне мой крест.
– Не смейся, – говорит он через минуту, – зачем и над чем смеёшься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь, ты скажешь, ты скажешь: бред?
Я молчу.
– Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать её? А ты будешь искать, всё мы будем искать. Как прольёшь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя – вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдёшь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и крови. Но Христос, в милосердии своём, будет со мною. Я пристально смотрю на него. Я говорю: Так не убий. Уйди из террора.
Он бледнеет:
– Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот я иду убивать, и душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не убить, ибо люблю. Если крест тяжёл, – возьми его. Если грех велик, – прими его. А Господь пожалеет тебя и простит.
– И простит, – повторяет он шёпотом.
– Ваня, всё это вздор. Не думай об этом.
Он молчит. На улице я забываю его слова.
19 марта.
Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слёзы:
– Ты меня совсем разлюбил.
Она сидит в моём кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у неё такие большие руки. Я внимательно смотрю на них и говорю:
– Эрна, не плачь.
Она подымает глаза. Нос у неё покраснел и нижняя губа некрасиво отвисла, Я отворачиваюсь к окну. Она встаёт и робко трогает меня за рукав:
– Не сердись. Я не буду.
Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щёки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У неё тихие слёзы. Я беру её к себе на колени.
– Послушай Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?
– Нет.
– Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?
Она вздрогнула и не отвечает.
– Говори же.
– Да. Ты сказал.
– Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?
– О, да.
– А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.
Я целую её. Счастливая, она говорит:
– Милый мой, как я люблю тебя.
А я глаз не могу оторвать от её больших рук.
21 марта.
Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном русском языке. Выходят недоразумения.
Вчера я был в театре. Рядом со мной купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:
– Вы какой нации?
Я молчу.
– Я спрашиваю: какой вы нации?
Я, не глядя на него, отвечаю:
– Подданный Его Величества Великобританского короля.
Он переспрашивает:
– Кого?
Я поднимаю голову и говорю:
– Я англичанин.
– Англичанин? Так-с, так-с, так-с… Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали… А теперь, извольте, – к нам, в Россию пожаловали. Нет, не дозволяю я этого.
Собираются любопытные. Я говорю:
– Прошу вас молчать.
Он продолжает:
– В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой… Англичанин… Знаем мы их, англичан этих… И чего полиция смотрит?
Я щупаю в кармане револьвер. Я говорю:
– Второй раз: прошу вас молчать.
– Молчать? Нет, брат, пойдём в участок. Там разберут. Недозволенно, чтобы, значит, шпионы. Нет. За царя! С нами Бог!
Я встаю. Я смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:
– В последний раз: молчать.
Он пожимает плечами и молча садится. Я выхожу из театра.
24 марта.
Генриху 22 года. Он бывший студент. Ещё недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные, – настоящий московский Ванька. Он везёт нас: меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит:
– Намедни попа одного возил. На Собачью Площадку рядился, пятиалтынный давал. Ну, а где она Собачья Площадка? Везу. Крутил я крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везёшь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен Москву, как мешок с овсом знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради… А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босяк за полтинник вместо меня явился.
Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с воодушевлением:
– Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгоруковскую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, – через рельсы. Как барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прёшь… сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут слышу барыня по-французски заговорила: Жан, говорит, не волнуйся, во-первых тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина… А она: фи, говорит, что ты право, стыдись… Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугривенный подаёт… Не иначе: кадеты… Н-но, милая, выручай!..
Генрих стегает свою лошадёнку. Эрна незаметно жмётся ко мне.
– Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, – привыкли?
Генрих говорит робко. Эрна, нехотя, отвечает:
– Ничего. Конечно, привыкла.
Направо Петровский парк, чёрный переплёт обнажённых ветвей. Налево – белая скатерть поля. Сзади – Москва. Сияют на солнце церкви. Генрих примолк. Тишина. Только сани скрипят. На Тверской я сую ему в руки полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед. Эрна мне шепчет:
– Можно сегодня прийти к тебе, милый?
28 марта.
Генерал-губернатор ждёт покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Нескучное. За ним переехали и мы. Ваня, Фёдор и Генрих следят теперь в Замоскворечье: у Калужских ворот и на большой Полянке. Я брожу по Пятницкой и Ордынке.
Мы уже много знаем о нём. Он высокого роста, с бледным лицом и подстриженными усами. Выезжает в Кремль два раза в неделю, от 3-х до 5-ти. Остальные часы он дома. Иногда бывает в театре. У него три запряжки. Пара серых коней и две вороных пары. Кучер не старый, лет сорока, с рыжей, веером бородою. Карета новая с белыми фонарями. Иногда в ней ездит его семья: жена и дети. Но тогда кучер другой. Старик с медалями на груди. Охрану мы знаем тоже: два сыщика, оба евреи. Ездят всегда на гнедом рысаке, в открытых санях. Ошибиться нельзя и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первую бомбу.
29 марта.
Из Петербурга приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, – тяжкая жизнь затравленного революционеpa. У него грустные глаза и седая бородка клином. Мы сидим в «Эрмитаже». Он застенчиво говорит:
– Вы знаете, Жорж, в комитете поднят вопрос о временном прекращении террора. Что вы об этом думаете?
– Человек, – подзываю я полового, – поставь машину из «Корневильских колоколов».
Андрей Петрович опускает глаза.
– Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить террор и парламентскую работу? Или мы её признаём и идём на выборы в Думу, или нет конституции и тогда, конечно, террор. Ну, что вы думаете об этом?
– Что думаю? Ничего.
– Вы подумайте. Может быть придётся вас распустить, то есть организацию распустить.
– Что? – переспрашиваю я.
– То есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим… И потом, ведь это только предположение.
У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он наверное живёт в нищей каморке, где-нибудь на Выборгской стороне, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими планами и делами. Он делает революцию. Я говорю:
– Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это ваше право. Но как бы вы ни решили, генерал-губернатор будет убит.
– Что вы? Вы не подчинитесь комитету?
– Нет.
– Послушайте, Жорж…
– Я сказал, Андрей Петрович.
– А партия? – напоминает он.
– А террор? – отвечаю я.
Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.
– Я в Петербурге ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдётся. Вы не сердитесь.
– Я не сержусь.
– Прощайте, Андрей Петрович.
Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик. Бедный взрослый ребёнок. Именно вот таких и есть Царство Небесное.
30 марта.
Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжёлый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?
Я знаю: глупо мёрзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу её? Что изменится? Ничего.
А вот вчера, на Кузнецком, у Дациаро я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиною ко мне и разглядывал фотографии. Я подошёл и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.
Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочёл злобу и ревность. Я не знаю, что он прочёл в моих. Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И ещё: когда я думаю о нём, я вспоминаю слова:
Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха, –
Выйди на улицу
И убей!
2 апреля.
Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок и в Сокольниках пахнет весной, – крепкой сыростью леса. Вечерами ещё мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.
Прошлой весной я был на юге. Ночи, – ни зги. Только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветёт вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утёс. Надо мной раскалённое солнце, внизу – прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг, – нет меня, нет моря, нет солнца, нет леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.
А теперь?
Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей жизни в Конго. Он был один и у него было пятьдесят чёрных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжёт и бродит жёлтая лихорадка. По ту сторону жило племя независимых негров, со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью и вновь наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была всё та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зелёные лианы, те же люди с чёрным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружьё и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда чёрным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова. А наутро рубили голову.
Я спрашиваю: чем белый человек отличается от чёрных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или «не убий» и тогда мы такие же разбойники, как Победоносцев и Трепов. Или «око за око и зуб за зуб». А если так, то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Или здесь скрытая трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что скажут: убийца, когда теперь говорят: герой. Но на что мне чужое мнение?
Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в её крови. А вот Ваня идёт убивать и, убив, будет счастлив и свят. Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Всё это слова… Нет,
Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И убей!
4 апреля.
Фёдор рассказывает:
– Было это дело на юге в N. Знаешь улицу, что низом от вокзала идёт? Ну, ещё часовой на горке стоит?… Взял я бомбу, – сам изготовил, – в платок увернул, наверх взобрался. Недалеко от часового стою, шагах этак в двадцати пяти. Дожидаю. Вот, гляжу: пыль пошла, казачишки едут. А за казачишками он, своею персоной, в коляске и офицер какой-то при нём. Поднял я руку, бомбу высоко держу. Он, как глянет, завидел меня, белый, как скатерть сделался. Я на него смотрю, он на меня. Тут я, Господи благослови: с размаху бомбу вниз. Слышу: взорвало. Ну, я бежать. Браунинг у меня был хороший, Ванин подарок. Обернулся: часовой меня на винтовку ловит. Стал я кружить, для затруднения, значит. Кружу, а сам из револьвера стреляю. Так, главнее для страху. Патроны все расстрелял, обойму переменил, дальше бегу. Глядь: из казармы солдаты бегут, пехота. На ходу в меня из винтовок палят. Им бы остановиться, да с места бы и стрельнуть. Наповал бы убили. Ну, перебежал это я поле, до домов добежал. Что такое? Из переулка матросы бегут. Ну, я раз-раз, раз-раз, обойму всю опять расстрелял. Уж и не знаю, убил ли кого. Бегу. В улицу завернул, – заводские с работы идут. Я к ним. Слышу: не трожь, ребята, пусть бежит. Я, – в толпу, револьвер – в карман, шляпу скинул, нашлёпку надел, пиджак скинул, в рубашке остался… Папироску тут закурил, завернулся со всеми. Иду. Будто тоже с завода, солдатам, значит, навстречу.
– Ну?
– Ну, ничего. Домой пришёл. Дома слышу: бомбой коляску взорвало, ему кишки разнесло, да двух казачишек убило.
– А скажи, – спрашиваю я его, – если мы генерал-губернатора убьём, ты будешь доволен?
– Барина если убьём?
– Ну да.
Он улыбается. Блестят крепкие, как молоко белые зубы.
– Чудак… Конечно доволен.
– Но ведь тебя, Фёдор, повесят.
Он говорит: