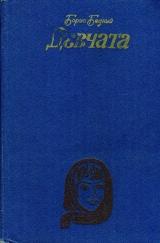
Текст книги "Девчата. Повесть и рассказы"
Автор книги: Борис Бедный
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
Узенькая тропка сплошь заросла травой и стлалась под ноги пружинистым ковром. Цепляясь за одежду, кусты брызгали холодными чистыми каплями. Пахло лежалым преющим листом. Сбоку что-то смутно забелело. Степан полюбопытствовал, шагнул в сторону и увидел молодую осину. Бедной незваной родственницей стояла она среди вечнозеленых южных деревьев – затерянная, одинокая; редкие неяркие листья забыто желтели на голых ветвях. Невеликий говорливый родничок у корней осины бормотал что-то свое, лесное, русское.
Степан напился воды из родничка, ласково похлопал рукой по гладкому прохладному стволу осины.
Его наново вдруг удивило, как нескладно все выходит. Вот и рады ему тут все, и никто его отсюда не гонит. И Маница не так уж противилась ему, и если б он настоял, так все у них и сладилось бы – хотя и не совсем так, как оба они надеялись. И на работу его охотно берут. Хорошо тут у теплого моря, лучше и не бывает, – а все вроде нету ему здесь места.
И как там ни крути, а выходит, будто обманывает он здесь сам себя. И хоть не по злому умыслу, как пройдоха туляк, а по неведенью, но тоже искал он тут, на благодатном этом берегу, окольную тропку в жизни – в обход нелегкой своей судьбы.
Без прежней боли, вся целиком встала вдруг перед Степаном родная Ольховка – такой, как увидел он ее в последний раз: с братской могилой в овраге и бабами-плотниками вокруг первого венца бревен, с прыткими мышастыми конятами неугомонного Савелия Иванова и белобрысой девочкой со строгими неумолимыми глазами.
Хватит ему без толку испытывать свою судьбу и воевать здесь с самим собой. Так и вся сила его перегорит впустую. И ему самому не с руки такая жизнь, да и время сейчас не такое.
Степан медленно, с наслаждением разорвал на мелкие клочья листки, взятые в конторе, словно одни лишь они и держали его здесь, бросил клочки в родник. Глубинная кипенная струя подхватила кусочки бумаги, закружила их и понесла по заросшему папоротником косогору. Степан проводил глазами последний клочок бумаги. На полоску моря, осколком зеркала блеснувшую в лесной просеке, он глянул уже как бы из окна вагона – безучастным взором пассажира. «Если выехать на этой неделе, к Новому году можно поспеть в Ольховку…»
Со стороны станции раздался долгий, широко разнесенный горным эхом гудок паровоза – призывный и требовательный.
СЫН
1
В конце лета вернулся с войны Баранов, сосед Натальи Петровны. К соседям теперь часто приходили гости, и жена Баранова, сразу помолодевшая, с шальными от радости глазами, забегала к Наталье Петровне за стульями и стаканами.
Через неделю явился слесарь, у которого до войны Наталья Петровна всегда чинила примус. А там и пошло: сегодня один знакомый приехал, завтра – другой. Тесней сделалось на городских улицах, на каждом шагу стали попадаться демобилизованные. Тонко и серебристо звенели медали, жарко горели ордена на солнце.
Возвращались и такие, кого давно уже похоронили и никто больше не ждал. И воспрянула духом Наталья Петровна.
Каждый вечер доставала она извещение о гибели Мити, потертое на сгибе, зачитанное. И хотя наизусть знала, что там написано, но все смотрела, до ряби в глазах вглядывалась в скупые безжалостные строчки, – не увидит ли чего нового. Но все было по-старому: погиб и похоронен в деревне с трудным нерусским названием. Умом понимала Наталья Петровна, что надеяться на возвращение сына нельзя, но робкая подспудная надежда, то совсем затухая, то разгораясь с новой силой, неистребимо жила в ней.
Ведь бывают же ошибки? Со всех сторон слышала Наталья Петровна о таких ошибках. И только с Митей почему-то никаких ошибок не выходило.
Вещи сына терпеливо ждали хозяина на старых, обжитых местах. Как ни трудно порой в войну приходилось Наталье Петровне, но ничего из Митиных вещей не вынесла она на толкучку. Ей казалось: продать самую малую его вещицу – все равно что похоронить Митю; и тогда нельзя уже будет надеяться, что он когда-нибудь вернется.
И стояли на этажерке Митины книжки, умно поблескивая незапыленными корешками; ровными кипами лежало в ящике комода белье, старательно выглаженное, сполна снабженное пуговицами; с наглухо ввинченным значком «Ворошиловский стрелок» висел в шкафу пиджак, распятый на держателе, – без единой пылинки, хоть сейчас надевай.
Время от времени пересматривала Наталья Петровна всю одежду сына, проветривала, пересыпала нафталином, и не было у нее по дому работы слаще этой. Подолгу сиживала с новой рубахой, сшитой ею перед самой войной. Рубашка была синяя, сатиновая, с белыми веселыми пуговками на вороте. Только один разок и успел надеть ее Митя. Бессильные старческие слезы ползли по щекам, капали на колени. И там, где слезы падали на рубашку, синий сатин темнел, становился черным.
2
Просыпалась Наталья Петровна рано, еще до света. Долго лежала в темноте с открытыми глазами. Как только начинало светать – вставала. Отогнув скатерть с краешка большого обеденного стола, одиноко завтракала и шла на работу.
С ведром и веником обходила школьные классы, еще по-ночному молчаливые, неуютные. Подметала пол, выравнивала парты, начисто мыла классные доски. Молодая уборщица вечерней смены совсем обленилась, знала: чуть свет придет старуха, все сделает за нее. После уборки Наталья Петровна разносила по классам мел и влажные, чистые тряпки. Затем присаживалась отдохнуть на свое обычное место возле тумбочки, под часами.
Сначала изредка, а потом все чаще и чаще взвизгивала тугая входная дверь, привычным шумом потревоженного улья начинала гудеть школа. Первыми всегда являлись ученики, живущие далеко от школы, а из них раньше всех изо дня в день прибегал долговязый вихрастый подросток Захарка. Откуда-то из-под Витебска переехала в этот город его семья. Три учебных года потерял Захарка из-за войны и теперь сильно робел среди бойких, насмешливых одноклассников. Осторожно ступая громкими немецкими башмаками на деревянной подошве, Захарка боязливо здоровался с Натальей Петровной, поскорей шмыгал в свой класс и сразу садился за книгу.
Из учителей раньше других постоянно приходили математик Владимир Семенович – Знаменатель и седая близорукая химичка Вера Саввишна – Молекула, видно, не спалось старым. Наталья Петровна в точности знала, как школьники называют каждого преподавателя, и, думая об учителях, именовала их обычно ученическими прозвищами.
Среди шума и беготни Наталья Петровна затерянно сидела на своей табуретке и все посматривала на скрипучую входную дверь – ждала, когда придет Ольга Михайловна, для нее – просто Оля. В школе та появилась уже во время войны, и сразу, как только увидела ее Наталья Петровна, будто в сердце ее кто толкнул: «Вот такую бы жену Мите!»
Была Оля высокая, с русыми легкими волосами, веселая без хохотка, приветливая. Как придирчиво ни присматривалась к ней Наталья Петровна, ничего плохого не выискала. Ученики Олю полюбили, и даже самые хулиганистые как-то терялись перед ней. Прозвища ей никакого не дали.
И запала Наталье Петровне тайная мысль – познакомить Олю с сыном, когда кончится война и Митя вернется домой. Верилось: они обязательно полюбят друг друга, просто невозможно, чтобы не полюбили. В мечтах уже видела она, как ходит веселая голубоглазая Оля по их квартире, хозяйничает на кухне.
Однажды, встретив Олю в воскресный день на улице, Наталья Петровна затащила ее к себе, угостила чаем. Светлей и праздничней показалась Наталье Петровне собственная квартира, когда сидела она за столом вместе с Олей. Блюдце с чаем Оля держала как-то по-детски, смешно оттопырив мизинец. Тихонько посмеиваясь, Наталья Петровна глядела на непослушный молодой мизинец, и так безмятежно-спокойно было у нее на душе, будто Митя уже вернулся с войны, переодевается в соседней комнате и сейчас выйдет к столу.
– И что это вам так смешно? – все допытывалась Оля, но Наталья Петровна только ласково смотрела на нее и подвигала поближе нехитрое свое угощение.
Как бы случайно она показала Оле лучшую карточку сына, ту, где Митя снимался при выпуске из техникума.
– Ваш сын? – переспросила Оля. – Симпатичный!
Радовалось сердце Натальи Петровны.
В то же воскресенье, после чаепития, отписала она Мите, что подыскала ему хорошую девушку, пусть он там поскорей кончает войну и возвращается под родную крышу. Митя ответил шутливо: просил передать невесте привет. Письмо это оказалось последним, и невинная шутка сына неожиданно обернулась горьким посмертным завещанием.
Потянулись для Натальи Петровны унылые, пустые дни. Пыталась трудом заполнить их, да всего работы у школьной уборщицы – подготовить к занятиям классы и день-деньской сидеть под часами, караулить время.
Размеренные и неторопливые, безучастные ко всему на свете, устало тикали старые часы над головой Натальи Петровны. Какое-то странное утешение находила она в их строгом механическом постоянстве. И думалось здесь, на табурете, под скупое точное тиканье часов легче и безбольней, чем где-либо в другом месте.
На исходе войны часы стали да так и не пошли, как ни бился над ними приглашенный в школу опытный часовщик, видно, отслужили свое, сполна отработали. На место солидных стенных часов повесили звонкоголосые легкомысленные ходики. Суетливое щелканье ходиков врывалось в медлительные думы Натальи Петровны, мешало ей. Долго не могла она привыкнуть к новым часам, а потом сжилась и с ними, приучилась, не обрывая, тянуть узловатую невеселую нить воспоминаний под беспечное щебетанье ходиков.
На одной Оле глазами и душой отдыхала Наталья Петровна, дочкой про себя называла молодую учительницу. Иногда казалось Наталье Петровне, будто и Оля догадывается о несбывшейся ее мечте и тоже жалеет, что не довелось им породниться.
3
Возвращались домой по-разному. Глубокой осенью вернулся из плена Митин дружок Никита Ковалев. В первую военную зиму пришла на Никиту похоронная, четыре года лила слезы старая Ковалиха, а теперь вот нежданно-негаданно выпало ей счастье обнимать живого сына – худючего, желтого, будто и кровинки единой в нем не осталось, – но живого, живого!
Наталья Петровна сбегала к Ковалевым, расспросила Никиту, не встречал ли тот где Митю в лагерях и душегубках. Нет, не встречал.
Хрипя отбитыми легкими, Никита рассказывал о своем житье-бытье в неволе. Он даже смеялся, припоминая, как ловко они там воровали турнепс у хитрого и жадного бауэра. Забывшись, Никита нет-нет да и оглядывался через плечо – по привычке искал постового, что все эти годы по пятам ходил за ним на чужбине, стерег его и подгонял на работе. Глаза у Никиты были какие-то смутные, в них все перемешалось: и застарелая боль-тоска, и радость, что дома он, у матери, – а на самом донышке вроде бы обида на судьбу затаилась – за то, что по своей ли, чужой ли вине так неудачно он воевал.
Наталье Петровне почудилось: Никита изо всех сил старался и все никак не мог до конца поверить, что плен у него позади и теперь вольно ходит он по родной земле. С другими он избегал откровенничать, а с Митиной матерью говорил долго и терпеливо отвечал на все ее расспросы, словно ни в чем не мог ей отказать.
Похоже, он чувствовал себя перед ней в неоплатном долгу. И вроде бы ждал он ее уже давно, ждал и боялся. Будто после всех казенных проверок, что перенес он, наступила для Никиты самая тяжкая – глаза Натальи Петровны. Он вот живой и худо-плохо дома сидит, а ее Митя, с которым пацанами гоняли они футбол на ближнем пустыре, по всему видать, сложил свою голову. Выходит, за него и сложил. Может, потому дружок его и погиб, что Никита угодил в плен и вместо того, чтобы фашистов убивать, воровал там свой турнепс. А тот фашист, которого он упустил на своем участке фронта, дотянулся потом до Мити.
И оттого, что Наталья Петровна ни в чем его не обвиняла, Никите было не только не легче, а еще тяжелей…
Пока они так говорили, старая Ковалиха готовила обед и совала сыну то один кусок, то другой. Она топталась возле плиты как-то боком, вполоборота к своему Никите. Ей просто не с руки было так стоять, и сперва Наталья Петровна решила, что Ковалиху продул сквозняк и ей трудно поворачиваться. А потом она догадалась вдруг, что сквозняк тут совсем ни при чем: просто никак не может наглядеться старая Ковалиха на своего сына. Даже выходя по делам в сенцы, она пошире распахивала дверь, чтобы и оттуда смотреть на желтого своего Никиту, точно боялась, что сгинет он без следа, если она хоть на секунду малую повернется к нему спиной.
На миг перехватила Наталья Петровна взгляд Ковалихи на сына и сразу же отпрянула, будто обожглась: ей больно вдруг стало смотреть, как любуется другая мать своим сыном и гладит его глазами.
И впервые в жизни позавидовала Наталья Петровна чужому счастью. Сама знала: нехорошо это – завидовать, но ничего не могла с собой поделать. Уж очень ей самой захотелось вот так же топтаться возле своего Мити, кормить его, гладить глазами. И такому вот, как Никита, была бы рада. Пусть без орденов, пусть больной, лишь бы живой был. Выходила бы его, на руках снесла бы к доктору, как когда-то маленьким Митю носила, когда болел он коклюшем, – вымолила бы у суровой медицины здоровье для своего сына.
Напоследок Никита сказал:
– Может, еще вернется ваш Дмитрий. Там много еще нашего брата.
– Дай-то бог… – только и ответила Наталья Петровна и заспешила прочь от Ковалевых, чтобы не растравлять свою душу неподвластной ей завистью к чужому счастью и людям радость не портить.
4
Осенью новые педагоги появились в школе, и среди них физик Сергей Иванович. Запомнился он Наталье Петровне с того дня, как подошел к ней на перемене – строгий, в шинели, и спросил:
– Вы здесь уборщицей работаете?
– Да, я… – отозвалась Наталья Петровна, приподнимаясь со своей табуретки и предчувствуя недоброе.
Физик протянул ей серый твердый кусок мела.
– Получше мела разве нет? Этот только доску царапает.
– Нету сейчас… – сказала Наталья Петровна тихо и виновато, будто по ее недосмотру снабжают школу таким паршивым мелом.
– Ну, на нет и суда нет! – вывел заключение Сергей Иванович и отошел от тумбочки.
Ничего больше не было сказано, и ни в чем Сергей Иванович ее не упрекнул, но Наталье Петровне показалось, что новый физик настроился против нее. Она стала присматриваться к Сергею Ивановичу, прислушиваться, что говорят о нем ученики. Прозвище ему дали необидное, скорей даже почтительное – Танкист. Да и так видно было, строгий Сергей Иванович взял учеников в руки: по звонку на его урок они сразу бежали в класс, а не бродили по коридору, как у доброй и слабохарактерной Молекулы.
Как-то раз в начале зимы, направляясь на урок, Сергей Иванович вышел из учительской вместе с Олей. Невдалеке от тумбочки Натальи Петровны, возле своего класса, Оля остановилась, взялась за ручку двери. Но дверь сразу не открыла: ждала, когда кончит говорить Сергей Иванович. И хотя со своей тумбочки хорошо слышала Наталья Петровна, что говорил физик только деловое, о сегодняшнем заседании педсовета, и сразу же после его слов Оля вошла в класс, – все же что-то недоброе шевельнулось в ее сердце, новой щемящей болью отозвалось там.
Осуждающими, ревнивыми глазами следила она теперь за Олей. И не скрылось от нее, что иначе стала причесываться молодая учительница. Новая прическа была ей к лицу, но не радовалась Наталья Петровна, обиженно думала: «Для Танкиста старается!»
А когда недели через две в школу завезли хороший мел, Наталья Петровна с каким-то мстительным чувством выбрала самый лучший кусок и отнесла в кабинет физики. На первой же перемене, проходя мимо Натальи Петровны, Сергей Иванович сказал:
– А вот сегодня мел гвардейский! – и улыбнулся.
И с непонятным страхом увидела Наталья Петровна, что зубы у него белые и ровные, один к одному, а глаза молодые, озорные, совсем мальчишеские.
5
Трудней всего Наталье Петровне было жить по воскресеньям и праздникам. Без привычной работы в школе как-то сразу вытягивался день, пустой и томительный, будто и часы в нем удваивались. Утром, надев лучшее свое платье, подарок Мити на первый его заработок, шла она в церковь. Пожалуй, не так к богу на поклон ходила Наталья Петровна, как для того, чтобы разменять долгий праздный день, хоть чем-то с утра заполнить его.
Вообще-то с богом у Натальи Петровны отношения были довольно сложные, а верней, запутанные. Когда-то верила она слепо, не рассуждая, хотя шибко богомольной и тогда не была: всегда находились дома какие-то неотложные дела по хозяйству и оттирали ее от бога. Постилась она кое-как, на скорую руку, а в церковь ходила только по большим праздникам – на рождество и пасху.
А теперь вот и по воскресеньям стала ходить…
Поп был дряхлый, сильно шепелявил, и понять его было трудно: и слышно, что божественное говорит, а что именно, не разберешь. Наталья Петровна стояла смирно, крестилась, когда все вокруг крестились, а сама думала о своем. Как всегда, мысли ее тянулись к Мите. А так как сейчас она была в церкви и все вокруг было пропитано богом, то и Наталья Петровна, не выбирая, а лишь невольно подчиняясь обстановке, начинала думать о Мите и боге – о том, что в ее жизни было связано с ними обоими.
Чаще всего всплывало в ее памяти то далекое время, когда Митя учился еще в семилетке, вступил в Союз воинствующих безбожников и со всем пылом свежеиспеченного атеиста ополчился против бога. С книжкой в руке доказывал он матери, что никакого бога нет и никогда не было, а все люди произошли своим путем, от обезьян. И даже картинки в книжке своей безбожной показывал, как именно произошли – постепенно, со ступеньки на ступеньку: сначала хвост потеряли, потом встали с четверенек на ноги, затем взяли в руки палку и пошли все вперед и вперед, пока не добрели до Натальи Петровны с Митей. Интересные были картинки.
Наталья Петровна слушала Митю и радовалась, что сын у нее растет такой ученый, все про обезьян знает. Она и картинки смотрела и даже верила всему, что Митя ей говорил. Вот только ей все время чудилось, что все эти волосатые обезьяны и вся Митина книжная премудрость сами по себе, а ее бог сам по себе и друг к дружке они никакого отношения не имеют. В голове Натальи Петровны они просто как-то не встречались, а так и сидели по своим углам, как бы жили на разных улицах или даже в разных городах.
И Митя со всеми своими обезьянами так ничего и не добился. Наталья Петровна даже посильней прежнего затвердела тогда в своей вере в бога, ибо вера эта стала у них в доме как бы гонимой, а давно известно: запретный плод особенно сладок. Митя злился на мать, называл ее несознательной женщиной, а она ухитрялась и в бога верить и сына-безбожника любить. И одно ничуть не мешало другому…
Наталья Петровна вдруг спохватывалась, что впадает в грех, думая в святом храме про обезьян, испуганно крестилась и поглядывала на иконы: как там они, ничего не заметили? Никола-угодник грозно смотрел на Наталью Петровну и сильно смахивал на сердитого Знаменателя, распекающего нерадивого ученика. Ничего хорошего для себя от этого громовержца Наталья Петровна не ждала и поспешно переводила глаза на богородицу. Ей она верила больше: Наталье Петровне казалось, что та – как женщина и мать, потерявшая сына, – поймет ее лучше, чем бездетный Никола-угодник, и скорей простит ей мерзких обезьян.
Богородица печально глядела поверх головы Натальи Петровны. По всему видать, ей и своих забот хватало, и не только до горемычных обезьян, но и до самой Натальи Петровны руки у нее просто не доходили. Это лишний раз подтверждало новые мысли о боге, к которым недавно пришла Наталья Петровна, она успокаивалась и опять тянулась душой к Мите. Теперь, вернись сын домой, она и от обезьян готова была вести свой род, да вот Митя никак не возвращался…
Впервые пошатнулась ее вера в бога во время войны. Еще Митя живой был и письма треугольные от него почтальон приносил. Стояла раз ранней весной Наталья Петровна в очереди за хлебом, было не так уж и холодно, но дождик въедливый моросил, до костей пронимал. И случилось так, как часто в те годы случалось: хлеб весь разобрали, а новый еще не подвезли, и когда привезут, неизвестно. Половина очереди разбрелась, а наиболее терпеливые и голодные остались. И Наталья Петровна осталась: уж близко от магазинной двери, обитой жестью, она стояла, и жалко ей было терять такое выстоянное, почти уж хлебное место.
Стояла она так, стояла, стараясь не пошевелиться, чтобы не разбавлять угретую телом воду свежей дождевой, да возьми и подумай: а зачем все это? Зачем это богу: чтобы она тут стояла и под дождем мокла, какой в этом высший смысл? Да и вся война зачем: со всеми ее смертями, калеками, сиротами, разлуками, пожарами, болезнями, голодом и холодом? Зачем? Какая богу от этого радость? Ведь если б он захотел, так ничего бы этого не было. Так чего же он медлит, чего тянет там у себя на небе?
Тогда Наталье Петровне не удалось додумать до конца: приехала хлеборазвозка, началось столпотворение, и Наталью Петровну чуть не вытолкали из очереди вместе со всеми ее мыслями о боге.
А когда вскоре пришла похоронная на Митю, и совсем уж невмоготу стало ей верить в бога. Вся прежняя ее вера как-то разом перегорела. Главное, чего никак не могла понять Наталья Петровна: зачем Митина гибель богу? Зачем? Ведь если бог добрый и всесильный, как о нем говорят, то ему ничего не стоит сделать так, чтобы Митя был жив. Ну что ему стоит? И тогда она верила бы в него непоколебимо до самой своей смерти.
Понаторевшие в религии люди, к которым обращалась со своим недоумением Наталья Петровна, сказали, что ее на старости лет обуяла гордыня: не нам судить, почему бог делает так, а не этак. А война, говорили они, испытание, ниспосланное людям за тяжкие их грехи, в том числе и за грехи самой Натальи Петровны.
Ну уж этого она и совсем не понимала. Зачем людей испытывать? Это в школе экзамены делают при переходе из класса в класс, чтобы узнать, научились ли чему школяры или каша у них в головах. А людей зачем экзаменовать? Разве бог и так не видит, какие они и чего каждый стоит? Ведь тогда, выходит, бог и ее испытывает Митиной смертью? А это еще зачем? И так ведь известно, какая она, – вся на виду, без утайки. А если уж такая она великая грешница, так пусть тогда бог ее одну и покарает, а Митю зачем убивать?
И выходит, не испытанье это, а одно лишь напрасное мучение. А такого бога, который людей не любит и понапрасну их мучит, Наталье Петровне и вовсе не надо было: что ей с таким жестокосердным богом делать? Любить такого бога она не могла, а бояться – так люди и без бога много чего навыдумывали, чтобы бояться. Уж пусть тогда лучше никакого бога не будет, одни лишь голые небеса, воздух один или что там, по науке, над нашими головами синеет?
Злого бога, без нужды испытывающего людей, Наталья Петровна принять никак не могла, а совсем без веры жить ей было непривычно, и постепенно выдумала она себе другого бога. Бог Натальи Петровны был добрый, и войны не хотел, и Митю не убивал, и никого не испытывал. Он хотел всем одного лишь добра, но от старости и непосильной тяжести своей задачи совсем запутался, и получалось у него не то, чего он добивался. Это все равно как на уроках у доброй и растяпистой Молекулы: чем сильней хочет она, чтобы ученики сидели тихо, тем больше гвалта у нее в классе и ребята прямо-таки сатанеют от возможности безнаказанно похулиганить.
Раньше, когда людей на земле было меньше, да и сам бог был помоложе, он еще кое-как справлялся с нелегкой своей задачей. А теперь люди расплодились, наизобретали так много разных машин, пушек, танков и самолетов, что старый бог никак уже не мог справиться со всей этой оравой.
В общем, бог Натальи Петровны создал мир, запустил его, а теперь и сам не может дать ладу непутевому своему творению. Да и помощники его – ангелы с архангелами, – по всему видать, полной правды ему не говорят. А так – бог Натальи Петровны был хороший и добрый, хотя и мало проку выходило людям от его доброты.
Бог жалел ее, а Наталья Петровна его пожалела, доброго и неумелого. Пожалела и признала, так они и расквитались друг с дружкой. Помощи от него она уже не ждала, а в церковь все-таки ходила. Тут и привычка многолетняя сказывалась, да и не хотелось ей огорчать старого бога своим отступничеством: по себе знала, как это плохо, когда остаешься в мире совсем один.
Зима стояла снежная и вьюжная. По утрам совсем заметало дорогу, и Захарка из дому выходил теперь еще раньше. Сунув книжки за пазуху и сжав руки в кулаки, чтобы меньше мерзли, Захарка упрямо шагал через сугробы. Мучили немецкие башмаки: снег, как магнитом, притягивало к деревянным подошвам. Приходилось часто останавливаться и сбивать с башмаков крутые наросты.
Каждый день Захарка боялся опоздать и в школу прибегал запыхавшись. Убедившись, что до начала занятий еще далеко, он долго и старательно вытряхивал на крыльце снег из шапки и кацавейки, начисто обметал проклятые башмаки.
Дальше предстояло самое неприятное: пройти по длинному гулкому коридору в свой класс мимо суровой уборщицы. Захарка робел перед Натальей Петровной, считая, что она презирает его за каждодневные ранние приходы и неуклюжую шумную обувь.
Однажды Наталья Петровна заглянула в класс, куда только что вошел Захарка. Тот сидел над распахнутой толстой книгой и ожесточенно дул на озябшие, красные, как морковка, пальцы.
– Иди к печке погрейся, читатель! – пригласила Наталья Петровна. – Далеко ходить в школу-то? – поинтересовалась она, когда Захарка уселся в коридоре перед раскрытой печной дверкой.
– Далеко, – признался Захарка, – из железнодорожного поселка.
– Ничего, – утешила Наталья Петровна ученика, – Говорят, на будущий год госпиталь освободит железнодорожную школу.
– Все равно я в эту школу буду ходить! – заупрямился Захарка. – Мне здесь нравится, учителя тут хорошие: Ольга Михайловна, Тан… Сергей Иванович и другие…
Наталья Петровна обозлилась на Захарку за то, что он так запросто соединил несмышленым своим языком Олю с Танкистом. Но Захаркина верность школе, в которой она проработала без малого двадцать лет, располагала в его пользу, и Наталья Петровна пристальней всмотрелась в ученика, чтобы оценить его по справедливости.
И хотя ей пришлось по душе, что грелся парень умело – сразу рук в печку не совал, знал, что могли зайтись с пару, хотя давно уже заприметила она, что на переменках вел себя Захарка степенно – не гонял ветра по коридору, как другие ученики, – но тем не менее Наталье Петровне он все же не приглянулся: больно уж был рыжий да конопатый. Она невольно сравнила его с Митей и забраковала Захарку целиком, с головы до пят.
– Учителей много, – осуждающе сказала Наталья Петровна. – Они тоже разные бывают, учителя: и хорошие и… всякие!
На следующее утро Захарка, расхрабрившись, сам подсел к огню, а потом это вошло у него в привычку. Отогревшись, он раскрывал книгу и под шипенье сырых дров, в неровном мигающем свете пламени отправлялся в заманчивые путешествия. Иногда по просьбе Натальи Петровны он читал вслух. Молодой упрямый голос его воскрешал в памяти Натальи Петровны другой голос, другие чтения: школьником Митя часто читал матери своего любимого Джека Лондона. И теперь, слушая Захарку, Наталья Петровна закрывала глаза, чтобы не разбивать впечатления, подальше уйти от Захаркиных жестких и рыжих волос.
Когда читать было нечего, Захарка рассказывал о жизни в Белоруссии при немцах. О пожарах и трупах он говорил так привычно спокойно и просто, как будто совсем не понимал всего ужаса пережитого. И это в его рассказах было для Натальи Петровны самым страшным.
7
В годовщину Красной Армии в школе был торжественный вечер. Учитель истории сказал о том, какой путь прошла наша армия, как нелегко далась нам победа и что народ наш никогда не позабудет погибших. Хорошо говорил историк, без бумажки. А ученики в зале, рядом с Натальей Петровной, слушали невнимательно, шушукались, ждали концерта. Было известно, что в концерте, помимо школьной самодеятельности, выступит цыганский хор, каким-то чудом залетевший в эти края, и послушать цыган набилось много народу.
После доклада старшеклассники читали стихи и пели песни – про войну и победу. Ребята старались, и самые шаловливые из них как-то подтянулись и выглядели со сцены примерными учениками.
А потом высыпали пестрые цыганки с монистами.
Пенье их Наталья Петровна еще кое-как выдержала, а когда цыганки пустились в пляс и затрясли широченными своими юбками, она встала и потихоньку вышла…
В начале марта к Наталье Петровне пристал на переменке кудрявый семиклассник, школьный поэт и корреспондент. Он расспрашивал ее о том, как она живет и работает, и что-то записывал огрызком карандаша в узенький блокнотик с загнутыми, обшмыганными уголками.
А к Восьмому марта вышел свежий номер стенгазеты, и там была заметка о Наталье Петровне. В заметке говорилось, как честно и добросовестно она работает. И в самом конце было приписано, что ученики должны уважать труд уборщиц: вытирать ноги на крыльце, не сорить на пол и не крошить мел.
Целую неделю во время уроков Наталья Петровна осторожно подходила к газете и, предварительно осмотревшись вокруг, не наблюдает ли кто за ней, разыскивала в верхнем правом углу знакомую статью. И каждый раз, перечитывая, на минуту забывала, что это о ней статья, так гладко все было написано.
Потом газету сняли и повесили новую. В верхнем правом углу теперь уже красовался ребус. А в школе все осталось по-прежнему: ученики в грязных ботинках так же вихрем носились на переменах по коридору, сдвигали парты, в порошок толкли мел и куда-то запрятывали тряпки.
Новый школьный завхоз – бывший старшина пулеметной роты, человек бережливый и хозяйственный – довел до сведения Натальи Петровны, что все лимиты тряпичного материала на этот учебный год уже исчерпаны, и рекомендовал проявить военную находчивость. Что такое лимит и военная находчивость, Наталья Петровна не знала, но выход все же нашла: распорола свой собственный мешок из-под картошки и накроила из него тряпок.
И все остались довольны.
8
Как-то посреди урока Сергей Иванович, у которого было «окно» в занятиях, остановился возле Натальи Петровны и сказал робковато, будто просил о немалом одолжении:
– Можно около вас посидеть, а то скучно одному в учительской.
Наталья Петровна пожала плечами, как бы говоря: «Не в моей власти запретить тебе сидеть там, где вздумается, так стоит ли спрашивать?» Физик поколебался немного и сел по другую сторону тумбочки, поближе к Олиному классу.
Из глубины коридора доносился голос Знаменателя – разъяснял квадрат суммы. Наталья Петровна давно уж заприметила: как только добирался старый математик до этого разлюбезного своего квадрата, враз голос наливался звонкой медью – видать, очень уж уважал он этот самый квадрат.








