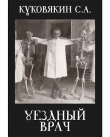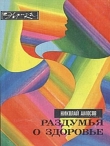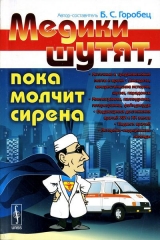
Текст книги "Медики шутят, пока молчит сирена"
Автор книги: Борис Горобец
Жанры:
Прочий юмор
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
Лечение сифилиса сальварсаном*
Пауль Эрлих усиленно занимался окрашиванием как форменных элементов крови, так и бактерий различными красителями. Он окрасил и выявил наличие различных белых кровяных телец (лейкоцитов), обнаружил среди них гранулоциты, имеющие зернистую, гранулированную протоплазму, и агранулоциты (моноциты, лимфоциты), таковой не имеющие. Эрлих установил роль костного мозга в образовании гранулоцитов и роль лимфоидной системы в образовании лимфоцитов. Он создал первую теорию кроветворения. Эрлих разработал также методы прижизненной окраски ряда видов тканей и клеток. С этой целью Эрлих ввел в кровь зараженного кролика химическое соединение, известное под названием метиленблау. Каково же было изумление ученого, когда он во время секции трупа животного убедился, что мозг и все нервы окрашены в голубой цвет, тогда как все другие ткани остались неокрашенными.
Чтобы объяснить это явление, Эрлих занялся изучением химии. Он стал искать такое вещество, которое входило бы в реакцию с бактериями, но не соединялось бы с тканями организма. Эрлих заражал мышей спирохетами, а потом применял различные красители, стремясь вылечить больных мышей. Он испытал свыше сотни красителей, но удовлетворительных результатов не получил. Тогда Эрлиху пришла идея попробовать соединения мышьяка. 606-й (!) по счету состав оказался действенным. Он был применен впервые 31 августа 1909 года к кроликам, зараженным спирохетой сифилиса. Уже на следующий день в крови подопытных кроликов нельзя было найти бактерий, а через месяц все животные выздоровели. Препарат этот получил название «606» или сальварсан, от латинского сальво —спасать, и арсен– мышьяк. Затем препарат был испробован на людях, оказалось, что он почти безвреден для организма, уничтожает спирохеты и не вызывает побочных явлений. Таким образом, сифилис, в борьбе с которым врачи были бессильны многие века, оказался излечимым. Однако лечение сальварсаном было очень трудным, потому что препарат нерастворим в воде и его нельзя вводить непосредственно в кровь. Отдавая себе отчет в несовершенстве лекарства, Эрлих продолжал поиски, пока, наконец, 914-й препарат, опробованный им на животных, оказался растворимым в воде и хорошо усваивался организмом. Поэтому его и стали применять повсеместно. Этот метод лечения получил название «химиотерапии». В 1908 году Эрлих получил Нобелевскую премию за научные достижения, еще до открытия сальварсана.
Глава 2
О подвигах врачей, прививавших себе холеру и чуму
Светя другим, сгораю.
Ван Тюльп,голландский врач
Самопрививка холеры
«Опыт был произведен 7 октября 1892 г. 73-летним мюнхенским профессором Максом Петтенкофером. Чтобы доказать правильность защищаемой им теории, он выпил на глазах у свидетелей культуру холерных вибрионов. Результат этого граничащего почти с самоуничтожением опыта был удивительным: Петтенкофер не заболел холерой…
В 1883 г. Робертом Кохом был открыт вибрион холеры, по форме напоминающий запятую. <…> 17 сентября Кох сообщил в Берлин из Александрии (Египет), что в содержимом кишечников 12 холерных больных и 10 умерших от холеры найден общий для этого заболевания микроб и выращена его культура. Изучив процесс холерной инфекции и значение снабжения питьевой водой для прекращения болезни, Кох вернулся на родину, где его ждала триумфальная встреча. Петтенкофер не отрицал, конечно, открытия Коха. Но он не верил в простую передачу инфекции. Он говорил: „Многие судят все больше по наблюдениям за холерной запятой в колбе, или же на стеклянной пластинке, или же в культурах, совершенно не заботясь о процессе эпидемиологического распространения“. <…> Наибольшее значение он придавал состоянию грунтовых вод. Кох не мог привести ни одного примера того, что открытый им микроб вызывает холеру у здорового животного, так как холера – болезнь людей, и опыты над животными подвели исследователя. Это было недостающим звеном в цепи доказательств. И тогда Петтенкофер решил сделать опыт на себе самом.
Опыт был проведен в большой тайне. Петтенкофер заказал в Берлинском институте здравоохранения культуру бацилл холеры, приготовленную на агаре. <…> В культуре находились мириады бацилл. „В одном кубическом сантиметре я, очевидно, принял миллиард этих микробов, во всяком случае намного больше, чем это бывает при прикосновении к губам немытыми пальцами“. Три дня спустя Петтенкофер заболел катаром кишок. <…> Но несмотря на это его самочувствие не ухудшилось, отсутствия аппетита не наблюдалось. Все это время Петтенкофер не принимал никаких лекарств. Конечно, он произвел бактериологические исследования фекалий. Анализ показал большое число холерных вибрионов. <…> Когда 14 октября кишечник успокоился и выделения вновь стали обычными, холерные микробы отмечались уже в незначительных количествах, а еще через два дня исчезли совсем. <…>
Кох предполагал позднее, что Петтенкоферу умышленно прислали старую ослабленную культуру, так как догадывались, что он собирается провести опыт на себе. Тем не менее это нисколько не уменьшает величия героического поступка Петтенкофера. <…> Он пережил свой героический эксперимент на несколько лет. В феврале 1901 г. Петтенкофер застрелился, преследуемый болезненным страхом перед грозящей дряхлостью».
Глязер. 1959. С. 6–17
Самопрививка чумы«Защититься от чумы гораздо труднее, чем от холеры. При эпидемии холеры – главное – это гигиена, и поскольку возбудители холеры вообще передаются лишь через выделения больного, то тщательного мытья рук и дезинфекции выделений достаточно, чтобы даже в холерной больнице предотвратить любое заражение врачей и медицинского персонала. Другое дело – чума. Чтобы исключить вдыхание микробов чумы, нужны хорошие маски, не говоря уже о прочих средствах защиты. <…> Поэтому так высока смертность при всех эпидемиях чумы. <…> Первые прививки на себе врачи ставили по образцу оспенных, применяя ослабленные бактерии коровьей оспы (см. выше историю с Дженнером). Первый опыт на себе поставил английский военный врач А. Уайт, находившийся в 1798 г. вместе с войском Наполеона в Александрии, где во время ее осады началась эпидемия чумы. Уайт извлек гной из бубонной железы больной женщины, болевшей бубонной чумой, и втер себе в левое бедро. Назавтра он сделал надрез на правом предплечье и внес гной туда. На 8-й день Уайт заболел чумой и вскоре умер.
В том же году военный врач французской восточной армии Рене Дженет повторил опыт Уайта. Он внес содержимое гнойного нарыва в трещинку на коже, но затем тщательно промыл ее водой с мылом. Болезни не наступило.
30 лет спустя французский врач А. Бюлар, служивший в Египте, так записал свой опыт с чумой:
„15 мая 1834 г. в 9 часов утра я снял с себя в зале госпиталя для больных чумой верхнюю одежду, рубашку и фланелевое нижнее белье и надел, не принимая никаких мер предосторожности и защитных средств, рубашку мужчины, заболевшего тяжелой формой чумы. Эта рубашка была вся в крови, так как больному пустили кровь. В присутствии большинства свидетелей этого опыта я оставался целый день, чтобы все могли убедиться, что я не принимаю никаких защитных средств. <…> Я ходил в этой рубашке 48 часов, не чувствуя ни обычных симптомов, ни чего-либо другого, что могло бы перейти на меня с этой одежды. Все же два дня спустя на среднем пальце левой руки показалась маленькая опухоль, напоминающая фурункул“. <…>
Бюлар, кстати, предлагал Французской комиссии по борьбе с чумой проводить опыты на приговоренных к смерти. <…> Для того чтобы добиться их согласия, им предоставлялась возможность помилования. По инициативе Бюлара пяти приговоренным к смерти была привита чума. Лишь один из них умер, но по документам трудно установить, действительно ли он скончался от чумной прививки. В Каире люди становились жертвами многих эпидемий. Четыре других преступника остались живы.
27-летний врач из Южной Франции Антуан Клот <…> продолжил опыт, начатый Бюларом, надев ту же самую рубашку. <…> Но пошел еще дальше. Клот взял некоторое количество бактериальной флоры с рубашки, испачканной кровью и гноем, и сделал прививки в левое предплечье, правую сторону паха, всего в 6 мест. Ранки были перевязаны повязками с кровью больного чумой. <…> Он надрезал себе кожу, нанес на это место гной из карбункула больного чумой и наложил повязку с кровью больного. Далее он облачился в одежду заболевшего чумой. А когда тот умер, лег в его неубранную постель. Так он сделал все, чтобы заразить себя, но это ему не удалось.
Стремление успокоить трепетавшее перед чумой население привело к посещению лично Наполеоном госпиталя для чумных больных в Яффе, занятом им древнем городе на побережье Средиземного моря. <…>
Австрийский врач Алоис Розенфельд хотел провести научный эксперимент, найдя защиту от чумы на тракте: полость рта – желудок – кишечник. <…> Снадобье состояло из высушенных лимфатических желез и костного порошка, приготовленных из останков умерших от чумы. Существовало убеждение, что если подобное снадобье достаточно выдержано и высушено, то при приеме внутрь действует подобно защитной прививке. <…> Однако Венский медицинский факультет отнесся к этому средству скептически и даже отклонил его. Тогда Розенфельд отправился в Константинополь в греческий госпиталь Пера, 10 декабря 1816 года он заперся там с двадцатью больными. Врач отказался от всяких мер предосторожности. Когда Розенфельд увидел, что общение с зачумленными не приносит ему вреда, он решил усложнить эксперимент. 27 декабря врач натер несколько раз себе кожу на бедре и на руках гноем, взятым из чумных нарывов. Долгое время никаких следов заболевания не наблюдалось. Срок в 6 недель, отведенный им в соответствии с представлениями того времени для проведения опыта, почти истек, и он уже думал покинуть госпиталь. Но внезапно Розенфельд заболел бубонной чумой со всеми известными симптомами и умер 21 января 1817 года.
В настоящее время установлено, что между заражением и вспышкой болезни проходит лишь несколько суток, редко неделя. Но ни пребывание среди зачумленных, ни даже втирание гноя не принесли вреда Розенфельду: в течение пяти недель чума оставляла его в покое. Но на шестую неделю схватила, решив положить конец этой ужасной игре».
Глязер. 1959. С. 6–17
И еще вот такой «смелый опыт»«Шаг вперед в культивировке гонококка был сделан доктором Эрнстом Вертгеймом, которому удалось получить чистую культуру на пластинках < в 1891 г.>. „Для верности доказательства того, – пишет Вертгейм, – что растущие на пластинках колонии, действительно, представляют собой колонии нейсерова гонококка, должно было сделать прививку на мочевой канал человека“. Вертгейм привил свои культуры четырем больным-паралитикам и одному идиоту, 32-летнему Ш. У идиота Ш. довольно сильное гноетечение замечалось еще по прошествии двух месяцев со времени прививки. Дальнейших опытов Вертгейм не делал „за недостатком в соответственном материале“».
Вересаев. 1985. С. 287
Глава 3
Медицинская революция химика Луи Пастера [19]19
Луи Пастер – величайший врач-бактериолог (1822–1895), он начинал как химик. Этот краткий очерк написан, опираясь на материалы кн.: [М. Энгельгардт, «Пастер». 2008] и [БСЭ-2. 1955. Т. 32].
[Закрыть]
О, Пастер! Пастер никогда не сделает
ничего путного, при всех своих дарованиях.
Он берется за неразрешимые вопросы!
Эм. Вердэ в кн.: [М. Энгельгардт… 2008.Эпиграф к Гл. II]
Пастер – химик-органик
По профессии Луи Пастер был химиком. Он решил немало важных научных и промышленных задач, касающихся механизмов и реакций брожения молочнокислого, уксусного, спиртового и подобных им процессов, тесно связанных с промышленностью пивоварения, виноделия, фабрикации уксуса. Наблюдательный ученый заметил и новые научные факты: например, брожение, вызываемое плесневым грибком в растворе, содержащем две стерео-симметричные кислоты, «правую» и «левую», уничтожает одну из них, а другую не трогает. В противоположность господствующему тогда воззрению немецкого химика Ю. Либиха на процесс спиртового брожения как на чисто химический, Пастер доказал, что это процесс биологический, идущий только в присутствии грибка (дрожжей).
Обнаружив и изучив заразные бактерии шелкопряда, уничтожавшие плантации юга Франции и Италии, Пастер спас эту отрасль страны и сохранил миллиарды франков для экономики страны. «До него мы знали неорганический, мертвый мир. Его законы исследовались многими учеными и мыслителями, среди которых особенным блеском окружено имя Ньютона. Мы знали мир животных и растений, тоже подвергавшийся тщательному изучению со стороны многих исследователей, среди которых ярче всех сияет имя Дарвина. Но оставался еще третий мир – мир существ, стоящих на рубеже между жизнью и смертью и служащих посредниками между живой и мертвой природой. Его мы не знали, он был одет мраком, в котором беспомощно блуждали ученые, пока Пастер не озарил его ярким светом. Его ум связал явления, происходящие в крынке с киснущим молоком или в бутылке с уксусом, с явлениями повальных болезней, гангрены, гниения трупов, <…> он сделал капитальное открытие, показав, что существуют две группы микробов: одни, аэробы,живут и развиваются при доступе воздуха, не могут обойтись без кислорода; другие, анаэробы».Этими открытиями Пастер преобразовал хирургию, гигиену, терапию, сделав для медицины больше, чем все медики от Гиппократа до наших дней.
В 1860 году появились наделавшие много шума исследования француза Ф. Пуше, который доказывал, что в разлагающемся веществе сами собой зарождаются микроскопические организмы: вибрионы, плесени, инфузории. Пастер же утверждал, что брожения, гниения, разложения нет, не бывает, не может быть никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, если нет микробов – возбудителей этих процессов. На это он потратил более тридцати лет непрерывной работы.
От процессов брожения и гниения, бактерий и грибков, поражающих растения и животных, Пастер перешел к бактериям, заражающим людей. Его высшими подвигами явилась разработка методов эффективного лечения двух страшнейших инфекционных заболеваний – сибирской язвы и бешенства. Пастер открыл методы вакцинации, предотвращающие эти смертельные заболевания.
* * *
Историческая справка:«В бюджете нет рубрики, которая разрешала бы мне выдать полторы тысячи франков на ваши опыты», – сказал однажды Пастеру министр народного просвещения. Это было сказано человеку, труды которого дали Франции миллиарды. Правда, министр не мог предвидеть этого. Миллиарды явились потом как результат отвлеченных, теоретических истин, открытых и доказанных Пастером.
Энгельгардт. 2008. Гл. IV
Ликвидация сибирской язвыВ 1879 г. Пастер обнаружил, что если предварительно ослабить культуру микробов куриной холеры, а затем ввести их курам, то они становятся невосприимчивыми к этой болезни. Это натолкнуло Пастера на разработку метода предохранительных прививок и в отношении других заразных болезней. 1881 год явился годом, когда Пастер победил таким путем сибирскую язву.
«Меленское сельскохозяйственное общество предложило ему устроить публичную проверку метода предохранительных прививок. Условились так. Общество предоставляет пятьдесят овец и десять коров. Двадцать пять овец и шесть коров получают предохранительную прививку по методу Пастера, остальные не получают; затем в назначенный день всем, привитым и непривитым, будет впрыснут смертельный яд, свежая культура бактерий сибирской язвы. Что из этого выйдет? Пастер объявил: 25 овец, получивших предохранительную прививку, останутся целы и невредимы; 25, не получивших прививки, погибнут; 6 коров с прививкой не заболеют; 4 – не привитые, если не издохнут, то во всяком случае заболеют сибирской язвой. Друзья Пастера всполошились: их напугала его смелость. – Как можно так рисковать? Ведь это не лабораторные опыты!»
– Мои лабораторные опыты – достаточная гарантия, – отвечал Пастер.
Сделали, как было условлено. Двадцать пять овец и шесть коров получили предохранительную прививку. Затем 31 мая, в присутствии толпы зрителей, всем шестидесяти животным был впрыснут смертельный яд сибирской язвы. Назначили день – 2 июня, – чтобы собраться снова и посмотреть, что выйдет. 2 июня в Пуйи ле Фор съехалась многочисленная публика. Тут были и хозяева, и ветеринары, и репортеры, и сенаторы, и друзья Пастера, и недруги, собравшиеся посмотреть, как оскандалится самоуверенный «химик», вообразивший себя реформатором медицины.
Что же оказалось? Из двадцати пяти овец, не получивших прививки, двадцать две уже погибли от сибирской язвы, две издыхали, одна была чуть жива и издохла к вечеру. Двадцать пять овец, получивших прививку, были здоровы и веселы. Четыре коровы, не получившие прививки, заболели сибирской язвой: у них образовались гнойные нарывы, температура поднялась, они отказывались от еды. Шесть коров, получивших прививку, не обнаруживали ни малейших признаков заражения. Предсказание Пастера сбылось. Вошедшая в практику медицины вакцинация по Пастеру спасла многие сотни тысяч, если не миллионы сельскохозяйственных животных.
Бешенство против тупоумияПоследний подвиг Пастера
С 1880 года Пастер принялся за изучение бешенства. К этому времени его лаборатория на улице Ульм превратилась в настоящий зверинец. «Повсюду в клетках виднеются животные, – и почти все корчатся в муках. Кролики издыхают от сибирской язвы или гнилокровия; куры сонные, вялые, как осенние мухи, изнемогают от холеры; раздается вой – ужасный, зловещий, полный невыразимой тоски, злобы, отчаяния, – вой, которого не забудет тот, кто раз услыхал его, – это собака, зараженная бешенством, неистовствует за железной решеткой. Все это жертвы, осужденные на заклание ради облегчения страданий человечества. Каждый день трупы относятся наверх для исследования».
Энгельгардт. 2008. Гл. IV
* * *
На долю Пастера досталось немало нападок со стороны «антививисекционистов» – сердобольных барынь и болтунов, не упускающих случая выразить свою гуманность, не принося никакой пользы человечеству.
Надо заметить, что слюна бешеных животных заражает ненаверняка. От укуса бешеных собак умирают 15–16 % укушенных, от укуса бешеных волков – около 80 %. После многих опытов Пастер убедился, что яд бешенства сосредоточивается в нервной системе, в головном и спинном мозгу. Мозг бешеного животного, разведенный в воде и впрыснутый здоровому, заражает его неизменно, наверняка, – Пастер убедился в этом на сотне опытов над кроликами и собаками. Так им было сделано первое открытие в проблеме бешенства – найден безусловно смертельный яд – нервное вещество бешеных животных.
Но после заражения болезнь проявляется не сразу. Проходит месяц-два, до полугода после укуса бешеной собаки, прежде чем обнаружатся первые признаки болезни. Такая продолжительность латентного периода болезни затрудняет работу экспериментатора. Но с другой стороны, она же предоставляет большое преимущество. Пастер искал предохранительную прививку от бешенства. Он нашел, во-первых, что смертельный яд бешенства (разведенный мозг), впрыснутый не под кожу, а в оболочку головного мозга, вызывает бешенство очень скоро, самое большее через 20 дней. Но можно еще ускорить действие яда, последовательно переводя заразу из организма в организм, т. е. прививая мозг бешеного кролика другому кролику и т. д. Переходя от кролика к кролику, яд усиливается; после ряда прививок он убивает уже через неделю, это предельно малый срок, максимум ядовитости.
Затем Пастер выработал способ ослабления яда. Он сохранял ядовитый мозг в сухой атмосфере. По мере высыхания ядовитость ослабевает. Получается целая шкала ядов: сильнейший (совершенно свежий мозг), убивающий через 7 дней; ряд более слабых, убивающих через 8, 9, 10 дней; и, наконец, совершенно безвредный, полученный после 12-дневного высушивания. Пастер сделал окончательный вывод: если привить собаке безвредный, 12-15-дневный мозг, на следующий день – 11-дневный, на следующий – 10-дневный и так далее до однодневного включительно, – она становится невосприимчивой к бешенству. <…>
Как пишет М. Энгельгардт, Пастер произвел опыты над сотней собак. Пятьдесят из них получили предохранительную прививку: им были последовательно впрыснуты разжиженные мозги, начиная от 15-дневного и кончая однодневным. Остальные пятьдесят не получили прививки. Затем всей сотне в один и тот же день был впрыснут сильнейший, безусловно, смертельный яд – совершенно свежий мозг. Из пятидесяти собак, получивших прививку, ни однане заболела; остальные пятьдесят все до единойвзбесились и издохли. А вскоре Пастеру удалось спасти первых людей, укушенных бешеными животными. Казалось бы, что наступил период всеобщего преклонения перед одним из величайших гениев человечества.
Между тем, в печати появилась масса вздорных статей против метода Пастера. Его, в частности, травили за смерть от бешенства одной девочки, Луизы Пеллеттье, которую доставили в клинику Пастера лишь через 37 дней после укуса животного и у которой, как и предупреждал Пастер, практически не было шансов выжить. Но журналисты этим не ограничивались; они доходили до гнусностей: посылали Пастеру ложные телеграммы с известием, что такой-то из его пациентов, вернувшись на родину, заболел бешенством… Можно себе представить, как действовали подобные известия на больного старика, изнуренного работой, истерзанного тревогой, сомнениями, зрелищем больных, искусанных, изуродованных страшными ранами! Самое удивительное, что в данном случае ведущими мотивами этой примерно двухлетней травли были не злоба, не зависть, и даже не страсть к сенсационным новостям, а банальное тупоумие. Главным же противником Пастера явился давнишний враг бактериологии вообще – некий доктор Петер. Основная формулировка Петера была проста и определенна: химик не может создать ничего путного в медицине. Пастер – химик, следовательно, труды Пастера, относящиеся к болезням, – вздор.
Упомянутый доктор Петер провозгласил: «Никогда не поверю, чтобы химик мог двигать вперед медицину; умру – и пусть на моей могиле напишут: Он воевал с химиками!».
Энгельгардт. 2008. Гл. X
* * *
В 1892 году праздновался 70-летний юбилей Пастера. Он получил множество почетных наград: ордена Св. Анны, Св. Саввы (Сербского), Св. Маврикия и Лазаря, Леопольда, Изабеллы Католической, Св. Иакова Португальского, массу приветственных телеграмм от глав государств и крупнейших ученых-современников. Французская Академия отчеканила специальную золотую медаль в честь Пастера. Но у великого ученого в это время развивался паралич. В конце 1894 года, почти уже умирающий, Пастер переселился в деревню Вильнев д’Этан, близ Гарша, где вскоре и скончался. Это случилось 27 сентября 1895 года.
Там же. Гл. XI
* * *
Комментарий Б. Г.
Вероятно, действительно великих ученых можно разделить на два типа: на тех, кто не берется за задачи, представляющиеся им неразрешимыми, и на тех, кто берется за таковые. Так, к первому типу относил себя сам великий физик Л. Ландау. Известно его высказывание: «Как вы можете решать задачу, если заранее не знаете ответа?» [Горобец. 2008. С. 205]; к такому же типу ученых принадлежало и подавляющее число блестящих учеников Ландау. Противоположностью этому типу был А. Эйнштейн, причем не только при создании общей теории относительности, но и в многолетних попытках построить единую теорию вещества и поля. Ландау и его адепты совершенно не верили в возможность последнего, о чем многократно высказывался сам Ландау. Но предвидение Эйнштейна оказалось правильным, сейчас в этом уже никто не сомневается. Из самых свежих примеров пастеровского/эйнштейновского типа ученых можно назвать математика Григория Перельмана (Россия), который в течение полутора десятков лет исследовал знаменитую у математиков «неразрешенную» гипотезу А. Пуанкаре, и недавно, наконец, ее исчерпывающе решил. Необычность менталитета гения состоит и в его поведении: Перельман наотрез отказался от премии Филдса в миллион долларов, предназначенной по уставу тому, кто это сделает.