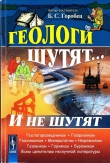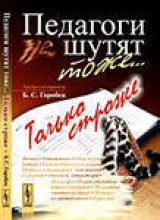
Текст книги "Педагоги шутят тоже... Только строже"
Автор книги: Борис Горобец
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
***
Это выражение я обозначу буквой «звездочка».
***
У нас такой зарок: за одну лекцию больше трех звездочек не вводить.
«
Для людей со здоровой психикой кажется, что эти свойства очевидны. Ничего подобного!
***
Вычислив производную, дифференциал мы получаем совершенно бесплатно.
***
Если Вы получили 5, это еще не значит, что Вы такой умный. Это значит, что я невнимательно проверял.
***
Идеальный лектор – это лектор, который одной рукой пишет, а другой стирает написанное.
***
Чей это шарфик, не Ваш? Ну, тогда я им доску вытру.
Пояснение составителя. По личному опыту: проблема тряпки встает постоянно. Есть три способа се решения: 1) Препод приносит каждый раз тряпку с собой. 2) Он ставит жесткое условие: в начале лекции доска должна быть чистой и рядом лежать тряпка, вымытая и отжатая. Почти всегда находятся добросовестные студенты, которые по начальное условие выполняют. 3) Случай экстремальный и очень редкий: доска грязная, а студенты сидят и ждут преподавателя. Тогда никаких «шарфиков»! Сухо объявляется тема лекции, идет ее изложение, а формулы пишутся сначала на чистых участках доски, а потом уже и на грязных, поверх написанного. Так продолжается обычно минут 5-10, но затем, как правило, кто-то из студентов просит разрешения выйти и поискать тряпку. Ну, ради бога! Правда, вспоминается один случай, когда обе стороны молчаливо уперлись, и формулы пришлось писать вторым и третьим слоем и в течение всей лекции. Педагогично ли это? Трудный вопрос.
Из других фольклорных источников [24]24
Еще несколько цитат из кн. С. Н. Федина (2010).
[Закрыть]
Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, плохо видно – нарисуем побольше.
***
Все это называется одним словом: устойчивость решений системы дифференциальных уравнений.
***
Возьмите график и крестиками поставьте галочки.
***
Давайте для простоты возьмем матрицу 7-го порядка…
***
Я завтра неожиданно дам вам контрольную.
***
– У нас все-таки научный журнал, а Ваша статья содержит одни рассуждения, хотелось бы увидеть какие-то формулы, графики, хотя бы цифры!
– Ну, страницы-то пронумерованы!
***
О числе «пи» [25]25
Почти все цитаты но кн.: [Жуков. 2011] (с минимальными дополнениями Б. Г.).
[Закрыть]
В 1897 г. в генеральную ассамблею американского штата Индиана по представлению Эдвина Дж. Гудмсна был внесен законопроект № 246, в котором повелевалось: «…признать, что де-юре число "пи" равно 4». В первом чтении этот законопроект был принят. Однако после второго чтения почувствовавшие подвох ликурги решили его…
– Нет, не отклонить, а отложить. В отложенном состоянии он находится и до сих пор.
(Цит. по кн.: [Жуков, 2011. С. 18])
На круглых дураков число π не распространяется
(В. Шендерович, цит. по кн.: [Жуков, 2011. С. 39])
Что было однажды,
Случится и дважды.
А, может, и трижды, А, может, и π-жды.
Формула π = C/d говорит о том, что число я пропорционально длине окружности и обратно пропорционально ее диаметру.
(Из ответов на экзамене, цит. по кн: [Жуков, 2011. С. 176])
Пистолет – юбилей известной константы.
Пижон – многоженец, у которого количество жен равно π.
Питон – более крупная разновидность тритона.
Пирог – волшебный зверь, приравненный к 3,14 единорогам.
Пиастры – осенние цветы с количеством лепестков от 3 до 4.
Упитанный – осведомленный о существовании числа π.
Эти упражнения в остроумии, заимствованные из цитируемой книги (Жуков. 2011. С. 199), могут быть продолжены читателями. Например, так:
Пистон – стон, три раза протяжный и один короткий.
Пикап – ускоренный счет капель лекарств тройками-четверками (например, при дозировке валокордина).
Спи спокойно, дорогой товарищ! – последнее напутствие члену клуба «Число π».
«Реальный случай в одном из вузов. Кто-то из студентов спросил профессора:
– π – это четное число или нечетное?
Лектор, не задумываясь, ответил:
– Конечно, четное, π – это же 180 градусов».
(Цит. по кн.: [Федин и др, 2010. С. 25]; говорят, эта шутка принадлежит профессору НГУ Д. А. Больботу)
Две шутки о числе «Пи» от автора-составителя
(1) Следующая шутка бытовала во времена моего студенчества и вряд ли вызовет отклик у нынешнего поколения. Тем не менее, отдавая дань ностальгии тем временам и сообщая о стабильных ценах, державшихся помногу лет на алкогольные напитки, я приведу эту шутку целиком (уходящее поколение, надеюсь, «вздохнет украдкой»).
Двое студентов, второкурсник и первокурсник, ведут диалог о крепких спиртных напитках.
1-й: 2,12 – это что такое?
2-й: Перцовка.
1-й: А 2,62?
2-й: «Кубанская», конечно.
1-й: Ну, 2,87, это ты и так знаешь…
2-й: Ясное дело: «Московская особая».
1-й: 3.07?
2-й: «Столичная».
1-й: 3,12?
2-й: «Старка».
1-й: 3,14?
2-й (мучительно соображает, потом неуверенно): Может, какая-нибудь импортная?
1-й (торжествующе): Дурак ты! Это число «Пи». А еще математик…
(2) Когда я учился на физфаке МГУ, то прочел в одном из номеров нашей стенгазеты следующую рекомендацию общего характера. Если вы хотите получить хотя бы приблизительно реальный срок выполнения вашего заказа или чьего-либо обещания, то умножьте обозначенный номинальный срок на число π. Если же вы – оптимист, то умножьте на число e. Позже, в течение всей жизни я постоянно убеждался в мудрости этого житейского правила. Исключения, конечно, случались, причем в обе стороны. Но в среднем надо ориентироваться на число π.
Палиндромы [26]26
Из кн.: [Горобец, Федин, 2010].
[Закрыть]
А. Фсдулов:
Лес и чаща чисел.
Лес и чара чисел.
[С. 99)
Г. Лукомников:
18 – епто вот не 81.
81 – епто вот не 18.
[С. 67]
В. Рыбинский: Теории роет Икс от тоски, А метод ума – мудотема.
[С. 84]
В. Скворцов:
«На миру живу умом и диво, по-видимому, увижу» (Риман).
[С. 89]
Пояснение составителя. Георг Риман, великий немецкий математик, создатель теории неевклидовых пространств. Здесь диво означает пересечение параллельных прямых вследствие кривизны римановых пространств.
В. Хромов:
Алгебра чар бегла.
Римана мир
Несоосен.
[С. 106]
Б. Горобец:
Отклик на палиндром Сергея Федина «На Ритке снег. Генсек – тиран»
Мура. Вата тумана. Идем. Роз нет. Снег на тебе… Тангенс, тензор, медиана… Мутата. Warum?
[С. 32]
Гетерограммы
Д. Авалиани:
О, бог нуль! – Обогну ль?
[С. 122]
С. Федин:
3 + 85 +4 = 38 + 54.
[С. 158]
Глава 3
Инженеры (механики, энергетики, строители)
Роберт Эдуардович Классон
Вождь и учитель всех трудящихся В. И. Ленин учит инженера-энергетика Р. Э. Классона (1868–1926), как преодолевать бюрократические заслоны
В декабре 1919 г. в России, по словам Ленина, «истрачена последняя цистерна нефти». Выход из катастрофы – немедленный переход на торф. Совнарком (СНК) принимает постановление, согласно которому работы по гидроторфу признаны особо срочными как имеющие чрезвычайную государственную важность. При Главторфе организуют главк Гидроторф во главе с Робертом Эдуардовичем Классоном, ему предоставляют льготные условия финансирования, снабжение машинами, материалами, продовольствием и одеждой. 2 ноября 1920 г. Ленин пишет Классо-ну любопытнейшее письмо:
«т. Классон!
Я боюсь, что Вы – извините за откровенность – не сумеете пользоваться постановлением СНК о Гидроторфе. Боюсь я этого потому, что Вы, по-видимому, слишком много времени потратили на «бессмысленные мечтания» о реставрации капитализма и не отнеслись достаточно внимательно к крайне своеобразным особенностям переходного времени от капитализма к социализму. Но я говорю это не с целью упрёка и не только потому, что вспомнил теоретические прения 1894–1895 гг. с Вами, а с целью узко практической. Чтобы использовать как следует постановление СНК, надо:
1) беспощадно строго обжаловать вовремя его нарушения, внима-тельнейше слсдя за исполнением и, разумеется, выбирая для обжалования лишь случаи, подходящие под правило «редко да метко»;
2) от времени до времени – опять-таки следуя тому же правилу – писать мне (NB на конверте: лично от такого-то по такому-то делу):
прошу послать напоминание или запрос такой-то (проект текста на отдельном листке);
такому-то лицу или учреждению по такому-то вопросу, ввиду признания работ «Гидроторфа» государственно-важными.
Если Вы меня не подведёте, т. е. если напоминания и запросы будут строго деловые (без ведомственной драки или полемики), то я в 2 минуты буду подписывать такие напоминания и запросы, и они иногда будут приносить практическую пользу. [28]28
Обратите внимание на слово «иногда»! Оно воспринимается как самокритичная ирония.
[Закрыть]
С пожеланием быстрых и больших успехов Вашему изобретению и с приветом
В. Ульянов (Ленин)».
***
Р. Э. Классон бережно относился к людям и считал, что способный человек, не умышленно и не по небрежности сделавший даже крупную ошибку, вряд ли её повторит.
По его словам, в молодости он часто писал очень резкие деловые письма, но убедился, что они почти никогда не достигают цели – в отличие от деловых разговоров, в которых обоснованная резкость иногда бывает полезна.
В последние годы жизни пришёл к убеждению, что «люди не выносят хорошего обращения» или «портятся от хорошего обращения».
(Из записок М. И. Классона, опубл. в журнале «Мировая энергетика», 2008, № 2)
Алексей Николаевич Крылов
К назначенному часу собралось около 120 членов Думы сопускаем перечисление некоторых из них – Б. Г.> Во втором ряду, позади Воеводского
– А. И. Звегинцев; на стульях остальные члены Думы, так что зал оказался заполненным. Воеводский открыл Заседание и сказал:
– Членам Государственной думы угодно получить объяснения <.. >, каким образом секретный журнал Морского технического комитета стал достоянием гласности <предлагает сделать А. Н. Крылову доклад по этому вопросу – Б. Г.>.
Я сослался на то, что присылаемые в запечатанных пакетах темы экзаменационных работ для гимназий выкрадываются, печати подделываются, и этими темами гимназии торгуют. <…> Обращаясь к Звегинцеву, я сказал: «Александр Иванович, мы с Вами были вместе в Морском училище. Ваш выпуск в складчину подкупил "рыжего спасителя" Зуева, чтобы получить экзаменационные задачи по мореходной астрономии. Задачи эти печатались в литографии Морского училища под надзором инспектора классов, бумага выдавалась счетом, по отпечатании камень мылся в присутствии инспектора и т. д. Однако стоило только инспектору на минуту выйти, как Зуев, спустив штаны, сел на литографский камень и получил оттиск задач по астрономии. Вы лично, Александр Иванович, по выбору всего выпуска списали на общее благо этот оттиск. Ведь так это было?» Сквозь гомерический хохот всего зала послышался робкий ответ Звегинцева: был грех.
(Цит. по кн.: [Крылов, 1984. С. 159])
Петр Леонидович Капица [29]29
Выдающийся инженер-физик.
[Закрыть]
П. Л. Капица в письме И. В. Сталину: «…им надо морду бить» (об инженерах, профессорах: Гельперине, Герше и Усюкине)
Общеизвестно, что благодаря письмам П. Л. Капицы в правительство были освобождены из тюрьмы два выдающихся советских физика: В. А. Фок в 1937 г. и Л. Д. Ландау в 1939 г. Вообще П. Л. Капица часто писал руководителям правительства: Сталину, Молотову и Маленкову. При этом во многих его письмах содержатся жалобы на коллег. Иногда, кстати, по совсем мелким поводам. Так, 11 января 1946 г. Капица пишет письмо, начинающееся словами: «Товарищ Сталин, Обращаюсь к Вам как Председателю Совета Народных Комиссаров. Назначенный СНК член Технического Совета Главкислорода товарищ Тевосян <выдающийся инженер-металлург, министр тяжелого машиностроения СССР> вчера не пришел на заседание Совета <…>».
[Капица. С. 250]
В 1946 г. развернулась ожесточенная схватка между Капицей, который изобрел новый принцип получения сжиженного кислорода (турбодетан-дер) и инженерами-криогенщиками: И. П. Усюкиным (1905–1992) из МИХМа, С. Я. Гсршсм (1888–1957) из МВТУ им. Баумана и Н. И. Гельпериным МИТХТ им. Ломоносова. Они твердо стояли на позиции, что модель Капицы еще не созрела для перевооружения на ее основе кислородной промышленности страны. Сталин создал правительственную комиссию для разрешения спора. Капица возражал против включения в Комиссию трех названных профессоров. Он не стеснялся использовать в письмах Сталину отнюдь не дипломатическую лексику по отношению к своим научно-техническим оппонентам, которых называл авантюристами и писал буквально, что «им надо морду бить».
[Капица. С. 270]
В другом письме Сталину Капица писал о них же: «Эти трое – обиженные мною человека, так как я не хотел их привлечь к нашей работе. Делал я это потому, что считаю их не только не сделавшими ничего значительного, а наоборот, беспринципными и вредными людьми, любящими ловить рыбу в мутной воде».
[Петр Леонидович Капица, 1994. С. 419]
Кто же эти «вредные люди», т. е. «вредители»? Герш – основоположник крупнейшей научно-инженерной школы криогенщиков в СССР, фактически создавшей в 1930–1940 гг. криогенную промышленность СССР. Гсль-перин – один из основоположников химической промышленности СССР, главный помощник Орджоникидзе по данному направлению. За этими людьми стоят сотни учеников (в т. ч. докторов и кандидатов наук), десятки тысячи специалистов, проектировавших, строивших и эксплуатировавших десятки химических комбинатов.
Самым ярым врагом Капицы был Усюкин. Неплохой инженер и организатор, он был и впрямь заносчив, чересчур напорист и, бывало, игнорировал даже ректора и Ученый совет, выходя напрямую в ЦК партии. В институте (МИХМ) его побаивались и недолюбливали, а узкую группу лиц, окружавших Усюкина, называли «усюкины дети». Влияние Усюкина подкреплялось тем, что в феврале 1946 г. он, по поручению горкома партии выдвинул т. Сталина кандидатом в депутаты Верховного Совета на собрании общественности Бауманского р-на столицы.
Инженерная суть конфликта с Капицей состояла в том, что, несомненно, замечательное изобретение последнего было сделано на 15–20 лет раньше, чем появились специальные материалы, которые могли обеспечить многосуточную бесперебойную работу турбодетандера. Для того чтобы КПД установки Капицы превысил КПД установок поршневого типа, уже давно работавших в кислородной промышленности, надо было поднять частоту оборотов турбодетандера до 100–200 тыс. в минуту. Но при этом подшипники плавились, а роторы попадали в резонансы и ломались. Правда, в Институте физпроблем маленькие турбодетандеры ручной сборки полностью обеспечивали институт жидким гелием. Но крупную опытную установку Капицы по получению кислорода в Балашихе приходилось останавливать каждые 3–4 дня (тогда как поршневые установки работали непрерывными циклами по несколько месяцев). Правительственная комиссия приняла решение не внедрять в промышленность турбодетандеры Капицы, а сам он ушел в добровольную отставку с поста начальника Главкислорода (замнаркома и члена правительства). Потребовалось еще лет 20, чтобы наша промышленность освоила турбодетандеры Капицы.
Ну, а сами ученые, о которых столь оскорбительно отозвался Капица в письмах Сталину? Оправдывались ли они, отвечали ли на пасквильные тирады в их адрес? Неизвестно ни об одном письме-жалобе в верхние инстанции от Н. И. Гельперина и С. Я. Герша. Сын Н. И. Гельперина профессор Г. Н. Гельперин недавно сказал мне, что он в точности знает, что его отец не написал ни одной жалобы. И добавил, что помнит слова отца: «Капица – хороший физик, но плохой инженер».
Недавно было опубликовано письмо И. П. Усюкина И. В. Сталину с жалобой на Капицу (в многотомном сборнике документов: [Атомный проект СССР. Т. 2. Кн. 2. 2001. С. 549–551]). В письме почти всё – общие слова о самозахваливании Капицы, о его многолетних обещаниях быстро создать установку по производству дешевого кислорода, которой до сих пор нет, о необходимости реорганизовать Главкислород и т. д. Но ни политического доноса, ни обвинений во вредительстве в этом письме нет. Единственное конкретное обвинение Усюкина звучит так:
«В некоторых вузах Капица состоит заведующим кафедрой и в одном из них (МИХМ) них в течение 4 лет не прочитал ни одной лекции, исправно получая зарплату. Им подобраны такие помощники, которые в противоречии с истиной (о чем они знают) твердят на лекциях только о гениальных открытиях Капицы, замалчивая объективные достижения современной науки и техники в области глубокого холода. Таким образом, лучшая часть молодежи института испорчена и ее необходимо перевоспитывать Капицу и его помощников необходимо освободить от воспитания молодежи».
В примечании к документу сообщается, что начальник секретариата И. В. Сталина А. Н. Поскребышев решил не докладывать это письмо Сталину, а направил его в секретариат Л. П. Берии.
[Атомный проект СССР. Т. 2.]
Михаил Адольфович Стырикович
Академик Г. М. Кржижановский (1872–1959) делает профессором студента, не окончившего вуз
М. А. Стырикович поступил в 1920 г. в Петроградский технологический институт на механический факультет. Одновременно он работал теплотехником на заводе оптического стекла. Но с 5-го курса был отчислен из вуза за «непролетарское происхождение», так как происходил из дворянского рода. Он стал начальником котельной Ленинградского фарфорового завода. В 1927 г. Стырикович пришел на прием к руководителю плана ГОЭЛРО Г. М. Кржижановскому. Вместо запланированных 10 минут, их беседа продолжалась 4 часа и закончилась словами: «Завтра, Миша, приходите на работу в мою теплоэнергетическую лабораторию». Через полгода Кржижановский сделал Мишу заведующим этой лабораторией и решил подать документы на присвоение ему звания профессора. Это было необходимо, чтобы вести курс лекций для студентов. И тут выяснилось, что у Миши нет документов об окончании вуза. Кржижановский стал кричать на него, упрекая в мальчишестве, неумении предвидеть будущее… Наконец, сказал: «Даю Вам неделю на написание диплома на любую тему. А я займусь Вашим "волчьим билетом"». Через пару месяцев после защиты диплома М. А. Стырикович получил аттестат профессора, а позже – дипломы кандидата и доктора технических наук без защиты. Еще позже он стал академиком, лидером теплотехнической энергетики в стране. В тяжелейший 1992 г. Стырикович сообщил семье: «Только что я, возможно, поставил рекорд, достойный книги Гиннесса. В 90 лет я подписал контракт и становлюсь консультантом Подольского котлостроительного завода». Там его заработок стал в 4 раза больше, чем академическое жалованье в эпоху Ельцина.
(Из устных воспоминаний Н. М. Стырикович, опубликованных в кн.: [Горобец, 2009б])
***
В 1970-е гг. Стырикович решил уйти из МЭИ, так как он вел работу параллельно в Президиуме АН СССР, в ИВТАН и состоял в ряде экспертных советов. В кабинете ректора МЭИ состоялся примерно такой разговор:
Ректор: Очень жаль, что вы уходите. Вы, конечно, подобрали себе преемника?
МА: Разумеется. Единственный человек, которого я мыслю на этом месте, это Захар Лазаревич Миропольский, прекрасный ученый, мой ученик и заместитель на кафедре в течение многих лет.
Ректор: М.А., Вы же прекрасно понимаете, что это абсолютно невозможно.
МА: Я бы хотел знать, почему?
Ректор: М.А., но Вы же прекрасно все понимаете: там пятый пункт.
МА: Мне о таком пункте и его влиянии на занятие должности официально ничего не известно. Кстати, по паспорту он русский.
Ректор: По паспорту, конечно, но мы-то с Вами прекрасно знаем…
МА сухо ответил:
– Я ничего не знаю. Но если Вы хотите высчитывать процент еврейской крови, рекомендую вам обратиться к трудам доктора Геббельса. Там очень подробно и «научно» изложено, как это следует делать.
Затем МА вышел из кабинета, не прощаясь. Дома он взял свой бланк академика и написал заявление об уходе с изложением мотивов, не забыв упомянуть доктора Геббельса. Вложил его в незапечатанный конверт и попросил шофера отвезти заявление в МЭИ и сдать под расписку в приемную ректора. Он знал, что с его заявлением негласно ознакомится ряд лиц еще до того, как оно попадет на стол ректора, и что ректор тоже это поймет и окажется в ловушке. Ведь ректор «засветился». А что, если завтра ветер подуст в другую сторону? Предъявить претензий к Стыриковичу в разглашении конфиденциальной беседы ректор тоже не может, разглашения не было. А незаклеенный конверт? Ну, так приличные люди не читают чужих писем.
Вечером ректор позвонил МА домой, попросил к телефону его жену, профессора О. И. Мартынову, долго уговаривал ее воздействовать на МА. Но она ответила, что М А не изменит уже принятое решение.
(Со слов Н. М. Стырикович, опубл. в кн.: [Горобец, 20096. С. 233])
Владимир Александрович Котельников
В 1963 г. на физфаке МГУ, в курсе статистической радиофизики мы изучали знаменитую теорему Котельникова. Она была сформулирована и доказана в 1932 г. в нашей стране. Но 15 лет спустя ее переоткрыл Клод Шэннон, основоположник теории информации.
В 1932 г., будучи аспирантом Казанского университета, В. А. Котельников подготовил большой доклад к I Съезду связистов. Но Съезд не состоялся, а доклад В. Котельникова «О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи» был заслушан на Ученом совете электроэнергетического факультета МЭИ. О нем говорили: «Вроде все верно, но похоже на научную фантастику». Доклад был принят к печати в ноябре 1932 г. (дата приоритета) и опубликован в 1933 г. в сборнике Материалов к указанному Съезду.
Много лет спустя в 1999 г. в официальном представлении В. А. Котельникова на международную премию и медаль Эдуарда Райна (Германия) было дано такое пояснение о практической сути теоремы: «Голос, музыка, изображение, телевидение – всё это при передаче и хранении информации подвергается процессу оцифровки во все больших масштабах. Классическим примером замены аналогового способа хранения информации цифровым способом может служить переход от грампластинки к компакт-диску. Надежность и устойчивость к помехам невелика у пластинки с се механическими, граверными канавками, представляющими собой аналог исходного сигнала (звука). Но эти качества на много порядков больше у числовых последовательностей, хранящих и передающих звуковой сигнал. Такую последовательность получают, делая отсчеты амплитуды сигнала и записывая их в двоичной системе счисления как биты информации в микроэлектронных ячейках памяти диска, храня и считывая по мере надобности».
Встаёт ключевой вопрос: сколько надо делать отсчетов, чтобы передать качественную информацию? Ответ дает теорема Котельникова. Её смысл такой: исходный сигнал может быть восстановлен без ошибок, если число отсчетов в секунду, по крайней мере, вдвое превышает наибольшую частоту, присутствующую в записываемом сигнале. В человеческом голосе при оперном пении присутствуют частоты приблизительно до 20 тыс. герц. Поэтому, чтобы его записать на диск без искажений, достаточно делать не менее 40 тыс. цифровых отсчетов в секунду.
В 1936 г. В. А. Котельников направил статью с теоремой и ее доказательством в ведущий российский журнал «Электричество». Но получил отказ вследствие «перегруженности портфеля и узкого интереса данной статьи». Ниже приведена копия этого исторического документа (она была напечатана в 2006 г. в журнале «УФН»). Таким образом, приоритет отечественной науки не был закреплен на международном уровне путем публикации в центральных журналах. А русскоязычную статью в малотиражных Материалах конференции в Казани, конечно, зарубежные ученые не знали. В 1948 г. Шеннон опубликовал свою теорему отсчетов, аналогичную теореме Котельникова, написав о том, что не встречал ранее публикаций подобных результатов. Так еще раз было доказано, что «нет пророка в своём отечестве».
Копия
Редакция журнала «Электричество» Орган Главэнергопрома и Главэнерго НКТП и Энергетического института Академии Наук СССР
Издание ОНТИ
Москва, Калужская, д. 67, Энергетический Институт Академии Наук СССР им. Г. М. Кржижановского
Адрес для корреспонденции: Москва, Главный почтамт, почтовый ящик № 648
Тел. редакции: В 5-32-79 Тел. отв. редактора: В 5-32-78
11. X.1936.
Тов. Котельникову В. А.
Москва, ул. Горького, 17.
Научно-Исследоват. Ин-т Электросвязи
Уваж, тов!
Редакция журнала «Электричество» возвращает Вам статью «О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи», так как из-за перегруженности портфеля и узкого интереса данной статьи, учитывая профиль нашего журнала, использовать ее не сможем.
Приложение: Статья на 24 стр. и 4 рис.
Отв. редактор журнала «Электричество»
/Я. А. Климовицкий!
Зав. редакцией
/М. Г. Башкова/
Голубцова Валерия Алексеевна
В. А. Голубцова – легендарный ректор Московского энергетического института в военные и послевоенные годы. При ней в институте было создано несколько новых факультетов, а также ОКБ. О Голубцовой в превосходных степенях отзывались крупнейшие ученые, академики, ее выдвиженцы: В. А. Кириллин, В. А. Котельников, Б. Е. Черток, А. Е. Шейндлин, А. Ф. Богомолов, десятки профессоров МЭИ. Некоторых из них она надежно прикрыла от серьезных неприятностей. Так Б. Е. Чертока она спасла от отчисления из МЭИ, а В. А. Котельникова отстояла, когда его хотел забрать в свое ведомство, шарашку МГБ в пос. Марфино, министр госбезопасности В. С. Абакумов, чтобы заставить руководить разработкой секретной телефонии (об этой шарашке повествует А. И. Солженицын в романс «В круге первом»).
Помимо личных качеств: цельности характера, силы воли и ума, Голубцовой, конечно, помогало то, что она была женой Секретаря ЦК ВКП (б) Г. М. Маленкова, фактического заместителя Сталина в аппарате партии. Правда, их брак не был зарегистрирован и кстати, Голубцова не хотела брать фамилию Маленкова. Однажды на парткоме МЭИ она так ответила на вопрос о помощи ей со стороны мужа: «Я не посвящаю Георгия Максимилиановича в свои трудности, и, следовательно, он мне не помогает. Обращаясь к руководящим лицам, я называю свою фамилию и должность. И не моя вина, что они, зная, кто мой муж, иногда хотят услужить. Что же, я должна отказываться? Наверное, это будет не в интересах. Института».
В. А. одевалась скромно, но со вкусом, держалась властно, но без чванства, обладала чувством юмора и находчивостью. К примеру, такой штрих. Как-то она решила снять с должности одного сотрудника, который явно «не тянул». Объявила ему это и тут же протянула конфету, сказав: «Не обижайтесь, так надо для дела, да и Вам будет легче».
(Б. Горобец, журнал «Мировая энергетика». 2007. № 11)
Шарль Эдуар Ле Корбюзье
Ученики спросили Ле Корбюзье, почему он решил проектировать дом-башню с круглыми комнатами, чем вызвано столь необычное архитектурное решение.
– В детстве меня часто ставили в угол, – признался знаменитый зодчий.
Разное
Параметры первого компьютера (1954 г.) сейчас вызывают удивленную улыбку
Слова «компьютер» тогда не было в русском лексиконе. Вплоть до начала 1990-х гг. писали и говорили: «электронная вычислительная машина» (ЭВМ). Первая советская ЭВМ «Стрела» работала на радиолампах, она занимала несколько комнат. У «Стрелы» была оперативная память 2 килобайта, скорость операций 2 тысячи в секунду, смехотворные, с точки зрения нынешних студентов. На этой ЭВМ рассчитывались технические характеристики двухступенчатой 10-мегатонной водородной бомбы РДС-37, которая стала прототипом всех советских водородных бомб.
Атомную бомбу (А Б) и первый вариант «сахаровской» водородной бомбы РДС-6с наши ученые и инженеры рассчитывали на арифмометрах «Мерседес», обеспечивавших 800 операций вручную на человека за один рабочий день. Для этого под руководством профессора-математика Н. С. Меймана в ИФП трудилось вычислительное бюро из 30 девушек. Их силами решалась численно система интегро-дифференциальных уравнений, описывающих процессы и основные характеристики атомной бомбы, главным образом, ее КПД, т. е. коэффициент выгорания ядерной взрывчатки при взрыве. Для численного решения Ландау разбил развитие процессов в бомбе на 100 интервалов, каждый длительностью порядка 0,01 мкс. Радиус сферического заряда был разбит на 30 интервалов. Огромная вычислительная работа была быстро и правильно выполнена нашими учеными: Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшицем, И. М. Халатниковым, А. Н. Тихоновым, А. А. Самарским и др. Появление «Стрелы» резко упростило и ускорило работу наших физиков-теоретиков и математиков со следующим поколением мощных двухступенчатых водородных бомб.
[Наука…, 1997. С. 220]
Ландау – аспирантку, а Халатникову – только орден
Для того чтобы договориться и согласовать все награды, заслуженные сотрудниками группы Ландау, И. В. Курчатов специально прислал в институт (ИФП) своего заместителя академика С. Л. Соболева. Соболев договорился с Дау о встрече, приехал в назначенное время в ИФП и… прождал несколько часов без всякого результата. Дау так и не появился. Как потом говорили, все это время он провел, задержавшись у девушки и позабыв о встрече с Соболевым. В результате в первом Указе был награжден по высшему разряду (правительственная дача, разные другие привилегии, например, прием детей в любые вузы без экзаменов) только Ландау, а остальных участников группы, спохватившись, тоже потом наградили, но уже рангом пониже. Я, к примеру, получил только орден.
[Халатников, 2007. С. 44]
Как Берия дал урок двум министрам-инженерам угольной промышленности
В. В. Вахрушев был наркомом угольной промышленности СССР. Но вот в середине 1940-х гг. Сталин почему-то принял решение разделить этот наркомат на два: наркомат угольной промышленности для западных районов СССР и наркомат для восточных районов. Командовать процессом разделения было поручено Л. П. Берия, который отвечал в Политбюро за новую технику.
«Он был мастером неожиданных и нестандартных решений. <…>. Предполагалось, что возглавят эти наркоматы соответственно В. В. Вахрушев и Д. Г. Оника. <…> Можно представить, сколько мороки вызвала бы подобная процедура при обычном бюрократическом подходе. Берия вызвал Вахрушсва и Онику и предложил им разделиться полюбовно. А по истечении срока вызвал обоих и сначала спросил у Вахрушева – претендента на руководство западными районами отрасли – нет ли претензий. Тот ответил, что претензий нет, и всё поделили правильно. Тогда Берия обратился к Оникс: "Как вы?" Оника заупрямился: "У меня есть претензии. Все лучшие кадры Вахрушев себе забрал. И все лучшие санатории и дома отдыха тоже". Видя такое дело, Берия рассудил: "Раз Вахрушев считает, что всё разделено правильно, а Оника возражает, то сделаем так: Вахрушев будет наркомом восточных районов, а Оника – западных". И совещание на том закончил».
(Из кн.: [Юлий Борисович Харитон, 2005. С. 115])
О том, как профессора, министра-металлурга провалили на выборах в Академию наук
В. П. Елютин был профессором, металлургом, много лет заведовал кафедрой в Московском институте стали и сплавов, успешно продвигался по партийно-административной линии. В 1954 г. он был назначен министром высшего образования СССР и многие годы занимал этот пост. Следующая любопытная история излагается по тексту профессора механика Г. И. Баренблатта.
«Дело было во время академических выборов поздней осенью 1972 г., незадолго до смерти И. Г. Петровского. И. Г. очень тревожило, что могут выбрать академиком В. П. Елютина, тогдашнего министра высшего образования. И. Г. его остро ненавидел, ненавидел непримиримо, видя в нем символ бюрократической опухоли, тащившей страну в пропасть. А если его выберут в академики, считал И. Г., его влияние в делах сильно поднимется. <…> Дело о выборах Елютина было в Академии наук тщательно подготовлено. <…> И. Г. говорил с академиком А. В. Новоселовой <с химфака МГУ>. "Будем голосовать за Елютина, – таково было ее мнение". "Я спросил, – рассказывал И. Г. – за что же? – Ну, как же, министр, и к тому же наукой занимается, кафедрой в Институте стали заведует". И. Г. ее не переубедил, да она с ним и не хитрила: знала, что пакостить он не будет, если и не поступишь по его.