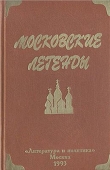Текст книги "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г. (СИ)"
Автор книги: Борис Маркус
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
Подумать только: сам Пушкин жил тут, среди этих домов, среди этих переулков! Он тут запросто ходил по ним, по Собачьей площадке, наверное, бывал и на Новинском бульваре, и на Кудринке. Ее просто так не объедешь. Невозможно находиться так близко от нее и ни разу не побывать на ней, не проехать хотя бы через нее. Этого не могло быть. Значит, и не было. Только вот дома моего он не мог еще видеть, так как его еще не было. А бульвар был! И знаменитые гуляния на нем были. И проходной двор на Трубниковский был, и церквушка моя была. Мог он и там побывать. А церквушку «на курьих ножках» на углу Борисоглебского переулка и Большой Молчановки не просто видел, не просто ходил в нее, он жил при ней в деревянном доме, которого давно уже не существует. На его месте сейчас угол школы, выстроенной здесь после сноса церкви «на курьих ножках». И может быть, именно она навеяла ему какие-нибудь сюжеты для сказок. Кто знает? Ведь одно название, единственное такого рода в Москве, не могло не навеять ему разные сказочные сюжеты. И я старался представить себе, что же тут было во времена Пушкина, еще до войны с Наполеоном и до пожара. Наверное, совсем не так, как сейчас. Вот, хотя бы Юркиного многоэтажного дома вовсе не было. И больницы Снегиревской, и особнячков многих, что на Собачке и на Молчановке стоят, тоже не было. Они же только после пожара, или даже совсем в конце прошлого века появились. Но все-таки что-то осталось и от того времени. Как дом его приятеля Соболевского, раз он в нем жил, как церковь, как другие домики допожарной Москвы, или как первые послепожарные. Ведь и в начале века он здесь был, и в двадцатых-тридцатых годах. А если еще вспомнить, что он бывал у Гончаровых, то это же тут же неподалеку, у Скарятинского переулка на Большой Никитской. А венчался-то он в одном из приделов «Большого Вознесенья». А это та же Большая Никитская. А привез Натали он в дом на Арбате. А к приятелям ходил и на Поварскую, и на Гагаринский, и на Пречистенку, и на Арбат.

Все-все здесь можно назвать пушкинским. Пушкинские места! С каким вдохновением рассказывал обо всем этом наш «Одуванчик», наш чудесный Иван Иванович. И мы с ним ходили ко многим из этих мест и очень огорчались, глядя, например, в каком состоянии были дом на Арбате, дом на Собачьей площадке. Молча стояли перед углом уродливой красно-кирпичной школы, той самой, что заменила собой сказочно знаменитую церковь «на курьих ножках». Тут он жил. А знает ли об этом кто-нибудь, кроме таких людей, как Иван Иванович, литераторов, историков. Уверен, что многие из живущих здесь, вот, как Юрка, например, просто не подозревали, мимо каких мест они проходили. А в этих запущенных и неухоженных домах, вроде арбатского или углового на Собачке, живут сейчас разные люди. Возможно, даже хорошие и очень хорошие. Но они же в пушкинских домах живут. Но ничего об этом не знают. Непостижимо! Ведь сейчас ничего пушкинского в этих домах не осталось. Только рассказы…
Слава богу, теперь, в годы, когда я пишу обо всем этом, хотя бы с арбатским пушкинским домом что-то более или менее нормальное сделали. Отреставрировали, правда, не очень достоверно, кое-каких деталей ни в каких архивах не разыскали, сделали по аналогам, по интуиции. Кое-что пристроили ради нужд музея, к счастью, сзади дома, и этого не было видно с улицы. Не сумели восстановить все именно так, как было, но главное сделали: открыли здесь музей-квартиру Пушкина как филиал пушкинского литературного музея. Все-таки не все уничтожено.
А тот дом, что был на Собачьей площадке, и другой около церкви, где Пушкин дольше жил, были безжалостно уничтожен вместе с церковью, вместе с площадкой, с фонтаном, с особняками и домами, связанными с нашей историей, нашей культурой. И никого из власть предержащих это ничуть не волновало. Ужасно.
А сам Юрка Модель жил как раз между двумя этими пушкинскими местами – на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка, напротив участка церкви «на курьих ножках», где сейчас стоит типовая средняя школа постройки тридцатых годов. Значит, и напротив места, где был дом священника, и рядом с малюсеньким домиком с керосиновой лавкой, что стоит на углу Собачьей площадки и Борисоглебского переулка. Этот домик приткнулся к многоэтажному юркиному дому, самому тут высокому и, пожалуй, довольно красивому. С вазами и украшениями на фасаде, с большими эркерами.
Типичный перворазрядный доходный дом, заселенный до революции небедными людьми, в основном интеллигенцией. Когда из него бежала от советской власти разная крупная интеллигенция, вроде богатых адвокатов, крупных чиновников, его заселили ответственными работниками новой власти дореволюционной закалки. Юрин папа был именно таким. Недаром он пострадал в 1937 году. Мне нравилось, что в этом доме всегда царило доброжелательство и взаимное уважение. Я очень часто бывал у них. Мама моя говорила, что я просто днюю, правда, не ночую, в этом доме. Но она очень доверяла этой семье и не возражала против нашей дружбы. А Юрку она просто любила. Даже считала, что он более практичный человек, чем я, и поэтому я должен многому учиться у него. Я, правда, не очень этому следовал, но водить дружбу с Юрой было интересно. И знал он многое такое, чего я не знал. И в технике лучше разбирался. Но это вовсе не означало, что я был пентюхом и сам ничего не умел. Все-таки и я что-то умел, чего Юрка не мог. А отрицать, что я многому у Юрки научился просто не нужно. Так это и было. А еще, что мне особенно запомнилось об этом доме, так это то, что этажом выше над Юркой жил один старик. Худой, высокий, со впалой грудью и чуть-чуть сутуловатый. Вид у него был довольно суровый. Но это только внешне. На самом деле он был совсем не страшным, даже добрым. Это был известный музыкант-пианист Гаврила Иванович Романовский. И часто, когда окна и в его и в юркиной квартире были открыты, оттуда сверху доносилась удивительная музыка. Я тогда еще не знал, что именно он играл, только потом, слушая концерты Бетховена, Шопена, Скрябина или Чайковского, узнавал то, что слушал, сидя в юркиной квартире. Играл он превосходно. Юрка говорил, что он не только прекрасный педагог, но и превосходный исполнитель. Ну, это я и сам понимал, слушая его игру. Юрка еще говорил, что он играл для Цурюпы и даже для самого Ленина. Что ж, возможно. Та-кой вполне мог.
Но вернемся к родным местам, к району Поварской слободы. На Борисоглебском переулке в невысоком краснокирпичном доме жил другой мой товарищ Миша Богатов. Его мать Елизавета Евлампиевна была учительницей в нашей школе. Миша хорошо рисовал, хотел вместе со мной поступить в Архитектурный институт, но немного сорвался на экзаменах и поступил в Технологический. Мишка был очень своеобразным человеком. Гово-рил немного на «о», по-волжски что ли? Интересовался древней литературой, древней живописью, иконами. Помню, писал он сочинение в стихах на тему «Слова о полку Игореве» по заданию Ивана Ивановича. Как переложение с древнеславянского на наш русский язык. Тогда немногие взялись за это. Я, например, писал тогда об импрессионистах. За «Слово» побоялся браться. А Мишка как раз отрывок из «Слова» и сделал. Но не как все. В отличие от других, в его стихах проскальзывало нечто церковнославянское. Меня это удивляло. Но стихи были хорошие.
На Малой Молчановке Иван Иванович показал нам как-то один не очень-то примечательный дом. Обыкновенный, деревянный. Одноэтажный с мезонином в три окошка, с довольно простыми наличниками на окнах первого этажа, с обыкновенными деревянными воротами. Очень непривлекательный с виду дом. Тем более на такой улице, как Малая Молчановка. Хоть она и небольшая по размерам, но дома на ней, в основном, были хорошие, были и многоэтажные. Очень представительные. А этот? Ну, ничем не мог он заинтересовать меня. Всегда проходил мимо него, даже не обращая внимания.
А оказывается тут жил не кто иной, как сам Михаил Юрьевич Лермонтов, один из самых моих любимых поэтов. Но в книгах о Лермонтове я нигде не встречал упоминаний об этом доме, даже о времени его жизни тут на Малой Молчановке. О Тарханах, о Красных воротах, о Московском Университете сколько угодно, а о домике с мезонином ничего. Странно. Очень странно. Я очень удивился, увидев, в каком доме он жил. Вот, никогда не подумал бы, что Лермонтов тут жил. Но после домика Соболевского, где жил Пушкин на Собачьей площадке и дома на Кудринской площади, где жил П. И. Чайковский, ничему подобному удивляться не приходилось. Такова была жизнь этих замечательных людей. И не это важно. Важно, что они жили тут. Вот и Лермонтов оказался нашим соседом, земля-ком. Вот еще каким знаменитым человеком оказалась богата моя родина.
Тут же на Малой Молчановке на фоне малоэтажной застройки выделялся огромный серый дом начала нашего века, украшенный вазами, рыцарями и прочими удивительными вещами. Это тоже был доходный по старым временам дом. В нем тоже жили ученики на-шей школы – Глеб Клеопин, чья комната вся сплошь была уставлена разными аквариума-ми, большими, маленькими, круглыми. Первый раз видел такую красоту. Среди разных водорослей и причудливых гротов в освещаемых лампами водоемах, среди пузырьков по-даваемой по специальным трубкам воды плавали самые различные рыбки: от вьюнов и неонов, японских сомиков и вуалехвосток до золотых и таких фантастических, каких я вообще раньше не видел. Жила здесь и Майя Вельяминова, тоже ученица нашего класса. Но она была с нами только до седьмого, потом пропала из вида. Ничем особым она не отличалась. По крайней мере, так считал я. А вот сестры Талалаевы, учившиеся одна на два класса ниже, а другая вместе с братом Володей на четыре, были совсем иными. Хорошими пионерками, хорошими ученицами. Я бывал с ними в пионерских лагерях и ничего, кроме хорошего, сказать о них не могу. Жалко, что потеряны с ними всякие связи. Жил здесь и Игорь Реформатский. Он тоже учился младше нас.
На Малом Ржевском был особый дом. Тоже из бывших доходных. С колоннами и львами. Дом, в котором жили крупные военноначальники. В нашей школе учились многие их дети: Гамарник, Левичева, другие. Дом этот лишался в 1936–38 годах одного за другим этих видных деятелей нашей Красной армии. Поверить, что все они были немецкими или английскими шпионами, врагами народа, было просто невозможно. Но что можно было сказать? И что сделать? О судьбе самих начальников мы все уже знаем. Их расстреляли. А вот о судьбе их детей, в основном, девочек, причем очень славных, умных девочек, активных пионерок и истинных патриоток, мало кто знает. А пришлось им пройти через семь кругов ада. И прошли, и не согнулись. Но, боже мой, что же им пришлось перенести! Когда прохожу мимо их дома, всегда вспоминаю о них. Этого просто нельзя забывать. Ведь это тоже часть моей родины. И какая! Окровавленная, измордованная, изуродованная жизнь моих земляков никуда не уйдет от меня. Она всегда перед глазами. И поэтому я, проходя по улицам и переулкам малой родины своей, не могу сосредоточить свое внимание только на зданиях, мимо которых прохожу. Родина – это не только дома, улицы, леса и парки, реки и озера, родина – это, в первую очередь, люди. Люди, создававшие города и поселки, создавшие вещи, люди, жившие в них и с ними, люди, защищавшие их и своих земляков и близких, люди, люди, люди…
Большой Молчановке при реконструкции района и пробивке проспекта повезло чуть больше, чем Собачьей площадке, которая находилась совсем рядом. Проспект отрезал у Большой Молчановки большой кусок самого начала ее, оставив только два дома за угловым, в котором размещался ресторан «Прага». Один из них был красивым малюсеньким особнячком с острым фронтоном и огромным окном на первом этаже. Здесь был родильный дом Грауэрмана. Дальше простерся проспект, оставивший справа на втором плане своей парадной застройки несколько доходных домов Большой Молчановки, отвернувшихся от проспекта спиной, своими необработанными задними фасадами. Доходные дома в те времена ведь так и строились: уличный фасад был богатым, представительным, дворовый никак не оформлялся – просто голые кирпичные стены и окна. Да еще пожарные металлические лестницы. А торцы чаще всего оставались безоконными глухими брандмауэрами. Из-за возможного появления строительства на соседнем участке.
Собачья площадка погибла совсем – вместе с фонтаном, с домом, где жил Пушкин, со Снегиревской больницей и особняком Училища Гнесиных. Ничто не напоминает здесь среди гигантских башен-книжек и высотных жилых домов тот старый, немного патриархальный мир переулков и особняков. Разве что зады отвернувшихся от проспекта старых домов? Но стоит только сделать, как говорится, шаг в сторону, отойти от проспекта вправо или влево, как вы снова попадаете в мир арбатских, поварских, новинских и кудринских переулков. Кто-то назвал Новоарбатский проспект «вставной челюстью». Довольно метко сказано. Я хожу по старым местам поварской слободы или Арбата и попросту мысленно «вынимаю» эту «вставную». Она мне не нужна, она мешает. Как бы технически совершенна она ни была по сравнению с обветшалыми старыми домами, с узкими переулочками. Ведь их, обветшалых, можно отремонтировать, отреставрировать, сохранив или вернув им подлинно московский характер, так быстро исчезающий из нашего города. А никакими средствами новому проспекту придать этот московский характер уже просто не-возможно. Он из другого мира. И с его появлением безвозвратно утеряна прекрасная часть удивительного московского уголка, каким было Приарбатье, какой была Поварская слобода. Я продолжаю ходить по проулкам и улочкам, стараясь даже не смотреть в сторону домищ-монстров. Я мысленно переношу себя в то время моего детства, которое так глубоко выражала застройка этих слобод и кварталов. Застройка и люди. Люди. Я не могу не думать одновременно и о тех, кто тут жил из моих друзей, или приятелей или просто соучеников.
Тут на этих переулках и улицах Поварской слободы жило их много. На Молчановке, на Поварской, в этих переулках жили Борис Дунаев, погибший на войне, Сергей Мареев, ставший впоследствии крупным дипломатом, народный артист Андрей Попов, Глеб Клеопин, Игорь Реформатский, Милка Покровская, сестры Талалаевы, братья Цукерманы, Толя Сыченко, сестры Шретер, Женя Розенблюм, сестры Коптевы, Кирилл Беренс, Тамара Хлоплянкина, Марина Ремизова, Таня Комина, девочки из дома военных на Большом Ржевском и многие другие. И Иван Иванович Зеленцов – наш замечательный преподаватель литературы. Педагог, Учитель, Человек. Он и все только что перечисленные товарищи и эти места неотделимы друг от друга. И это только те немногие, что жили в Поварской слободе. А сколько их, моих товарищей по школе, жило на соседних улицах! Вся родина моя малая заселена ими. И это было естественно. Ведь наша школа была совсем рядом.
Поварская и Большая Никитская улицы с переулками
Итак, мы вышли с вами на Поварскую улицу. В самом ее начале с правой стороны, если идти от Кудринской площади к центру, стоят обыкновенные невысокие дома. И хоть в них ничего примечательного не было, но я любил останавливаться здесь, постоять на углу, чтобы оглядеться. Получалась интересная вещь, которая навела меня на мысль, неизвестную тогда мне, что в старые времена церкви ставили не просто так, где придется, а с великим умом. Вот взять хотя бы две улицы – Поварскую и Баррикадную. Если смотреть с Поварской, даже не с угла площади, а из глубины улицы, откуда-нибудь с угла Большого Ржевского переулка, то видишь, что улица направлена прямо на высокую красивую колокольню у церкви Покрова в Кудрине, что располагалась внизу на Баррикадной, ближе к зоопарку. Церковь была определенным ориентиром для путника. А вот от нее, от Покрова в Кудрине, и чуть поднимаясь наверх к площади, видишь, что улица как бы стреляет прямо в сторону церкви Ржевской Богоматери, расположенной на углу Поварской и Большого Ржевского переулка.
Я уже обращал внимание на эти градостроительные приемы и до сих пор не перестаю восхищаться тем, как все-таки умело старые мастера использовали рельеф и удивительно тонко расставляли акценты, используя естественные повороты улиц. Вот и стояли церковные колокольни-доминанты так хитро и умно, что становились не просто самыми высокими среди других, но и своеобразными путеуказателями, ориентирами. Как же все-таки умно ставили церкви. Они и особенно их высокие или даже невысокие колокольни становились именно ориентирами, на которые нацелены были и улицы и переулки.
То же самое происходило и на соседней Большой Никитской улице, на которую мы еще придем. Забегая вперед, скажу, что Большая Никитская «стреляет» на ту же колокольню церкви Покрова в Кудрине, а в обратном направлении ориентиром становится большой купол храма Большое Вознесенье. Вот ведь как здорово получалось. И как жаль, что с уничтожением этих церквей навсегда утрачена здесь эта удивительная перекличка доминант.
Вернемся к нашей Поварской. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что среди всех центральных московских улиц наша Поварская отличалась каким-то особым благородством. Не потому что была озеленена. Сколько сплошь озелененных улиц было в Москве. Взять хотя бы улицу Заморенова, что у Красной Пресни. Вся утопает в зелени. Но она по сравнению с Поварской выглядит очень провинциальной, бедной. Застройка не та. Обитатели, видно, не те были. Поварская была очень красиво обстроена разными особняками самых разных времен. И достаточно богатыми. Естественно, эти особняки теперь занимали не простые обыкновенные жители, а особые. В основном, здесь были иностранные посольства, консульства, резиденции послов.
Хороши были на улице церкви, каким-то особым образом формирующие характер улицы, определенно организующие ее трассировку. Но, разумеется, застройку улицы определяли, кроме церквей, конечно же, дома. Вернемся к началу Поварской. Вся улица, как посмотришь вдоль нее, утопает в зелени. По обеим сторонам ее высятся крупные деревья, создавая на тротуарах затененные проходы. И улица становится какой-то тихой, приветливой. Трамваи по ней не ходят, транспорта вообще тут мало. Пустили как-то автобус № 4, но он ходил довольно редко. Спокойной была наша Поварская, спокойней всех других вокруг, на которых гремели и звенели трамваи, рыкали клаксонами автомобили.
Я любил эту улицу. Возвращался из школы домой только по ней. Сначала от школы по переулочкам выходил на нее, а потом по ней. И невольно любовался домами, очень отличающимися друг от друга, но такими славными, такими слитыми друг с другом, что кажется, иначе и выдумать ничего уже нельзя. Не к чему выдумывать.

Но, оказывается, как раз «выдумать-то» и можно было. Тут я жестоко ошибался. Потом насмотрелся, как «выдумывали» всякое на нашей Поварской, своими выдумками разрушая ее характер, ее единство. Далеко за примерами ходить не нужно было. Вот хотя бы самый первый для меня: на месте прежнего трехэтажного построили в 1950 году новый угловой дом – шестиэтажный, также выходящий на площадь, как и прежний. Может быть, он был добротно сделан, не знаю. Но что характер площади очень исказил, это я четко понимаю. Тогда еще не было высотного здания, он один портил всю музыку. Архитектор просто не думал об ансамбле площади, строя дом на углу ее. Он думал, очевидно, только о самом доме, независимо ни от чего. Так делали и делают многие, даже довольно известные архитекторы. На примере хотя бы таких улиц, как Поварская и Никитские, можно четко это проследить.
Сама Поварская долгое время стояла нетронутой, такой, какой я ее увидел впервые, в первые годы моей жизни. А потом появились такие дома, как здание Верховного суда СССР на углу Большого Ржевского, как безликая высоченная призма Училища им. Гнесиных. Они были из другой оперы и совершенно не вписывались в уютную мелкомасштабную Поварскую. Но о них подробнее расскажем ниже, когда подойдем ближе.
На правой стороне в ряду довольно рядовых невысоких домов на углу Трубниковского переулка стоял довольно обыкновенный дом, около дверей которого висела вывеска. Золотом по черному было написано: «Общество политкаторжан и старых большевиков». Вот как раз для этого общества и стали строить в начале 30-х годов специальный роскошный клуб. Огромный клуб-дворец.
Строили по проекту знаменитых архитекторов братьев Весниных, о которых много писали в то время в газетах. Они даже назывались особенно: «конструктивисты». Было в то время такое направление в архитектуре. Как раз те самые дома с ленточными окнами, как в доме Гинзбурга, или на ножках, как на Мясницкой, строили конструктивисты, возглавляемые братьями Весниными, лидерами направления.

Строительство растянулось до 1934 года, но по своему прямому назначению клуб так и не начал работать. Сначала, как писали тогда в газетах, «по просьбе общества его упразднили». Позднее начали упразднять и самих старых большевиков и политкаторжан. Если не уничтожать физически, то превращать их в современных политкаторжан. Так их клуб в 1934 году стал «Первым кинотеатром». На нашем доме на площади укрепили огромную вывеску кинотеатра. На улицу здание выходило огромным кубом, стоящим на тонких ножках. Конечно, внутри этот куб был пустым. Вернее, в нем были какие-то помещения, но это же было совсем неизвестно тем, кто смотрел на тяжеленный с виду куб и на эти тонюсенькие ножки-спички. Какая-то ненадежность проглядывала во всем этом. Возможно, это не только мне казалось, так как спустя какое-то время ножки утолстили, чтобы хоть внешне они казались потолще, покрепче.
По своим размерам дом этот не очень-то выделялся из окружения. И по высоте и по пропорциям. Может быть, он может явиться примером, как должна вписываться новая архитектура в сохраняемую среду. В самом деле, по масштабу, абсолютным размерам этот дом и не вызывал особых возражений. А вот об образной стороне можно было бы и поспорить. Очень уж контрастно выглядел он среди своих соседей. Хорошо это или плохо? Время как-то стерло особые противоречия. К Дому как бы привыкли. Но что-то чуждое окружению все-таки сохранилось.
В кинотеатре этом я бывал. И не раз. Тут был огромный зал, даже больше, чем в знаменитом кинотеатре «Ударник» в «Доме на набережной». Большие кулуары. Здесь мы смотрели «Чапаева». Надо было видеть, как ходили на «Чапаева» зрители. Кроме одиночек или семей, целыми организациями ходили. Выстраивались в колонны и, как на демонстрации, шли по середине улиц с красными знаменами, на которых крупными белыми буквами было написано: «Мы идем смотреть «Чапаева». Я никогда раньше не видел, чтобы так ходили смотреть фильмы. Но «Чапаев» стоил того. Я несколько раз смотрел. И всякий раз очень волновался. Да и не только я. Помню, как сидящая рядом со мной Лиля Сирота, мой школьный товарищ, вдруг во время сцены, когда белоказак незаметно подкрадывался к ловящему рыбу чапаевцу, о чем было известно только нам зрителям, но неизвестно самому бойцу, вдруг закричала на весь зал: «Берегись, ползет!» Мы от неожиданности не знали, что делать. И стыдно, и смешно. Но Лильку понять было можно. Все это было очень эмоциональным. Но мне особенно запомнилась сцена ожидания и ликвидации «психической атаки» каппелевцев. Такое напряжение. Так хочется, чтобы Анка скорее ударила по ним из пулемета. Но она молчит, закусив губы. Глупенькая, ведь они приближаются. Они идут во весь рост. Идут и идут, как на параде. И, наконец, анкина очередь. И все смешалось. Психическая была отбита. Какой восторг! А потом летящая, как на крыльях, конная лавина чапаевцев. С самим Василием Ивановичем во главе. Он в папахе, лихо заломленной назад, в развевающейся на ветру бурке, с саблей наголо. Удивительная сцена!
В этом же кинотеатре мы смотрели и «Веселых ребят», и «Мы из Кронштадта», и «Цирк», и «Волгу-Волгу», и многие другие фильмы. Ведь самый близкий от нас театр. И самые-самые хорошие фильмы в нем шли первым экраном, то есть раньше других. Потом и этот кинотеатр прикрыли. Стал тут «Театр киноактера». Вот в него мне как-то не приходилось ходить. Может быть, потому что уехал я к тому времени с Кудринки. И все недосуг было. А жаль. Можно было бы живых киноартистов увидеть.
На той же стороне на другом углу Трубниковского переулка и Поварской улицы стоял дом с магазином и почтой на первом этаже. Магазин на углу, а почта на Поварской. Дворником в этом доме был высокий дядя, на которого мне было неловко смотреть, так как у него вся правая щека была покрыта большим бугристым темно-красным родимым пятном. Позже я познакомился с ним ближе, так как он оказался отцом нашей школьной старшей пионервожатой Тани Коминой. Мы с ней были в прекрасных отношениях, и я часто заходил в ее небольшую квартиру в полуподвале этого дома. Отец оказался очень добродушным и доброжелательным человеком. Но я все-таки старался не смотреть на его лицо, чтобы не показать свое смущение при взгляде на это пятно.
Продовольственный магазин был обычным, как многие. Ничего особенного, кроме, разве, названия. Очень чудное название было. Еле прочитаешь: «Продовольственный магазин ХРООП». Позднее букву «Х» заменили на «Ф». Это потому, что расшифровывалось мудреное название так: «Продовольственный магазин Хамовнического районного объединенного общества потребителей», что означало, наверное, принадлежность его к кооперации. А когда название нашего района сменили на «Фрунзенский», то и «ХРООП» превратилось в «ФРООП». Вообще с этими сокращениями получалась просто ерунда. Вроде как на нашей площади и повсюду по городу мелькали вывески «ТЭЖЭ». А школы имели после своих номеров еще такую аббревиатуру – «ОНО», что означало «Отдел народного образования». И в каждом районе впереди этих «ОНО» стояла первая буква названия района. У нас, например, «школа № 10 ХОНО». Это значит, Хамовнический отдел. Позднее, когда район стал Фрунзенским, «Х» заменили на «Ф». Вот и стала школа «ФОНО». А когда школа оказалась в Краснопресненском районе, а на букву «К» районов было много (Киевский, Кировский, Красногвардейский), то наименование стало еще более нелепым и трудно произносимым: «КрПрОНО» Произнесите, попробуйте. Гладко не получится. Чертовщина какая-то. Но ведь распространено это было. И принимали это все.
Наше почтовое отделение № 69. Оно и по сей день существует в том же доме № 29 на углу Трубниковского, что и раньше. В нем только всю внутренность изменили. По проекту учеников знаменитого архитектора академика Жолтовского. Правда, потом еще были какие-то переделки, но все-таки стоит посмотреть на хороший интерьер. Особенно на потолок.
Еще для меня этот дом был интересен тем, что тут жил один мой соученик Юрка Каждан. Сам он был не очень близок мне. Просто мне не все в нем нравилось, тем более, что я немного ревновал его к одной девочке из нашего класса. Тогда мы учились то ли в третьем, то ли в четвертом классе. Там в этом доме у Юрки его мама организовывала разные интересные вещи с ребятами. Что-то вроде кружка самодеятельности. Я тоже подключился к этому. Мы что-то репетировали, ставили какие-то спектакли или какие-то «капустники», вроде «синей блузы», что была тогда в моде. Потом я окончательно разошелся с Кажданом, и мое участие в самодеятельности окончилось.
Дальше за этим домом стояло несколько довольно простеньких, но очень милых домиков с уютными дворами. Возможно, там и жили в свое время какие-нибудь знаменитые люди, но откуда мне было это знать. Просто я понимал, что дома такие и на такой улице раньше занимали знатные люди. Теперь все было заселено случайно. Разные люди попадались. В одном из таких домов жили хорошие знакомые нашей семьи – художник Василий Яковлевич Брукендалов с женой Ольгой Михайловной и дочерью Лялей. Ольга Михайловна была близкой подругой моей мамы. А Ляля у них была очень больна, кажется, даже частично парализована. Она тоже была художницей. Когда ей было особенно плохо, и она была прикована к креслу с колесами, мы, я и сестра Ира, заходили к ней, навещали, читали книжки.
Напротив Первого кинотеатра расположена старинная барская усадьба. Здесь жил когда-то князь Долгоруков. Но я и все мои друзья считали, что усадьба не этим была знаменита, а тем, что именно в ней Лев Николаевич Толстой поместил семью Ростовых в романе «Война и мир». Кто-то говорил, что это вранье, что сам Толстой об этом нигде не упоминал. Но многое говорит за то, что именно здесь разворачивались события в семье Ростовых. Хотя бы сцена отъезда семьи из Москвы при приближении войск Наполеона. Читаешь и видишь, что все сходится.

Выше, когда я рассказывал о проходном дворе и церкви Рождества Христова в Кудрине, я уже приводил выдержку из романа «Война и мир», указывающую именно на этот дом. Теперь мы можем посмотреть на сам дом. Эта огромная загородного типа усадьба сохранила свои допожарные черты. Строгий портик с колоннадой украшает центральную часть здания.
По бокам на выступах ему отвечают группы сдвоенных колонн, несколько скромней главной колоннады. Парадный двор окружен более низкими крыльями. В центре двора цветник. Теперь тут поставили памятник Льву Николаевичу Толстому. Это еще более связывает усадьбу с именами Ростовых, с «Войной и миром». Въезд во двор напротив портика через красивые ворота. Те самые, через которые выезжала графиня Ростова с челядью, когда она прощалась с Москвой, смотрящие на церковку напротив. Так увековечил Лев Николаевич эту усадьбу в своем романе. И сейчас памятник Толстого стоит посреди двора и смотрит как раз в эти самые ворота, в сторону, где была когда-то церковь.

Сначала после революции здесь, в усадьбе Долгоруких, был Литературный институт имени Брюсова, позднее, в 1932 году, здесь обосновался Союз писателей СССР. А в соседнем доме – изящном невысоком особняке замкового характера – помещается Дом литераторов. Он появился тут одновременно с Союзом писателей. С этим зданием у меня связано два события. И оба они имели прямое отношение к Маяковскому. Первое, когда Юрка Модель затащил меня на выставку Маяковского. Она называлась «Двадцать лет работы». Я тогда не очень знал поэзию Маяковского, многое мне было трудно читать, что-то просто не нравилось. Вроде «Бабьих бубликов». Но на выставку пошел, и, представьте себе, увидел там самого Владимира Маяковского. Живого! Всамделишного. Он стоял среди обступившей его группы молодых людей и о чем-то громко говорил. Все жадно слушали его. Еще бы, сам Маяковский! Приблизиться к нему мы, конечно, не могли, но даже смотреть на него было интересно. Первый раз в жизни я видел близко живого поэта. Горд был необычайно. После выставки Юрка дал мне почитать разные вещи Маяковского. У него полно было разных изданий. Стал читать. И наткнулся на некоторые, очень мне понравившиеся стихи. Только не умел еще их читать так, как надо. Их же вслух надо. И громко, во весь голос. А лирические, которые с особым надрывом, надо было пропускать через сердце. Их вот громко читать нельзя было. И не допускать равнодушия или безразличия. Так, чтобы понимал, что это все с тобой происходит. Надо сказать, что со временем я как-то вроде бы научился и читать его стихи, и делать их понятными для других, тех, кто, как и я раньше, относился к Маяковскому с недоверием.