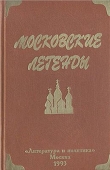Текст книги "Московские картинки 1920-х - 1930-х г.г. (СИ)"
Автор книги: Борис Маркус
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)

Так же неплохо себя чувствовали и небольшие дома и особняки на тех улицах Садового кольца, где не было бульваров, а были сады перед домами, где проезжая часть была посередине улицы. Все было достаточно гармонично. Конечно, жизнь развивающегося города требовала и реконструкции старых кварталов и застройки и строительства новых домов. Это естественно, но осуществлять эти дела нужно с умом, не вредя тому, что на-до сохранить. На практике же все происходило как раз наоборот.
Почти совсем напротив нашего дома находился проходной двор с бульварного проезда на Трубниковский переулок. В отличие от проходов через дворы, как у дома Плевако, этот двор представлял собой как бы своеобразный самостоятельный переулок, расширяющийся внутри квартала и поэтому становящийся двором. Площадью это место назвать было бы трудно. Площадь должна быть обстроена домами, а тут на это двор выходили своими задними фасадами дома, стоящие на Поварской, на Новинском бульваре, на Трубниковском переулке. Много было зелени. Проходы во двор были шире обычных въездов в московские дворы. И мощен он был, как явный проход с бульвара на переулок. В центре его, чуть сбоку, прижавшись к задам домов, выходящих на Поварскую, стояла небольшая церковка. Называлась она церковью Рождества Христова в Кудрине. Построена была в XVII веке в стрелецкой слободе на месте деревянной. Двор был при ней. По-тому и стал, наверное, проходным.

От церкви на Поварскую тоже был проход в промежутке между домами. Как раз напротив городской усадьбы Долгорукова, где размещен Союз писателей. Для меня этот двор имел особое значение. Не так двор, как эта самая церковка. Все дело в том, что в этой церкви меня в младенческом возрасте крестили, не спросив, однако, моего разрешения. Я бы не разрешил. И папа, и мама были против этого и не хотели крестить детей. Но со мной все произошло помимо их воли. Вообще-то говоря, был я в те годы очень дохленьким, постоянно простужался, часто болел воспалением легких и ангинами.
Родные не знали, что со мной делать. И вот однажды жена брата моего отца, тетя Валя, без всякого, как я уже сказал, разрешения моих родителей, вместе с дядей Ефимом, мужем двоюродной сестры отца, отнесли меня в эту церковь и окрестили. Я, конечно, не сопротивлялся, даже, наверное, ничего не соображал в то время. И ничего теперь не помню. Болеть я, конечно, после этого не перестал. Так что акция эта никакой видимой пользы мне не принесла. Мама даже смеялась: «Просто, наверное, Вале хотелось стать кумой Ефима». Не знаю, так ли это. Но ведь мама говорит! Значит, так.
Церковь Рождества Христова в Кудрине даже упоминается в романе Льва Толстого «Война и мир». Я еще не читал его, когда папа, получив по подписке очередной том Л. Н. Толстого, где был этот роман, позвал нас и прочитал то место, где рассказывалось, как выезжала из своего дома графская семья Ростовых, спасаясь от нашествия Наполеона. А ведь известно, что Толстой поместил Ростовых к нам на Поварскую, в один из ближайших к Кудринской площади домов. В усадьбу Долгоруковых. Так, в романе было сказано, как выезжающие из двора графского дома на улицу «в каретах, коляске и бричке все крестились на церковь, которая была напротив». А напротив ворот этой усадьбы как раз между домами и видна наша церквушка. Так она и попала в роман Толстого. Я даже немного загордился. Все-таки каким-то образом и я имею к ней отношение. Не только Ростовы и Лев Толстой.
К сожалению, в конце 20-х годов, когда начали строить «Дом политкаторжан», то для расчистки площадки под него снесли и эту церквуху. Задняя часть клуба политкаторжан как раз пришлась на нее. И мало кто помнит, что на задах этого клуба во дворе находилась маленькая церквушка.
Трубниковский переулок, Собачья площадка, Большая Молчановка и переулки
До сих пор мимо задов бывшего Дома политкаторжан, или нынешнего Театра кино-актера можно проходить в Трубниковский переулок, идущий параллельно нашему бульвару. Переулок был узким по сравнению с просторным Садовым кольцом или с соседними улицами. Он был достаточно длинным, соединял нашу Поварскую улицу с Арбатом. Правда, он не доходил до самого Арбата, а после небольшой Спасопесковской площадки он переходил в короткий Спасопесковский переулок, который уже выходил на Арбат. Таким образом, он становился как бы крайним переулком бывшей Поварской слободы, прижатой к Садовому кольцу, вернее, к валам бывшего Земляного города. Слобода была довольно обширной, и мы еще сумеем посетить многие ее переулки, носящие исторические названия, связанные с профессиями ее прежних жителей. Трубниковский получил свое название, наверное, потому что здесь жили трубники, или трубочисты.
Прежде чем пройти, начиная с Трубниковского переулка, по остальным переулкам и улицам всей моей округи, хотелось бы высказать свои мысли, относящиеся как раз к этим самым переулкам. Я все время, и в далеком детстве и уже в зрелом возрасте, ощущал какое-то особое настроение, возникающее всякий раз, когда оказывался в маленьких и больших московских переулках и внутренних жилых улицах. Будь это в моей Кудринской округе или в районе Арбата, Пречистенки и Остоженки, Бронных улиц или Сретенки и Мясницкой, на Покровке или в Ивановских переулках, в Заяузье, или в Замоскворечье, все равно, всюду возникает какое-то особенное чувство слияния с окружением, пускай даже с чужим или с не очень знакомым. Все эти улочки и переулки, расположенные в межмагистральных пространствах, отделенные от них застройкой прилегающих к ним кварталов, отгороженные таким образом от лязга и грохота, от гудков и свистков транспорта, становятся какими-то оазисами тишины и покоя, которым пронизано все, начиная от домов, дворов и садиков, кончая поведением жителей этих московских районов. Даже ребятня, вечно озорная и шумная, здесь как-то незаметна. Она растворяется в глубинах дворов, она не так уж и часто высыпает на улицы или переулки, разве только, когда направляется по утрам в школы, а днем возвращается из них. Здесь очень мало транспорта, лишь иногда патриархальную тишину нарушит цоканье лошадиных копыт проезжающего извозчика. Или заедет какая-нибудь случайная машина, прогремит подвода. А вообще-то это бывает очень редко. Да и прохожих не так уж и много. Ранним утром вместе со школьниками можно увидеть вереницы спешащих на службу взрослых людей, днем какая-нибудь бабуля ведет свое чадо или на бульвар, или в какой-нибудь парк, если надоело гулять в своем дворе или садике. Ватаги возвращающихся из школ ребят на время нарушают покой. Потом все опять успокаивается до вечера, когда служащие начинают приходить с работы. Но все это происходит более или менее постепенно, не шумящими толпами, все это как-то вписывается в спокойную жизнь переулков.
Я любил и люблю бродить по таким островкам старой Москвы. Здесь все, начиная от невысоких, в своей массе, домов, от высовывающихся из дворов и садов больших крон деревьев и кончая узорчатыми решетками оград или даже простыми деревянными заборами, все дышит покоем. И, находясь здесь, проходя по излюбленным своим вечным маршрутам, чувствуешь, как сам освобождаешься от только что пережитых волнений, будь то в школе или на работе, ощущаешь полное внутреннее освобождение, раскрепощенность. И тобой овладевает такая радость жизни, такая любовь к своему городу, ко всему, что тебя окружает. Вот такое чудесное свойство у старых московских переулков и улочек. Я подчеркиваю слово «старых», потому что ничего подобного не возникает в огромных просторах новых микрорайонов или жилых массивов. Очевидно, действует великий закон взаимопроникновения человека в среду и среды в человека. Для этого нужна сомасштабность, соизмеримость человека и среды. В старых московских переулках это свойство всегда существовало и сохранилось. Человек не чувствует тут себя букашкой, пигмеем, как это неизбежно получается в окружении чуждой ему громады застройки. И пусть он даже живет в одной из ячеек этой громады, все равно он не может ощущать своей слитности с ней. Он мошка, былинка. А дома – монстры, массивы, состоящие из небольших ячеек жилья, куда человек забирается, отстраняясь от давящего на него гуляющего пространства, от давящих на него громад домов. Какое уж тут слияние!
В старых районах и кварталах Москвы сохранилось единство среды и человека. И хочет он того или нет, но здесь он находится не в противостоянии среде, а во взаимном слиянии. Ну, чем это не «улицетерапия», или «архитектуротерапия» вроде «трудотерапии? Тут сама архитектурная среда лечит человека. А это дорогого стоит.
А замечали ли вы когда-нибудь, как по-разному светятся окна домов по вечерам в старых и новых районах? Если не замечали, то попробую сказать о своих впечатлениях. Представьте, что вы идете по малому переулку, на который спускается вечерняя мгла. Особенно это ощущается зимними вечерами. Синие сумерки, тусклые огни уличных фонарей, блекнущие, пропадающие в темноте тени, возникающие на время около этих фонарей. Вдруг на темнеющий заснеженный тротуар, на огораживающие его сугробы падает желтоватое пятно света, выпавшего из окошек домика наружу. Свет этот теплый, приветливый, мягкий. Невольно поворачиваешь голову в сторону этого окна, но ничего, кроме занавесок и незамысловатых абажуров над ними, не видишь. Да и не надо. Зачем заглядывать в чужую жизнь? Ведь тебе не это нужно. Просто ты как бы отвечаешь своим взглядом на привет, посланный тебе из этих окошек. И идешь дальше, согретый этим незамысловатым светом. И так всю дорогу. Свет за светом, пятна на снегу за пятнами, приветы за приветами. Как же это хорошо!
А разве тысячи светящихся окон на стенах многоэтажных домов в новых районах, ведут себя так? Ничего подобного. По вечерам, когда в квартирах домов собрались обитатели, зажигаются почти все окна во многих одинаковых домах, выходящих на внутриквартальное пространство. Их много, они светят разным светом, в зависимости от цвета абажура или люстры. Они на верхних этажах даже не отгорожены занавесками. Но они не обращаются к вам, проходящему по квартальному пространству. Они чужды вам. Они равнодушны. Они просто выглядят одинаковыми светящимися квадратиками на огромной плоскости стены. А рядом начинается другая такая же плоскость со светящимися квадратными отверстиями. И дальше, и дальше. И все одинаково, и все равнодушно. И никакого привета не посылают они вам из своего типового объёмчика, из своей типовой ячейки. Ну ничего общего с уютным светом окон в старой Москве.
А теперь вернемся к нашему путешествию по переулкам и улочкам моей кудринской округи. Мы пройдем с вами по Трубниковскому переулку до Спаспесковской площадки, взглянем, проходя, на Карманицкий, Дурновский и Кречетниковский переулки, свернем на знаменитую Собачью площадку, выйдем потом к Большой и Малой Молчановкам, к Большому Ржевскому переулку и, наконец, придем на Поварскую. Потом пройдем по переулкам между Поварской и Большой Никитской улицами, то есть по Малому Ржевскому, Хлебному, Скатертному, Столовому и Ножовому (названия-то какие!), Медвежьему и Мерзляковскому, чтобы выйти на Большую Никитскую. Наш маршрут потом пройдет по кварталам между Никитскими улицами и Малой Бронной, а значит, по Спиридоновке, Вспольному и Гранатному переулкам, выйдет на Патриаршие пруды и свернет к Садовой-Кудринской улице, чтобы по ней пройти на Баррикадную улицу и вернуться к Кудринской площади. Вот такой вояж нам предстоит. Мы пройдем по этим переулкам и улицам, увидим, как они выглядят, чем привлекательны. Мы увидим некоторые дома, стоящие на них, но не будем останавливаться, чтобы узнать, кто и когда строил их, кто и когда жил в них. Это сделают с успехом путеводители. Мы лишь остановимся на некоторых, которые как-то отличают этот переулок от другого, которые чем-то запоминаются. Ну и, конечно, если будем проходить мимо домов, памятных мне тем, что в них жили мои друзья или соученики, то не упомянуть об этом было бы просто неприличным. Ведь мой район дорог мне не только домами, улицами и переулками. Прежде всего он дорог тем, что здесь я жил, здесь учился, здесь приобрел друзей. Как же не упомянуть об этом. Ведь любое поселение, любой район, любой квартал дорог не только постройками и уникальными зданиями. Он до-рог и людьми, населяющими его.
И еще я хочу пройти по всем этим местам и посмотреть на них глазами того времени, когда я там жил в двадцатых и тридцатых годах, рассказать о том, как они выглядели тогда, чтобы потом порассуждать, а что же произошло после тех 20–30-х годов, когда прошло почти шесть десятков лет бурной жизни Москвы. Что же стало? Лучше или хуже? Или все осталось без изменений? И это не простое любопытство. Мне как архитектору, градостроителю очень важно сделать этот качественный анализ, чтобы отдать себе отчет о той деятельности, которую градостроители и хозяева города произвели за это время. Но об этом позже.
Итак, мы вышли на Трубниковский переулок. По своему характеру переулок был удивительно спокойный, очень жилой, уютный. Практически в нем дома были двух-трехэтажные. Изредка попадались четырех– или даже пятиэтажные. Но очень редко, и это не выпячивалось в застройке, эти дома даже как-то сливались с ней. И только «Дом Малиновского», как его называли по фамилии архитектора, возвышался над всеми. Это не украшало переулок, наоборот, на мой взгляд, очень портило.

Дом этот стоял в средней части переулка на нечетной стороне, врезавшись в строй невысоких домов. Кроме того, он имел какой-то мрачный вид, и сводчатые проходы между малюсенькими внутренними двориками тоже были мрачными. Дворики были типичными «дворами-колодцами», маленькими по площади с высокими стенами, со скудным освещением сверху. Очень неуютными казались эти колодцы.
Во дворах этого дома побывать было интересно, но, к сожалению, отсюда нас, мальчишек, гоняли. Мы все-таки иногда пробирались туда. Взрослые говорили, что дом этот, построенный еще до революции для какого-то управления царским имуществом, совсем не простой. Тут в подвалах были какие-то знаменитые винные склады, почему-то называвшиеся «голицинскими». В начале 20-х годов, когда образовался СССР, тут одно время размещался Наркомнац, то есть Народный комиссариат по делам национальностей. И возглавлял его в то время сам Сталин. Но мы этого уже не застали. Да и не знали об этом. Когда забегали во двор этого дома, то он уже был обыкновенным жилым домом, с такими же, как всюду, коммунальными квартирами. Только заселяли его не простыми гражданами, а какими-то особыми, наверное, очень заслуженными людьми. Все-таки дом был на особом учете у властей.
Рядом с этим огромным домом притулился небольшой особняк, у дверей которого висела вывеска «Музей иконописи и живописи. Филиал Третьяковской галереи». Здесь была собрана блестящая коллекция картин знаменитых русских художников. Мы любили этот музей и называли его между собой «Малой Третьяковкой» или «Нашей Третьяковкой». Я часто там бывал, ведь он был совсем под боком, не то что сама Третьяковка, куда добираться очень непросто. Пожалуй, в этом музее я впервые как следует познакомился с картинами русских художников, в основном, передвижников. В Третьяковку я попал позднее.
А совсем рядом с церковным проходным двором был удивительный чудо-двор. В его глубине были устроены какие-то причудливые галереи, переходы, гроты, горки и пещеры. Кто это сделал, зачем, почему, для кого? Не знаю. Да это меня тогда и не интересовало. Просто здесь было занятно играть вместе с ребятами из этого двора. Благо, один из них учился в нашей школе и сам приглашал нас к себе. И играли мы тут с упоением. Особенно в «казаки-разбойники». Все как в сказке!
Во дворе дома, стоявшего напротив «Дома Малиновского», жила семья моей бабушки: она, ее дочь Сабина с мужем и их два сына – Волик, что означало Володя, и Ростик, что означало Ростислав. Волик был старше меня года на два, а Ростик моложе лет на пять. Жили они тоже в коммунальной квартире, но очень уж отличающейся от нашей. Меня всегда поражала их квартира. Все здесь было более основательным, чем у нас. Дед мой был крупным инженером-путейцем. Соответственно ещё до революции он был вполне состоятельным человеком. Мебель, обстановка, украшения стен, ковры, гардины, бронзовые скульптуры у настольных ламп, дорогие абажуры, богатейшая библиотека. По сравнению с ними мы были просто бедняками.


Трубниковский переулок шел к Арбату. При этом в одном месте он проходил мимо Большой Молчановки, Дурновского и Кречетниковского переулков и подходил к небольшой площади, посреди которой был небольшой скверик, а за ним виднелась одна из самых знаменитых малых церковок Москвы. Это церковь Спаса Преображенья на Песках. Она запечатлена в известной картине художника Поленова «Московский дворик». Я сначала и не догадывался об этом, глядя на картину. Правда, что-то очень знакомое чувствовалось в колокольне, но ведь подобных церквей, мне казалось, по Москве много. Что за московский дворик, где он? Ничто в картине, кроме церкви не было знакомым. И лишь много лет спустя, уже учась в старших классах школы, я узнал, что знаменитый дворик на самом деле находился совсем близко, совсем рядом. В конце Трубниковского переулка. Что церковь эта жива и стоит на том самом месте, где и увидел ее Поленов. Только дворика все-таки того нет. Обстановка не та. Поэтому и узнавания сразу не получилось.
А рассказал нам и про Поленова, и про его картину наш учитель литературы Иван Иванович Зеленцов в одну из прогулок по нашим поварским и арбатским переулкам, когда мы целой гурьбой провожали его домой. Он жил поблизости – в Карманицком переулке, в небольшом трехэтажном доме из красного кирпича. Так от Ивана Ивановича мы узнали историю о том, как писалась эта картина, откуда, из какого дома и окна он писал и двор и церковь. Да, самого дворика не сохранилось. Почти все вокруг изменилось. Осталась сама церковь и ряд примыкающих к ней домов. Как все-таки приятно сознавать, что именно эта церквушка оказалась на таком знаменитом полотне. Правда, за домиками, образовавшими тот дворик, не видны ни Пушкинская площадка, ни скверик на ней. А они ведь тогда уже были. На картине же оказались скрытыми за домами. Многое с тех пор изменилось. Многие дома вокруг церкви исчезли. Но было очень интересно смотреть на то место, которое изображено на картине. Пускай, даже в измененном виде. Даже при том, что к нашему времени здесь позднее выстроили многоэтажные дома, которые все вокруг исказили.

Но и до этого очень изменили обстановку такие дома, как «Особняк Второвых», построенный почти перед самой первой мировой войной. В глубине сада стоит двухэтажный дом с выступающей вперед полукруглой колоннадой, с террасой над ней, с нишами, обрамленными спаренными колоннами по углам здания. У этого особняка явно дворцовый вид. Он очень красив и величественен. И очень странным выглядит вывеска у ворот, гласящая, что здесь размещено «Центральное Статистическое управление». Как это странно и скучно. Как-то не совмещается красота дома с нынешним конторским его содержанием. Даже обидно за дом. Не могли найти что-нибудь получше.
А рядом притулился небольшой деревянный особнячок Щепочкиной. Он-то уже был при Поленове, но не попал в поле его зрения. Скрылся за застройкой. Он из числа «послепожарных» с чуть выступающим трехарочным портиком, в котором арки покоятся на четырех красивых стройных колоннах. Домик оштукатурен и притворяется каменным. Сразу и не поймешь, что он деревянный. Как «Книжная палата» Во двор дома можно войти через шикарные арочные каменные ворота, которые по своему величию, пожалуй, даже превосходят сам дом. Они явно строились не одновременно с домом, а раньше. Даже значительно раньше. Возможно, даже вместе с церковью, когда возводили ее ограду.

Иван Иванович рассказывал, что в этом доме одно время жил поэт П. А. Вяземский, а совсем почти напротив на углу Рещикова переулка в прошлом веке жил поэт Языков. Чуть дальше была квартира композитора А. Скрябина. Позднее он переехал в другую – на Николопесковский переулок. Посреди площади разбит в конце прошлого века уютный скверик, названный «Пушкинским» в память великого поэта, тоже жившего тут неподалеку. Подумать только, на такой довольно небольшой территории части Садового кольца одновременно жили Пушкин и Вяземский, Языков и Грибоедов, а позднее Чайковский, Скрябин, Чехов, Шаляпин. Какие люди! Какие места!..


Но вернемся к Дурновскому и Кречетниковскому переулкам, которые мы только что оставили позади. Оба они пересекают Трубниковский и выходят к Смоленской площади. Не знаю, откуда получил свое название Дурновский, но Кречетниковский был явно связан с проживанием тут «кречетников», «сокольничих» царского двора. Совсем еще недавно здесь царил рынок, как продолжение растекшегося по всем соседним переулкам Смоленского рынка. Толкучка была отчаянная. Я застал это время. Здесь, среди торгового люда, можно было встретить много так называемых «бывших», или не успевших или не захотевших уехать за границу. Создавалось впечатление, что они, или какая-то их часть, потеряв свои состояния, большие или малые, нигде, очевидно, не работая, превратились в полу-нищих, промышлявших продажей сохранившегося еще у них имущества. Поэтому тут встречаются и дорогой антиквариат, картины в дорогих золоченых рамах, бронзовые канделябры, мраморные вазы, фарфор, хрусталь.


Очень много разной одежды. Ношенной и новой. Откуда новая, не пойму. Может быть, просто еще не ношенная. И одежда очень разная – от шуб и манто до простых поддевок и драповых пальто. Разные костюмы, платья, кофты, просто ткань кусками. Всего понемногу. Встречаются и обычные хозяйственные и бытовые мелочи. Посуда, инструменты, гвозди. И навалом и отдельными штуками. Возможно, что тут и ворованное сбывали. Пойди, проверь. Много случайного можно встретить тут. В том числе и то, чего не встретишь в государственных магазинах. Поэтому рынки еще были нужны. И Сухаревский, и Тишинский, и наш Смоленский и Палашевский. Всех и не упомнишь. Их ликвидировали значительно позднее. Стали размещать в центре продуктовые колхозные рынки.


Мне особенно запомнилась древняя старуха. Она сидела на маленькой очень низенькой скамеечке, прислонившись спиной к стене. Сидела неподвижно, безмолвно, как бы безучастно, равнодушно, низко опустив голову, на которой водружена была огромная шляпа, вся в каких-то рюшечках и узорах. Укутавшись в старую протертую шаль, старуха иногда поднимала голову, безучастно провожала глазами прохожих. Никому ничего не предлагала. Просто сидела и молчала. Странная была старуха. Перед ней на протертом до дыр коврике, стояли какие-то статуэтки, потускневшая керосиновая лампа с очень узорчатым бачком и зеленым стеклянным абажуром. Всякие мелочи лежали. Ложки, ножи, вилки. Подсвечники, кольца для салфеток и подобная мелочь. Все какое-то потускневшее, нечищенное. Я несколько раз проходил мимо нее. Она так ничего и не продала, так и сидела в той же безнадежной позе. И так, наверное, каждый день.
На толкучке можно было встретить и шарманщиков, и балалаечников, и даже бандуристов, много было просто нищих, бродивших здесь в огромной толпе. Однажды по-встречал я тут небольшую вереницу слепцов, державшихся друг за друга и ведомых каким-то молодым парнем. Они тянули какую-то заунывную песню, но слов разобрать бы-ло невозможно.
Встретил там и совсем безногого инвалида с Георгиевским крестом на груди. Значит, солдат первой мировой войны. Нищий герой. Какая нелепость! Он катился на низенькой платформочке с маленькими колесиками, отталкиваясь какими-то деревянными колодками с ручками. Ног совсем не было. Просто туловище на платформе. Иногда он останавливался и, протянув руку, хрипло просил милостыню. А потом отталкивался деревяшками и катился себе дальше. Очень печальная встреча. Очень.

Со временем толкучка исчезла, исчезли и продавцы, и покупатели, и просто праздношатающиеся. В Москве оставили всего лишь несколько рынков-толкучек – Сухаревку, Тишинский, Даниловский и несколько других. Постепенно налаживалась нормальная магазинная торговля, но со скрипом. Товара там было еще маловато, да и качество было неважное. Переулочки, освобожденные от открытой торговли, как-то сразу стали какими-то пустынными, тихими, патриархальными, очень московскими. Дома на них, вроде бы, совсем обыкновенные, простенькие, даже, может быть, невзрачные, но такие слившиеся со всем своим окружением, что без них просто и представить исторически сложившуюся часть города невозможно. Правда, со временем то тут, то там в разных местах появлялись отдельные более высокие дома, но редко. И они не очень нарушали собой общий вид переулков. Как-то мирно уживались с соседями.
А начинались оба эти переулка, Дурновский и Кречетниковский, с одного места – с Собачьей площадки, внутренней площади нашего района. «Собачка», как мы называли ее, была вроде Спасопесковской площадки, но только чуть побольше той. Ну, и попросторнее ее, наверное…
И никакого сквера на ней не было. Была голая мощеная булыжником треугольная площадь, стороны которой являлись как бы продолжениями застройки двух переулков. Сбоку площадки расположен был фонтан с урной, стоящей наверху гранитного столба. Вода лилась из каких-то морд, больше похожих на львиные. На толстых стенках высокого восьмиугольного бассейна размещались горельефы с амурчиками.
Фонтан был окружен невысокой металлической оградой. Признаться, долгое время я считал это сооружение не фонтаном, а памятником собаке. От этого памятника, считал я, и пошло название самой площади. Да, да, именно, памятника, и именно той самой собаке, которая жила у попа и съела у него кусок мяса, за что он ее «убил, в ямку закопал и надпись написал, что…» и т. д.


Вот верил этому, и ничего тут не поделаешь. Я даже размышлял, а где же тут сама могилка собачки? Наверное, под памятником с урной. Иначе за-чем она? Меня долго держало в своих руках это заблуждение, и я очень огорчился, узнав, что оказался не прав. Но тогда, почему же площадь называется «Собачьей»? Позднее только согласился с тем, что, как и «кречетники», «трубники», так и «собачники», обслуживавшие царский двор, дали свое имя площадке. Наверное, тут был собачий двор, царская псарня. А вот почему на фонтане установлена урна, так и не понял.
Собачья площадка была окружена невысокими особнячками. Была она тихая и какая-то старомодная. Даже более поздние постройки не так уж и нарушали общий строй фасадов площади. И очень ей шли и булыжная мостовая, и узенькие тротуары, и тумбы на них около ворот. Она была, как музей прошлого века. Недаром на ней находился «Бытовой музей сороковых годов».


Застройка боковых сторон площади в основном была двухэтажной. Как бы задним фронтом за этими домами были построенные значительно позднее многоэтажные доходные дома, выходящие своими безликими дворовыми фасадами в сторону Собачьей площадки. И те фасады были нарядными. А домики, выходящие на площадку тут впереди, хоть и не шедевры, но очень уютные особнячки. В основном, «послепожарные» и конца прошлого века.
Хорош собой был небольшой красно-белый особнячок с островерхими фронтонами, в котором размещался созданный в 1934 году Союз советских композиторов. Рядом с ним, вплотную прижавшись к нему, стоял невысокий особняк, в котором размещалось Музыкальное училище имени Гнесиных. Уже в те времена это училище славилось на весь Союз не меньше, чем сама Консерватория. Напротив был невысокий деревянный дом с четырехколонным портиком, увенчанным арками. Очень похожий на дом Щепочкиной, что на Спасопесковской площадке. Говорили, что именно в этом самом доме мать Ленина снимала квартиру, и он жил там некоторое время перед отъездом в ссылку. Может, правда, может, нет. Почему-то никакой доски, говорящей об этом, здесь на доме нет.


Запомнился мне также еще один дом на Собачей площадке между Дурновским и Кречетниковским переулками. С виду ничего особенного – дом, как дом. Трехэтажный, из красного кирпича с белой отделкой наличников, карнизов. Здесь была больница имени Снегирева, известного на всю Москву врача. В треугольнике площади дом занимал как раз основание, и поэтому его высота не только не противоречила общей композиции площади, но даже как бы подчеркивала значимость более низкой застройки сторон. Вся площадь была очень уравновешенной.
На Собачьей площадке, на углу с Борисоглебским переулком был одноэтажный дом, в одной части которого размещалась в первом этаже нефтелавка. А про другую часть это-го домика мой приятель Юрка Модель сказал, что здесь в самом детстве жил сам Пушкин, что отсюда его увез дядя в царскосельский лицей. Я не очень ему тогда поверил. Как-то не вязался Пушкин с керосиновой лавкой. Наверное, юркина фантазия. Но позже я узнал уже от Ивана Ивановича, что Юрка был прав, хотя и не совсем. Прав был относительно того, что в этом доме на «Собачке» действительно жил одно время Пушкин. Но не в детстве и не перед отъездом в лицей. Примерно, пару лет в середине двадцатых годов, то есть в самом расцвете своих творческих сил. Только пару лет, если не меньше. И не у себя, не в собственном доме или квартире, а у приятеля своего Соболевского.
А вот совсем под носом у Юрки, но с другой стороны его дома – на углу Большой Молчановки и Борисоглебского переулка в доме священника церкви Николая, «что на курьих ножках», семья Пушкиных в самом деле жила несколько лет. Вот тут-то он и жил в детстве. Отсюда-то его дядя и отвез в царскосельский лицей.

Церковь «Николы на курьих ножках» была очень маленькой. Она удачно стояла на узком участке между Борисоглебским и Большим Ржевским переулками, выходящими тут на Большую Молчановку. На самом конце участка стояла четырехгранная трехъярусная колокольня, построенная в начале прошлого века. Она была увенчана невысоким четырехскатным округленным куполом с крестом. Два верхних яруса имели большие арочные окна-просветы, углы ярусов были оформлены сдвоенными лопатками. Ярусы увенчивались карнизами. За колокольней стояла низенькая квадратная в плане церковь с четырехскатной крышей, над которой высился тоненький глухой барабан с куполом. Вперед выступала одноэтажная трапезная под двухскатной крышей. Углы трапезной были укреплены расходящимися в стороны невысокими контрфорсами, что, возможно, могло навести на мысль, что эти контрфорсы напоминают разлапистые куриные ножки. Но, думаю, что это совсем не так. Название родилось не от этих угловых «лапок», а от названия урочища, что было здесь при поварской слободе. Тогда «ножками» называли земельные размеры. А дом священника находился при церкви и выходил фасадом на Борисоглебский переулок. Этот дом и снимала семья Пушкиных с сентября 1810 года. Отсюда юный Александр Пушкин выехал в Царское село в июле 1811 года. Значит, он жил тут почти год.