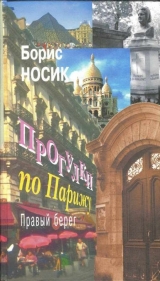
Текст книги "Прогулки по Парижу. Правый берег"
Автор книги: Борис Носик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
Продолжая прогулку по улице ла Фонтен, можно полюбоваться также отелем Меззара, тоже построенным Гимаром (дом № 60), монументальным домом Соважа (№ 65), интересным домом Эршера в стиле «ар нуво» (№ 85).
Видимо, не все обитатели этой улицы замечали усилия архитекторов, ее застраивавших. Скажем, обитавший одно время в доме № 32 эсер и террорист Борис Савинков был слишком озабочен тогда настойчивостью Владимира Бурцева, доказывавшего, что великий Азеф, по существу руководивший всеми акциями отважных террористов, был агентом полиции. Савинков был другом Азефа, в своей книге «Записки террориста» приводит нежные письма Азефа, и признать, что Азеф агент и предатель, было нелегко и Савинкову, и другим светилам революционного террора. Поэтому они сперва долго боролись с Бурцевым, потом долго допрашивали Азефа, устраивали следствие и даже суд. Одно из таких судилищ происходило в доме № 32 по улице ла Фонтен, куда явились Виктор Чернов, Петр Кропоткин, Вера Фигнер и Герман Лопатин. В конце концов корифеям удалось испугать Азефа, и он попросту сбежал…

Никто не знает, как попал бюст Макса Волошина работы польского скульптора Виттига во двор дома на бульваре Экзельманс. Ясно только, что поэту здесь одиноко. Теперь, когда ворота на запоре, его навещают еще реже, чем раньше.
Если не доходя до конца улицы ла Фонтен свернуть направо по улице Пуссен, то у дома № 12 можно увидеть вход в частный поселок особняков Монморанси. В этом поселке на тихой улице Сикомор жил писатель Андре Жид (вы, может, помните, как удивлялся тишине этой городской гавани посещавший Жида Жорж Сименон), а на улице Липовых Деревьев – философ Анри Бергсон. Улица ла Фонтен доходит чуть не до самой заставы Порт д'Отей. У заставы Отей на площади Порт д'Отей (дом № 67, с выходом на бульвар Монморанси) стоял особняк братьев Жюля и Эдмона Гонкуров, на верхнем этаже которого (на «Гонкуровском чердаке») собирались собратья-писатели – Золя, Доде, Мопассан, Гюисманс, Готье… Это здесь зародилась Гонкуровская академия (да и премия тоже).
Рядом с заставой Отей расположен уникальный парижский Сад поэтов. В нем среди любимых цветов каждого из представленных поэтов стоят камни, на которых выбиты строки из их стихов. Есть здесь и бюсты нескольких поэтов, скажем бюст Гюго, созданный Роденом, и бюст Теофиля Готье. Летом 1999 года мэр Парижа открыл здесь бюст Пушкина. До этого в Париже были из наших краев только каменные Толстой, Шевченко да еще Максимилиан Волошин. Впрочем, Волошин проживает во дворе дома на бульваре Экзельманс вполне анонимно (без подписи и прописки), наподобие «тайного эмигранта». Во время первого своего приезда в Париж я пытался выяснить у обитателей виллы, как попал к ним во двор этот бородатый русский. Никто даже не знал, кто он. На вилле тогда жили русские, и одна немолодая дама высказала вполне здравую догадку. Она сказала, что на соседней вилле, где теперь разместилось вьетнамское посольство, жил богатый инженер-поляк, который был помощником самого Гюстава Эйфеля. У него в саду собиралось много представителей парижской Полонии, так что, может, скульптор-поляк Эдуард Виттиг (автор скульптуры) и уступил хозяину бюст. Позднее часть сада с бюстом была прирезана к двум виллам под номером 66 (hameau Exelmans). В русском справочнике 30-х годов я нашел объявление какого-то технического института, размещавшегося тогда по этому адресу. Впрочем, вряд ли это недолговечное учреждение имело отношение к волошинскому бюсту. Когда я попал в этот двор впервые, какими-то последышами 1968 года Волошину были пририсованы ребра и повязка на глаз. Из окна напротив на мою коктебельскую маету под бюстом смотрела красавица француженка, жена молодого фотографа-американца. В конце концов он вышел и вполне дружелюбно спросил, что я здесь делаю целый вечер. Что мне было ответить: вспоминаю стихи Волошина, скучаю по Коктебелю, сочиняю новый рассказ про Волошина?.. Мы просто поболтали с полчасика – о жизни, о его профессии (он снимал дефиле моды и манекенщиц). Потом я ушел.

Он любил Париж, но не любил ни одиночества, ни безвестности. А тут ходят мимо – и никто не узнает. Он знал и любил иностранные языки, но сколько же можно говорить по-иностранному – и как им не надоест? А куда девался друг – скульптор Эдуард Виттиг? И почему он оставил бюст в чужом дворе?..
Бульвар Экзельманс полон русских воспоминаний. В доме № 87, наискосок от Волошина, нынче храм Явления Богородицы. А на втором этаже, над храмом, русский военный музей, которым занимается Андрей Дмитриевич Шмеман (один из моих консультантов по старой эмиграции). Однажды после службы в церкви я встретил здесь старую знакомую певицу Наташу Кедрову, жившую тогда в Медоне (она была дочь музыканта Константина Кедрова, дружила когда-то с Волошиным, жила в Коктебеле, куда и отправила отсюда в подарок целое собрание волошинских акварелей, которые так высоко ценил А. Бенуа). Наталья Константиновна представила меня пожилому князю Голицыну, у которого я спросил, не из тех ли он Голицыных, что жили в Малых Вяземах неподалеку от станции Голицыно и маленького Дома творчества писателей…
– А что, – удивился князь, – станция все еще называется Голицыно?
Нынче уже нет ни Наташи, ни ее мужа Малинина, ни старого князя… Может, и Дома творчества в Голицыне нет, давно там не был… А не так давно наткнулся я в книге на весеннее (оказалось, предсмертное) письмо Веры Николаевны Буниной, адресованное моей бывшей соседке по XIII округу Парижа художнице Татьяне Муравьевой-Логиновой:
«Сижу в кафе на бульваре Экзельманс. В ожидании всенощной не знаю, что делать? Решила написать Вам. У меня поблизости было деловое свидание, и я решила не возвращаться домой. Ждать надо полтора часа…
Хотела зайти к Струве, но их не было дома. Позвонила Полонской, она играет в карты. Этим спасается! Позвонила Алдановой – к телефону никто не подошел. Вот и сижу и бросаю взгляды на прохожих. Акведук снесен, получилась широкая улица, посреди возвышение для машин. Их теперь здесь видимо-невидимо… Я сегодня надела свой серый костюм: распускаются деревья. Небо синее, безоблачное. Пишу письма и «беседую с памятью»…»
Письмо датировано 4 апреля 1961 года. 7 апреля «Русские новости» сообщили, что Вера Николаевна умерла 3 апреля. Кто-нибудь да ошибся датой – газета или В. Н. Бунина. А все же они были эти ее неторопливые полтора часа ожидания и синее апрельское небо над бульваром Экзельманс …
В доме № 39 по бульвару у знаменитого скульптора Карпо была мастерская. Этот дом достраивал Гимар, которой воздвиг здесь также дом № 7 на улице Фрилер.
От бульвара отходит улочка Клод Лоран. Там тоже есть маленькая русская церковь, в которой мне довелось стоять как-то ночью на Пасху. А рядом с церковкой небольшое французское кладбище Отей, где похоронены Шарль Гуно, Гаварни, Юбер Робер, мадам Эльвесиюс. О, эта мадам Эльвесиюс! В ее особняке на улице Отей (№59) бывали лучшие люди эпохи Просвещения – и Дидро, и Гольбах, и Андре Шенье, и д'Аламбер, и Тюрго, и Томас Джефферсон, и Бенджамин Франклин. Ее кружок называли «Обществом Отей», а саму мадам Эльвесиюс – «Отейской мадонной» (Notre-Dame d'Auteil). Двое из названных мною друзей дома были влюблены в хозяйку и к ней сватались – Тюрго и Франклин. Тюрго был знаменитый экономист, финансист, одно время генеральный контролер финансов, Франклин – физик (он производил свои опыты в доме № 62 по улице Ренуара, да и жил тут неподалеку), философ, политический деятель, изобретатель громоотвода. Тюрго говорил о нем, что этот человек «вырывает громы у небес и скипетры у королей» (имелся в виду британский король, у которого Франклин вырывал Америку). Тюрго был 81 год, когда он посватался к мадам Эльвесиюс (она была тоже далеко не девочка, но что такое женские 60-70 лет, если женщина духовна, умна, прекрасна…). Франклин, баловень Франции, посол Америки, сватался тоже. Но мадам Эльвесиюс осталась верна памяти мужа. Тюрго умер в 1780-м, Франклина (прижимавшего к груди бутылочку с отейской минеральной водой) на носилках унесли на борт корабля, уплывавшего в Америку. Мадам Эльвесиюс скучала по друзьям, но она пережила и Франклина, лет на десять (она умерла в 1800-м, была похоронена в своем саду, и только позднее прах ее был перенесен на кладбище). Она любила этот сад и сказала однажды Наполеону (тогда еще не Бонапарту и не императору): «Генерал, когда знаешь, как много радостей может доставить клочок земли, меньше думаешь о завоевании мира». Честолюбивый генерал не поверил умной пожилой даме, о которой Вольтер говорил, что с увяданием ее красоты расцветает ее ум, – и напрасно не поверил… Наполеон жил в этом особняке позднее, а потом здесь жил его племянник принц Пьер Бонапарт, который прославился лишь тем, что в разгар спора вдруг выхватил пистолет и застрелил журналиста, который не соглашался с его мнением (это случилось в 1870 году).
Неподалеку от особняка мадам Эльвесиюс в доме № 40 по улице Отей размещалась знаменитая харчевня «Белый баран», в которой любили некогда пировать Мольер и его друзья (прелесть этих застолий вспоминала другая умная дама – мадам Севинье).
Улицу Отей соединяет с бульваром Экзельманс старинная улица Буало. Знаменитый поэт XVII-XVIII веков, автор трактата «Поэтическое искусство», в котором он изложил каноны классицизма, Никола Буало владел поместьем, находившимся неподалеку от того места, где стоит сейчас бюст Макса Волошина, возле бывшей аэродинамической лаборатории Эйфеля и нынешнего вьетнамского посольства. Поэт принимал здесь друзей, радовался своему саду, воспевал в классических стихах своего садовника Антуана и его жену Бабет.
Эктор Гимар построил здесь дом № 34 (первый свой особняк) на месте дома Юбера Робера.
А в доме № 16 была водолечебница, нечто вроде санатория, который посещали Наполеон, Адольф Тьер, Карпо, Дюма, Гюго и Альфонс Доде.
Дом № 7 по улице Буало удостоился мемориальной доски, сообщающей, что в этом доме жил Николай Евреинов. Это был театральный человек – режиссер, драматург, теоретик и историк театра. Он был очень знаменит перед войной в Петербурге, где театральная жизнь била ключом. Без его участия и присутствия не обходились и артистические кабаре вроде «Бродячей собаки» или «Привала комедиантов», где он пел свои песенки и частушки, импровизировал на разнообразных инструментах. Без него не обходилось ни одно начинание авангардного театра. Он был вообще (еще со времен своего «Старинного театра») ключевой фигурой русского авангарда. В то же время это был человек ученый, теоретик и историк театра, который читал лекции на драматических курсах, разрабатывал собственное понятие о «театральности» и одну за другой выпускал серьезные книги по теории и истории театра («Введение в монодраму», «Театр как таковой», «Театр для себя», «Крепостные актеры», «Нагота на сцене»). В 1920-м он ставил в Петербурге массовое действо «Взятие Зимнего дворца», а в 1921-м поставил собственную, очень знаменитую пьесу «Самое главное», которая обошла впоследствии сцены многих театров мира (переведена на 15 языков).
С 1927 года H. Н. Евреинов жил в Париже, где продолжал ставить драматические спектакли и оперы, писал новые пьесы и фундаментальные труды по теории и философии театра, написал несколько киносценариев. Он продолжал так же интенсивно работать в годы второй мировой войны и после войны. Любопытно, что его историческое исследование «Караимы» помогло этому маленькому народу в годы оккупации избежать нацистских лагерей (караимы исповедуют иудаизм, но по крови они, если верить им самим и Евреинову, не евреи). Евреинов выступал после войны с передачами по французскому радио, поставил в «Казино-Монпарнас» на французском языке ревю по своим пьесам, успел закончить книгу об эмигрантском театре в Париже и «Историю русского театра».
На мемориальной доске не указано, что в том же доме № 7 жил другой замечательный русский эмигрант – писатель и художник-каллиграф Алексей Ремизов. Странную парижскую квартиру этого странного писателя посещало множество людей. Книги его издавали по-русски и по-французски: в эмиграции он издал до 1957 года по-русски от 45 до 50 книг. В мемуарах В. Яновского есть такой «сводный» портрет Ремизова:
«Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым умным взглядом… Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь…»
Ремизов создал у себя дома «Обезьянью палату» и выдавал ее членам грамоты, написанные его поразительным почерком: он был великий каллиграф, и художество его ценил сам Пикассо. И если тот же Яновский относился ко всей этой игре в странность с подозрительностью, то Борис Филиппов, например, как и многие другие, считал, что это лишь своеобразный «уход от жизни».
Еще один славный русский эмигрант жил на улице Буало (в доме № 59). Это был самый знаменитый из молодых русских писателей, рожденных эмиграцией, – Владимир Набоков. Позднее он стал знаменитым американским писателем, а недавно, хотя бы и посмертно, смог вернуться в Россию. На улице Буало Набоков с семьей прожил почти год, до самого бегства в США. Набоковы очень нуждались, и снова, как в молодости, Набоков искал учеников. Симпатичный Саба Кянжунцев давал теперь школьному другу ежемесячную субсидию. Когда Набокова свалил приступ межреберной невралгии, его посетила на улице Буало бывшая жена его покойного друга Ходасевича Нина Берберова, которая сделала такую запись (позднее вошедшую в ее мемуарную книгу):
«Нищая, глупая, вонючая, ничтожная, несчастная, подлая, все растерявшая, измученная, голодная русская эмиграция (к которой принадлежу и я!). В прошлом году на продавленном матрасе, на рваных простынях, худой, обросший, без денег на доктора и лекарства, умирал Ходасевич. В этом году – прихожу к Набокову: он лежит точно такой же. В будущем году еще кого-нибудь свезут в больницу, собрав деньги у богатых, щедрых и добрых евреев. (Принесла Набокову курицу, и Вера сейчас же пошла ее варить.)».
Нынче-то в этих кварталах бедные, пожалуй, не живут больше. В особняках близ Волошина сменились все жильцы. Это нынче шикарные кварталы…
На коротенькой улице Нарсисс-Диас, что лежит между улицей Мирабо и Версальской авеню, в доме № 7 находилась до войны клиника Мирабо. 9 февраля 1938 года в эту клинику, где работало тогда много русских (в том числе и в администрации), поступил с приступом аппендицита сын Троцкого Л. Седов. В тот же вечер он был оперирован, назавтра он почувствовал себя хорошо, и у его постели больше никто не дежурил. В ночь с 13 на 14 февраля ему стало вдруг хуже. 14-го он был снова оперирован и в тот же день умер.
За ним охотились давно. Было сделано несколько покушений на его жизнь, которые не увенчались успехом. За год до своей смерти Седов предупреждал на страницах журнала «Конфешн»:
«Хочу предупредить общественное мнение, что, несмотря на все, что мне пришлось пережить за последнее время… я вовсе не собираюсь ни исчезнуть, ни покончить самоубийством. Если со мной что-нибудь случится, то виновных нужно искать у Сталина, и никого другого».
19 июля 1938 года Троцкий прислал письмо следователю, который выяснял причины смерти его сына:
«Благодаря московским процессам мир узнал, что светила русской медицины под руководством бывшего шефа тайной полиции Ягоды ускоряли смерть пациентов средствами, следы которых позднее было невозможно или трудно обнаружить…
Учитывая все обстоятельства дела и пророческое предсказание самого Седова… следствие не должно пройти мимо предположения, что смерть не последовала в результате естественных причин… ГПУ не могло не воспользоваться случаем иметь своих агентов в клинике или поблизости от нее».
Уж наверняка «не последовала в результате естественных»… Судя по опубликованным недавно в Москве «убийственным» мемуарам генерала КГБ Судоплатова, героическим усилиям по убийству всей семьи Троцкого и самого ненавистного экс-конкурента Сталин придавал «государственное значение» и денег на это не жалел. Как с гордостью сообщает генерал, ответственное задание вождя было выполнено. А чего достиг Сталин, по-дикарски вырезав семью этого малоприятного Льва Давыдыча? Того, что не только Троцкий представляется нынче здешним не слишком начитанным левакам жертвою Сталина, но и троцкизм представляется жертвою сталинизма. Так, может, думают они, он и есть тот улучшенный вариант марксизма, которого жаждет их бунтарская душа?.. В результате даже легальные и полулегальные троцкисты, объединяясь, догоняют и обгоняют здесь легальных коммунистов на выборах. А ведь вдобавок Троцкий, как и Ленин, учил их конспирации. Сколько же их тут еще, нелегальных? Сам здешний премьер-социалист, как походя сообщила французская пресса, «из троцкистов». А что Троцкий был одним из главных творцов пореволюционного террора и ГУЛАГа – этого здесь ни один левак не знает (и знать не хочет)…
Ну а что в клинике Мирабо, перед которой застал нас этот печальный разговор, персонал был русский, так это неудивительно.
Это были «русские» кварталы между войнами, здесь была русская инфраструктура. И гараж на рю ла Фонтен (в доме № 88) был русский (А. В. Татаринова), и ветеринар на авеню Эмиля Золя (в доме № 45) был свой (больную собачку из русской семьи не надо мучить французским разговором), и кондитерские свои, русские, с сушками и черным хлебом (на Лоншан и на рю де ла Помп), и гастроном свой на Мишель-Анж (дом № 83), и фотограф свой, русский (скажи «изюм», скажи «кишмиш»), на улице Пасси (Маркович, дом № 60), и фруктами-овощами торговал на авеню Золя, как положено, румяный А. Яблоков (дом № 40), и адвокаты свои, и врачи, и зубодеры, и портные, и сапожники… Их всех уже нет больше, конечно…
БУЛОНСКИЙ ЛЕС
Раз уж мы оказались на краю этого знаменитого леса, да еще поутру (или среди дня), да еще в будни, то отчего бы нам не прогуляться по его тропкам и не посидеть на скамейке в тенечке, как, бывало, сиживал Александр Куприн, живший неподалеку, или Александр Вертинский, прогуливавший тут собаку?
Булонский лес. Знаменитый Булонский лес. Ну, лес не лес, а парк огромный, площадью 863 гектара, 140 000 деревьев (если парижская рождественская буря на переломе нового тысячелетия числа их не убавила) – и по большей части дубы. Но когда-то ведь и лес тут был, самый настоящий лес, включавший и Медон, и Монморанси, и Сен-Жермен-ан-Лэ и носивший титул Дубового леса: охотились тут на оленей, на волков, кабанов и медведей. А почему Булонский, это известно. В 1308 году ходили лесорубы из здешней лесной деревушки на богомолье в приморскую Булонь (Булонь– сюр-Мер) поклониться Булонской Божьей Матери, пришли растроганные, испросили разрешения у тогдашнего короля (Филиппа IV Красивого, известного своими некрасивыми поступками) построить тут у себя в лесу церковь, подобную булонской. Король разрешил, они церковь построили и нарекли Малой церковью Булонской Божьей Матери (Notre-Dame-de-Boulogne-le-Petit). Ну а с веками церковь исчезла, а название пристало к лесу. Лес был еще серьезный, таились в его чаще разбойники, так что славному королю Генриху IV пришлось построить у кромки леса крепостную стену с воротами (он же велел насадить тут 15 000 тутовых деревьев и разводить шелковичных червей). При Людовике XIV прорубили для нужд охоты первые просеки и дороги, что расходились лучами (они и в XXI веке еще заметны). Уже тогда начались променады в лесу и впервые заложены были эротические традиции этих мест, от которых осталась среди прочего пословица: «В Булонском лесу жениться – кюре не нужен». То бишь под дубом на траве и венчаются (как у наспод сосной). Впрочем, уже со времен Регентства высоко ценила лес и элегантная публика, строилась к лесу поближе – в Нейи и Мюэт, в Ранелаге и Багатели. В пору Революции приходилось в здешнем лесу прятаться не одним браконьерам, но и прочему гонимому люду, а прогнав непобедимого императора Наполеона, встали здесь постоем русские, пруссаки да англичане. Что остается после солдатского постоя, представить себе нетрудно, но в 1852 году истинный благодетель Парижа, паркоустроитель Наполеон III присоединил лес к городу, выделил два миллиона на его восстановление и обустройство, тут-то и закипела работа.
На месте погибших дубов сажали каштаны, сикоморы и акации, строили павильоны, устраивали водопады – в общем, ориен-
тировались на лондонский Гайд-парк, от которого в восторге был англоман-император. Около сотни извилистых, петляющих аллей пришли на смену французским, прямым, с угловатыми перекрестками, вырыты были пруды и питающие их колодцы, засверкали озера. А еще устроен был ипподром Лоншан, построены для людской пользы киоски (первый из них – самим Давиу), шале и рестораны. Проложили от площади Звезды до самого парка авеню Императрицы, вызвавшую всеобщий восторг (нынче и сама авеню и название слегка поскучнели – называется авеню Фош, – но все еще, несмотря на бензиновую вонь, она радует глаз). Дальше – больше. У окружного бульвара построили обширный стадион – Парк де Прэнс, а чтобы хоть чуть облегчить дыхание в этих зеленых «легких Парижа», автостраду увели в туннель…
Конечно, в былые времена легче было отыскать в этом парке лесную атмосферу и уголки, навевающие воспоминания о лесных разбойниках. Сохранялся, впрочем, и позднее кое-какой разбой. Как-никак именно здесь б июня 1867 года неистовый поляк из Волыни Антон Березовский дважды выстрелил в медленно проезжавшего по лесу русского «царя-освободителя» (как видите, всем не угодишь, всех не освободишь).
«Хвала Небу, никто не был ранен, – сообщала в своих мемуарах одна знатная дама. – Между тем раненая лошадь, дернувшись, забрызгала кровью императора Александра и великого князя Владимира. Александр II, увидев, что одежда его сына в крови, подумал, что он был ранен… Это был страшный момент».
В конце концов выяснилось, что ни великий князь, ни император не пострадали. В толпе заметили при этом, что русский император встретил опасность с «надменным равнодушием», но ведь мало кому из французов было известно, что великий воспитанник Жуковского был вообще не робкого десятка, что так же хладнокровно стоял он перед Каракозовым и что это он удержал тогда толпу от расправы над террористом. В донесении французскому правительству о парижском покушении сообщалось:
«Император в момент покушения и после него проявлял величайшее хладнокровие. Вернувшись во дворец, он принял своих министров и сказал им: „Вот видите, господа, похоже, что я гожусь на что-то, раз на меня покушаются"».
Гораздо печальнее кончилась прогулка близ Булонского леса для другого русского – сорокасемилетнего экономиста, бывшего директора таинственного Банка Северной Европы Дмитрия Навашина: он был зарезан во время прогулки 25 января 1937 года. Полиция не нашла (и, скорей всего, не искала) убийцу. Троцкий писал тогда по этому поводу из своего мексиканского убежища (тоже оказавшегося ненадежным):
«Дмитрий Навашин слишком много знал о московских процессах. Недавно агенты ГПУ похитили в Париже мои архивы (двадцать лет спустя агент ГПУ Марк Зборовский похвастал комиссии Маккарти, что это он украл и отправил в Москву архив. – Б. Н.). Вчера они убили Навашина. Теперь я опасаюсь, чтобы мой сын, который считается у них врагом № 1, не стал их следующей жертвой».
В 70-е и 80-е годы XX века опушка Булонского леса с наступлением темноты превращалась в аттракцион ужасов, равный которому никогда не удавалось создать высокооплачиваемым изобретателям диснейлендов. Мне доводилось проезжать там на машине с приятелем, который хотел меня позабавить. Я так и не понял, почему это казалось ему забавным… Вдоль дороги, опоясавшей лес, стояли на обочине посиневшие от ночного холода полуголые женщины. Фары нашей машины выхватывали из полумрака то синие толстые ноги, то раздутые силиконом груди. Какие-то бесстрашные мужчины, остановив машину, о чем-то с ними договаривались через полуоткрытое окно машины, может быть о цене. О цене чего – радости, отвращения, болезни, гибели? Какие-то вовсе уж бесстрашные фанатики выходили из машины и шли за этими посиневшими амазонками во мрак леса. Что могло их там ждать? Позднее я прочел, что бразильские мужикобабы вытеснили в Булонском лесу устаревших гетеросексуальных тружениц. Еще позднее заботливая полиция переселила их в какой-то другой лес под Парижем. Полиция заботилась о чистоте леса, куда поутру придут няни и мамы с детишками…
Дневной Булонский лес манит парижан, особенно по выходным дням (отчего я и предложил вам гулять в будни) – катаются граждане в лодках по Верхнему и по Нижнему озеру, а там и водопады (как же романтическому парку без водопадов?), и острова. На островах, понятное дело, рестораны (иные фланеры, чтоб не маяться, сразу доезжают на катере до ресторана – и гуляют). Замечательна та часть парка, что носит имя провансальского трубадура, которого зазря убили алчные охранники Филиппа IV (король велел их сжечь живьем за этот безнравственный поступок), – Пре Каталан: здесь тенистые аллеи, просторные лужайки, цветы. Есть еще сад Шекспира, там все цветы, что упомянуты в пьесах и сонетах великого Уильяма, и живые декорации для постановок по его пьесам. А есть ведь еще среди леса ботанический сад, есть музей народных обычаев и народного искусства, есть Королевский павильон, есть теплицы, есть детский центр, есть замок, есть старая мельница – всего мне не описать. Ограничусь одним прелестным уголком Булонского леса – укромным и элегантным парком Багатель (что значит – «безделица», и то сказать, площадь его всего 24 гектара, и пруд, и цветы). Это райский уголок, и впервые мне довелось там гулять не одному, а с прекрасной француженкой. Вот как это случилось. Я сидел дома (шел очередной год моей безработицы), когда позвонила какая-то дама и попросила меня давать ей уроки русского: русская подруга сказала ей, что я бегло говорю по-русски, а ей как раз нужен «разговорный русский». Она даже будет платить мне за уроки, только очень-очень мало. Я спросил, почему так мало.
Она сказала, что разговорный русский не может цениться высоко, тем более что она очень красивая женщина. Я согласился, только предложил, чтобы мы разговаривали на свежем воздухе, очень надоело сидеть дома. И вот она заехала за мной и повезла меня в сад Багатель. Там мы гуляли вокруг пруда и мило разговаривали по-русски (или почти по-русски). Она рассказала мне, что лет десять изучала наш язык, а потом еще пять лет работала в Москве. В конце концов я все же спросил, отчего же она так плохо говорит по-русски после всех этих усилий. Она с милой простотой объяснила мне, что она чистая француженка, а французы, как ей кажется, не способны выучить иностранный язык. Я спросил, зачем ей тогда эти новые усилия на ниве «разговорного русского», и она так же простодушно объяснила, что через неделю с визитом во Францию приедет М. С. Горбачев и французский МИД пригласил ее, мою ученицу, быть переводчицей при Р. М. Горбачевой (царствие ей небесное!) и при этом ей будут платить… (она назвала сумму, раз в 60 превышавшую мое профессорское вознаграждение). Я хотел спросить, почему пригласили именно ее, но вспомнил, что она уже объясняла мне про это по телефону: она красивая женщина. Это я мог понять. Лет 15 спустя этого никак не могли понять две следовательницы парижской прокуратуры, дотошно выяснявшие, почему глава МИД месье Роллан Дюма устроил своей любовнице через нефтяную компанию то ли 15, то ли 45 миллионов комиссионных (за чужой счет, конечно). Ну а я все понял еще тогда, в прекрасном саду Багатель, и потерял всякий интерес и к «разговорному русскому», и к французской внешней политике. Но не утратил интереса к прекрасному Багателю и его истории…
Замком Багатель владел браг Людовика XVI граф д'Артуа. Он пообещал прекрасной свояченице Марии-Антуанетте построить замок до конца охотничьего сезона 1777 года и выполнил обещание: замок был построен архитектором Беланже и восемью сотнями мужиков за два месяца: «маленький, но удобный». В 1782 году граф д'Артуа принимал в этом замке графа и графиню Норд из России. Это были путешествующие как бы инкогнито русский великий князь-наследник, будущий император Павел I и его супруга эльзасского происхождения, будущая русская императрица. Ее подруга детства бароннеса д'Оберкирх вспоминала позднее, что в тот вечер в замке играли лучшие музыканты Парижа, да и «закуска была после этого в высшей степени изящной».
В 1835 году замок купил у герцога де Берри лорд Ричард Сеймур, герцог Хертфордский или четвертый маркиз Хертфордский, и эта англо-французская эпопея заслуживает более подробного рассказа.
Ричард Сеймур-Конвей, будущий четвертый маркиз Хертфордский, детские и отроческие годы провел с матерью в Париже. В Англию он вернулся шестнадцати лет от роду, стал кавалерийским офицером, прозаседал лет семь в палате лордов, посетил Константинополь, а в возрасте 35 лет купил у герцога де Берри замок Багатель и окончательно поселился в городе своего детства. У него была огромная квартира в доме № 2 по улице Лаффит, которая выходила на бульвар Итальянцев. Здесь он и проводил большую часть своего времени. Человек он был замкнутый, странный, малообщительный. Неохотно выходил из дому. Современник его рассказывает, что, когда во время Революции толпа проходила мимо его дома, он даже ни разу не откинул занавеси, чтобы взглянуть на улицу. Он никогда не был женат. Может, супружеские приключения второго маркиза, чья жена была слишком близка к принцу Уэльскому, да и семейные невзгоды его отца, третьего маркиза Хертфордского, не слишком вдохновляли его на брак. Впрочем, когда ему исполнилось 18 лет, некая миссис Агнес Джэксон родила от него сына, которого она назвала Ричардом и который носил материнскую фамилию, поскольку маркиз не признал своего отцовства.
Чем же занимался в свои уединенные парижские годы сэр Ричард Сеймур-Конвей, четвертый маркиз Хертфордский, потомок царедворцев, камергеров и послов Великобритании (еще ведь и первый маркиз Хертфордский был послом в Париже)? Он занимался тем же, чем занимались многие богатые и образованные люди его времени, – собиранием предметов искусства и старины, умножением семейной коллекции. Он разделял пристрастие своего отца к дореволюционной французской живописи, к Ватго, Грезу, Буше и Фрагонару, к французской кабинетной мебели таких мастеров, как Годрео и Ризенер, Вейсвейлер и Буль. Он приобрел богатейшую коллекцию старинных рыцарских доспехов и оружия. Но он покупал и голландских мастеров живописи, таких, как Рембрандт и Франс Хале, и великих мастеров других стран – Веласкеса, Ван Дейка, Рубенса. Особое пристрастие он испытывал к Мурильо и Грезу.








