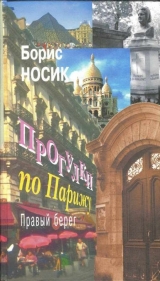
Текст книги "Прогулки по Парижу. Правый берег"
Автор книги: Борис Носик
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
Запад есть Запад, Восток есть Восток
НЕУЮТНАЯ ПЛОЩАДЬ НАСЬОН НА ВОСТОЧНОЙ ОКРАИНЕ
Тем, кто вместе со мной дошагал до самого конца улицы Фобур– Сент-Антуан, предлагаю все же заглянуть на площадь Нации (place de la Nation), раз уж мы оказались рядом.
Не могу сказать, чтобы я лично любил эту большую, неуютную, заставленную какими-то памятниками, а все же словно бы необустроенную площадь, имеющую четверть километра в диаметре. Иногда мне приходится проезжать здесь в нервном стаде автомобилей, еще чаще – делать под землей пересадку со своей симпатичной надземной шестой линии метро (Насьон-Шарль-де-Голль-Этуаль) на другие, менее симпатичные, но уж совсем редко – и без особой радости – доводится проходить здесь пешком. А все же, думаю, прогулка такая будет небесполезна. Особенно для поклонников Великой французской революции и ее родной дочери Великой Октябрьской, которых немало развелось в нынешнем, сравнительно свободном мире.
В старину площадь эта называлась Тронной. Названием этим она обязана была счастливому событию, имевшему место в 1660 году, – женитьбе короля Людовика XIV на испанской инфанте Марии-Терезии. Дорога от Венсеннского замка к Лувру пролегала тогда через ворота, стоявшие у нынешней площади Насьон, и вот к прибытию молодоженов на площади был установлен трон с покрывалом, украшенным королевскими лилиями. В те шумные праздничные дни площадь и получила свое тронное название. Собственно, она тогда еще даже не была похожа на площадь, да и дороги подходили к ней по большей части немощеные, деревенские. Но великое матримониальное событие на королевском уровне должно было сделать площадь прекрасной, так что решено было украсить эту восточную заставу триумфальной аркой. Как и многие благие решения, принимаемые в жениховском угаре, это свадебное намерение короля было позже предано им забвению, а от задуманных сгоряча сооружений остались потомству лишь цоколи колонн.
Через столетие с небольшим площадь эту было приказано все же украсить. Обустройство ее поручили Никола Леду, тому самому, что украсил и другие окраинные барьеры для сбора пошлины на заставах города Парижа. Элегантные павильончики Леду должны были то ли подчеркнуть важность и неизбежность поборов, то ли, напротив, позолотить пилюлю, смягчив горечь непредвиденных трат. Повинуясь высочайшему указанию, Никола Леду воздвиг в восточной части Тронной площади два элегантных павильончика и две высокие колонны. Позднее король Луи-Филипп приказал водрузить на эти колонны статую Святого Людовика и свою собственную статую – там они и ныне стоят, оборотясь лицом к Венсеннской заставе и оберегая покой города-светоча.
Дальнейшие акции украшения площади не оставили никаких материальных следов. Карл IX, приехав сюда после коронации из Реймса, предпочел просто проехать между павильончиками Леду, не затевая по этому поводу ничего специального, а Наполеон III ограничился пристройкой к колоннам Леду временного (матерчатого на деревянном каркасе) подобия триумфальной арки. Это произошло, впрочем, уже в мирном 1862 году. А в 1899 году площадь украсилась скульптурной группой Далу, носящей пышное имя «Триумф Республики». Собственно, Далу предназначал свое творение для площади Республики, но комиссия экспертов решила спасти эту симпатичную площадь от нескладного шедевра, и шедевр отправили в ссылку на восточную окраину. В этой триумфальной скульптурной группе есть все, что необходимо республике для ее триумфа, – и олицетворение Духа Свободы, потрясающее факелом, и какие-то энергичные Труженики, и Правосудие со своими весами, и безвестная нагая дама с пышными формами, и милое дитя, и рог изобилия, и Марианна в колеснице, влекомой львами…
Самое удивительное, что и ныне у подножия этого скопления неживых персонажей вполне еще живые парижане ухитряются среди бензиновой вони и автомобильного грохота сражаться в «петанк»… В общем, малоинтересная площадь Нации не часто была отмечена в истории событиями поистине великими. Впрочем, однажды такие события все же выпали на ее долю. Как вы, наверное, заметили, великими чаще всего принято именовать людей и события, отличившиеся особой, незаурядной жестокостью и выходящим из ряда вон кровопролитием. Такие события выпали на долю унылой Тронной площади в эпоху Великой французской революции. В начале революции пришедшее ей на помощь рационализаторское приспособление доктора Гильотена для быстрейшего отсечения голов (по имени гуманиста-доктора названное гильотиной) было установлено на нынешней площади Согласия (в ту пору площади Революции), но работало оно тогда еще не вполне регулярно. По мере достижения всенародного счастья машина стала работать в полную силу, и посыпались жалобы обитателей слободы Сент-Оноре (а позднее, после перемещения машины, и слободы Сент-Антуан) на то, что в соседних домах у граждан нестерпимо пахнет кровью, а вдобавок эти красные, обитые жестью фургоны со свежими трупами по ночам поливают кровью улицы. Вот тогда-то, 14 июня (а выражаясь революционно – 25 прериаля), головорезную гильотину и выдворили на окраину, на Тронную площадь, которая была к тому времени переименована в площадь Опрокинутого Трона. И закипела работа! С 14 июня 1794 года по 27 июля (по-революционному говоря, до 9 термидора) труженики террора успели отрезать больше тринадцати сотен голов. Конечно, для товарища Дзержинского и его друга Ленина (а уж тем более для Сталина, Ягоды, Ежова и Берия) эта цифра показалась бы мизерной, но тогда ведь и масштабы были другие, и население в сотни раз меньше. Как утверждают здешние поклонники революции, убивали тогда только аристократов, ученых, поэтов и прочий цвет нации. Но на самом-то деле более половины граждан, укороченных на голову, были простые французские труженики, работяги, священники и монашки…
Страдные выпали деньки для тружеников гильотины. Знаменитый королевский палач Сансон, мобилизованный и призванный революцией, чтобы послужить родному народу, показал здесь рекордное, или, как говорили позднее, стахановское, время, отрезав за 24 минуты 54 головы своим соотечественникам. Народ ему под нож попадался разный, в возрасте от 18 до 80 лет, все, понятное дело, несознательный и не созревший еще для свободы народ. Привезли к нему, например, 16 монахов-кармелитов из Компьеня, так несознательность их дошла до того, что они легли под нож с пением молитвы, а не «Марсельезы»…
Зато рабочее место оказалось идеальным. Красный фургон, крытый жестью, стоял тут же, неподалеку, и, когда он заполнялся телами казненных и их отделенными от туловища головами, лошади тащили его на старую сельскую дорогу, пролегавшую от аббатства Сен-Дени к аббатству Сен-Мор. В деревушке Пикпюс на нынешней улице Пикпюс у дома № 35, на территории реквизированного революцией монастыря августинцев, находилась новая тюрьма, устроенная тут в добавление к прежним тюрьмам той же улицы. Тюрьма называлась красиво, по-революционному – «Дом заключения и здоровья». Как насчет здоровья, неизвестно, но тем, кто регулярно платил взятки директору тюрьмы месье Куаньяру, удавалось худо– бедно отсидеться в этой тюрьме и таким образом избежать гильотины. Хуже было тем, у кого кончались деньги. В июне 1794 года по приказу сверху монастырский сад был у тюрьмы отобран и в нем стали зарывать в общих ямах трупы, привозимые с ближней площадной головорезки. Сперва в пещерах по краям сада трупы, конечно, обирали и раздевали, а потом швыряли их в ямы в полном соответствии с революционной инструкцией, которая предписывала хоронить «без гроба и без савана, да так, чтобы не оставалось никаких знаков, которые бы позволили семьям опознать своих мертвецов и подыскать им иное захоронение».
Среди казненных и брошенных в эти ямы, как все же удалось выяснить, несмотря на революционную конспирацию, были представители семей Лафайет, Монталамбер, Шатобриан, Ноай, Ларошфуко, Монморанси. Из рода Монморанси была, в частности, казненная на здешней площади старушка настоятельница Монмартрского аббатства. Она была уже совсем дряхлая, полуслепая и совсем глухая, так что ей трудно было понять, чего от нее допытываются идейные судьи из Комитета общественного спасения. Убедившись в ее убожестве, комитет славного Сен-Жюста объявил, что старушка «слепо и глухо» злоумышляет против общества, и отправил ее на смерть. В последнюю здешнюю яму вместе с шестнадцатью ни в чем не повинными монахами-кармелитами сброшен был воспетый Пушкиным поэт Андре Шенье. Ну он-то хоть вначале, до казней, приветствовал революцию, а монахов вот за что угробили, объяснить трудно. Монахов, впрочем, и после Великого Октября убивали почем зря без объяснений. Наверное, тоже за отсталость и политическую незрелость.
Успели уже на рю Пикпюс вырыть новую, третью яму, но тут вдруг все застопорилось. Выяснилось, что казнили самого Робеспьера, а с ним и непреклонного блюстителя бедности и чистоты, супершефа Комитета общественного спасения Сен-Жюста, требовавшего казнить всех, кто не успел дорасти до его уровня сознательности. Тут можно упомянуть, что славный этот Сен-Жюст известен был на улице Пикпюс еще и до начала революционных событий. В доме N s4 по улице Пикпюс издавна размещалась тюрьма, в которой почти три года (до марта 1789 года) и томился будущий бестрепетный комиссар Сен-Жюст. Не следует думать, что он досрочно занялся политикой. Просто, испытывая острую нужду в деньгах (разоблачать которые он научился лишь чуть позже), он ограбил дом собственной матушки и, не найдя вожделенного золота, украл все ее серебро. Матушка пожаловалась королю, что вот так– то сынок-подлец отблагодарил ее «за все ее добро и нежность», а король упек будущего комиссара в тюрьму. Зато революция сразу нашла Сен-Жюсту высокий пост, где он развернулся вовсю. Так что выдвижение уголовников на высокие государственные посты вовсе не было изобретением русской революции.
Нынче и кладбище Пикпюс (его называют также кладбищем Революции), и бывший тюремный дом вернулись в ведение монашек. Снова зеленеют в саду вязы, цветут фруктовые деревья, пестреют на клумбах цветы. А перед кладбищем на доске написаны имена тех, кому отрубили голову на нынешней площади Насьон. В списке этом 1298 имен, но список, как считают специалисты, неполный…
«БЛОШИНЫЙ РЫНОК»
Неподалеку от площади Нации (place de la Nation), сразу за окружным бульваром, у заставы Монтрей лежит «блошиный рынок» Монтрей. Это в Париже не единственный «блошиный рынок» (marchй au puce), и они все у окружной дороги. В том, что «блошиные рынки» граничат с окружной дорогой, нет никакой случайности. В 1841 году знаменитый Адольф Тьер (будущий «палач Коммуны») огородил Париж стеной укреплений, а вдоль этой стены (ныне здесь окружная дорога и кольцо бульваров) прошла в этих бедняцких районах свободная полоса, куда стали перебираться из центра города гонимые властями тряпичники и барахольщики. Мало-помалу тут и расцвела их торговля.
Со временем самые старые барахолки обрастают красивыми павильонами и палатками, служат усладе туристов и не так уж дешевы, как можно было бы ожидать. Но этот вот рынок у восточной заставы Монтрей еще долгое время сохранял, отчасти и теперь сохраняет, свой вполне «барахольный» характер, и еще на моей памяти над кучами не слишком гигиеничных сокровищ маячили плакаты со вполне божеской ценой – один франк. Открыта барахолка три дня в неделю – в субботу, воскресенье и понедельник, и даже в те времена, когда мне уже ничего больше там не было нужно – ни для себя, ни для Москвы (где все тоже давно появилось и где, напротив, любят все новенькое и модное), ни для деревенского дома, я все еще ездил иногда на «пюс» – просто поглазеть… Вон арабская женщина выбирает детскую ношеную одежонку для своих многочисленных детей – рожает часто, одежи не напасешься (глянь, как просияло лицо, что-то нашла). А вон две смелые девушки из хорошей семьи ищут оригинальную шляпку, что-нибудь ретро, что-нибудь забавное, по своему вкусу – такие сами создают моду, а не гонятся за модой. Вон какой-то книгочей листает брошюру Троцкого – странно, сроду не видел здесь троцкиста, который прочел бы Троцкого, достаточно им модной легенды и «левого» конформизма. А эти вот деловые – это хозяева антикварных лавок, ищут что-нибудь стоящее на перепродажу. А вон компания полячек перебирает кофтенки, причитая на своей нежной мове, полной ласкательных суффиксов: «Попатш, щлична хустечка…» А вот лихие парни из предместья меряют кожаные куртки… Иногда я различал какую-нибудь стыдливую пару, которая, оглядевшись, о чем-то переговаривалась чуть ли не шепотом, – это наши люди, может, из посольства, где не поощрялось прибарахление в малопрестижных местах вроде «Тати» или «пюса». Обнаружив их рядом, я запевал «Катюшу», и, если догадка была правильной, они исчезали мгновенно, а я неизменно испытывал угрызения совести: дурак ты, Михалыч, и шутки твои дурацкие… Позднее стало попадаться все больше вольных туристов. Переводя в уме франки на деревянные рубли, они, кажется, приходили к выводу, что слухи о здешней дешевизне сильно преувеличены, да и вещи-то незавидные. Если б они еще знали, на какой свалке подобрал все это старательный марокканец…
По мне, «блошиный рынок» не покупками был интересен, а странностью предметов и странностью здешних персонажей. Вон красивая арабская девушка, нарядившись в форму американской морской пехоты, продает в Бог знает какой китайской мастерской пошитую униформу. А вон старушка в перьях, точно только что со сцены, из старого парижского канкана, продает какие-то странные щипцы, похожие на орудие пытки. А вон на расстеленном брезенте – восточный кич из Гонконга, коробки из-под печенья, африканская кожа, французские старинные орудия сельскохозяйственного труда (серпы, похожие на таджикские «досты»), китайские сласти, бумажные цветы, разнообразные подделки под все самое моднющее. А бывают и совсем новые вещи, только очень старой моды – где уж они валялись последние полвека?
Когда-то самым модным был «блошиный рынок» у заставы Сент-Оуэн (его называют по станции метро – «Клиньянкур»). Здесь до войны бывали поэты-сюрреалисты. Часто бывал здесь их вождь Андре Бретон, который объяснял в своем романе «Наджа», что приходит сюда «в поисках предметов, которых больше нигде не сыщешь, вышедших из моды, неприменимых, почти непостижимых и даже извращенных…».
На старом Клиньянкуре различают несколько возникших в разное время рынков – одни специализируются на продаже старой мебели, другие – на ювелирке, третьи – на всяких странностях. И все же тут больше антикваров, чем простых тряпичников…
По понедельникам, когда замирают «пюсы», уборщики вывозят тонны мусора. Ну а зачем эта морока городу, в котором несметное множество магазинов? Да вот подсчитали, что выгодно. За три дня здесь бывает до трети миллиона покупателей, а то и больше, так что оборот неплохой. Да еще иностранцы несут валюту. В общем, стоит похлопотать об уборке…

Иногда на «блошином рынке» такое увидишь, что никакой «Галери Лафайет» не приснится…
В докомпьютерные времена я покупал здесь пишущие машинки. Иногда находил любопытные книги. Здесь я купил свой лучший энциклопедический словарь (еле доволок). Купил удивительной красоты старый молитвенник. Однажды наткнулся на целую корзину книг Пикуля на русском, но не придумал, кому ее можно подарить. Ну и конечно, все мои каминные щипцы, и серпы, и топоры – все оттуда, с «пюса». Как-то я даже купил там любимую пластинку – «Модерн джаз куортет» Джона Льюиса. В другой раз – ковбойскую шляпу и крепкие английские ботинки, которые, конечно же, переживут меня. Создавать свою моду в одежде я, само собой, уже не сумею – надо иметь молодой вкус. Однако еще ловлю непонятный кайф, когда спросят: «Где отыскал такую симпатичную куртку, старик?» Отвечаю с глупым торжеством: «А что, нравится? На «пюсе». Всего за десять франков…»
ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ ПРОГУЛКА В КВАРТАЛЕ ШАРРОН СЕВЕРНЕЕ ЗАСТАВЫ МОНТРЕЙ
Получив квартирку в дешевом доме на окраине Парижа, в XX округе, где-то близ Баньоле, один мой приятель долго зазывал меня в гости, обещая показать симпатичный уголок Парижа. Зная пристрастие парижан к своим собственным «уголкам Парижа», которые, когда к ним привыкнешь, начинают казаться вполне симпатичными, я отбивался как мог.
А все же я выбрался однажды к нему в гости, туда, к заставе Баньоле, – и, право, не пожалел. Сразу после домашнего обеда (полуденного обеда, который тут во Франции называют «завтраком» в отличие от утреннего, настоящего или «малого завтрака», «пети дежене», а также от их вечернего, настоящего обеда-ужина, «дине») мы пошли гулять – мимо улицы Прерий дошли до улицы Сен– Блэз и повернули сперва влево – к улице Витрувия, а потом пошли направо, к церкви Сен-Жермен-де-Шаррон. Вот тут я и понял, что друг мой ничуть не преувеличивал. Это была одна из немногих, чудом сохранившихся, милых парижских деревушек. И на улице Сен-Блэз, и на пересекавшей ее улице Витрувия попадались прошлого века низкие деревенские дома с садиками и двориками, было не по-столичному тихо и мирно.
– Тут, собственно, и была деревня… – сказал мой приятель. – Только в 1859 году Шаррон включили в городскую черту. Вот ты сейчас увидишь…
С этими словами он подвел меня к церкви Сен-Жермен-де– Шаррон…
Церковь стояла на склоне холма, и к порталу ее вели три десятка ступенек: типичная деревенская церковь, притом, оказалось, очень старая. Согласно легенде, именно здесь повстречал в 430 году оксерский епископ святой Жермен совсем еще юную Женевьеву, будущую святую Женевьеву. Внутри церкви есть картина конца XVIII века, которую приписывают кисти Сюве: на ней святой Жермен благословляет святую Женевьеву. Полагают, что церковь эта была построена в XI веке, но, конечно, с тех пор перестраивалась – и в XIII, и в первой половине XV века.
В XVII и XVIII веках церковь эта славилась концертами – для деревенской церкви это было в ту пору редкостью. Теперь-то по субботам и воскресеньям не меньше дюжины парижских церквей предлагают концерты (в том числе и бесплатные) – непременно побывайте…
В мае 1871 года в Шарроне тоже шли жестокие бои между коммунарами и версальцами. Четверть века спустя, когда здесь шли работы, под землей нашли множество скелетов. Это были расстрелянные «федераты»-коммунары. Теперь они захоронены у приходской стены. Вокруг церкви почти по-деревенски дремлет старое кладбище (точь-в-точь как кладбище вокруг церкви Сен-Пьер-де– Монмартр). Наряду со старыми могилами на кладбище есть и сравнительно недавние, а иные из них наводят на особо грустные мысли. Вот, скажем, могила известного романиста, поэта и литературного критика Робера Бразийяка, сгоряча расстрелянного тридцати шести лет от роду 6 февраля 1945 года в форте Монруж по редкостному обвинению – за сотрудничество с немцами-нацистами. Не то чтоб сотрудничество с немцами было тогда редким, но редким было такое наказание. В конце концов, при немцах в Париже не только широко издавались газеты, журналы, книги, но и поставлены были очень знаменитые фильмы, шедевры французского кино, ставились знаменитые пьесы (в том числе пьесы Сартра). Культурная жизнь била ключом, на радость оккупантам: для них пели Эдит Пиаф и Морис Шевалье, танцевал Лифарь, а вот отвечать за всех пришлось Бразийяку. Конечно, он был фашист и расист и, прочитав в 1941 году роман Сименона (который тоже был расистом и тоже печатался при немцах, как никогда), написал восторженно, что автору удалось прекрасно воспроизвести мир этих отвратительных, на все готовых польских эмигрантов… А потом вдруг ушли любезные оккупанты, бедный Бразийяк не успел уехать, как Луи Селин, как брат Сименона, как сам Сименон и другие, не покончил с собой, как Дрие Ларошель, не обзавелся справками о помощи Сопротивлению, как убийца Буске или Папон, не стал, как Буске, другом Миттерана, не сделал послевоенной карьеры, как Папон, да и сам Миттеран, а был впопыхах расстрелян… Царствие ему небесное, Господь, прости нам всем…

В почти деревенском квартале Шаррон стоит старинная церковь Сен-Жермен-де-Шаррон с прелестным «садиком кюре».
Здесь же неподалеку похоронен петеновский министр Поль Марион, умерший через десять лет после войны, а также супруга Андре Мальро Жозет Мальро-Клоти и два его сына – восемнадцатилетний Венсан и двадцатилетний Готье, погибшие в дорожной катастрофе.
Если внимательно читать надписи на плитах этого тихого, почти деревенского кладбища, пройдут перед нами чужие, забытые драмы. Вот умер в 1843 году сын супругов Папье, а следом за ним ушли отец и мать. Надгробие сына находится посередке, между отцовским и материнским, и надпись под тремя соединенными руками гласит: «Сердечно держу я руку отца моего и моей матери». Ушел в лучший мир маршал и кавалер Империи барон Дюшастель де ла Мартиньер, а еще через год после него – кондитер герцогини дю Берри господин Франсуа Померель… А вот покоится семейство Бауэр – господин Анри Бауэр, который был сыном Александра Дюма, а также романист Жерар Бауэр, который великому Дюма приходился внуком.
Надо сказать, что маленькое Шарронское кладбище не чета знаменитому кладбищу Пер-Лашез, что неподалеку отсюда.
Надгробия здесь вполне скромные, а с гигантскими сооружениями Пер-Лашез может тягаться разве что могила того, кого здесь зовут «папаша Малуар». Был он развеселый маляр и выпивоха и помер в Шарроне в мае 1837 года восьмидесяти трех лет от роду. Говорят, что и хоронили его с бутылкой в руке, но перед грядущими поколениями он желал предстать в самом почтенном виде, так что его домохозяин слесарь господин Хербомон соорудил ему огромнейшее, восьмиметровое, кирпичное надгробие, на которое достойным образом уложил купленную на железной барахолке лежачую статую: почтенный господин в костюме времен Первой империи держит в одной руке трость, а в другой – букет цветов. И надпись господин Хербомон сделал пристойную, как того желал его друг и собутыльник папаша Малуар: написал, что почтенный господин Бег (так Малуар был записан в приходской книге) был секретарем самого Робеспьера и время свое проводил вполне изящно за разведением роз, чем сделал себе громкое имя. И то сказать, не писать же было про папашу Малуара, что он ходил всю жизнь перемазанный краской, а пьяным засыпал в канаве, как поросенок. Если вы серьезно думаете о будущем, то заранее поразмыслите, что написать на вашем камне или дощечке, а уж друзья ваши постараются все в лучшем виде исполнить. Если, конечно, у вас есть такие верные друзья, как слесарь и домовладелец месье Хербомон.
В общем, как вы уже поняли, Шарронское кладбище мне очень понравилось, и можно было только сожалеть, что на нем не осталось свободных мест… Еще больше, чем кладбище, мне понравился приходский дом, где живет священник, точнее – его сад, который спускается вниз по крутому склону. Там вперемежку с помидорами и фасолью цвели гортензии, ирисы, львиный зев, лилии, азалии, камелии и еще Бог знает какие цветы, охраняемые шеренгой самшитовых кустов. Я поинтересовался, кто ж это тут развел такую деревенскую красу, и выяснил, что все это достигнуто тщанием кухарки приходского дома мадам Эмилии Мартинес, высокой и красивой блондинки: бывают же вот заботливые женщины, и наверняка ведь правоверная католичка.
Приятель мой сказал, что садик этот как раз то, что называют во Франции «садиком кюре», и что, по его сведениям, таких райских уголков осталось в Париже четыре – есть один при церкви Сен– Филипп-де-Руль, один в Бельвиле при церкви Сен-Жан-Батист и один на бульваре Инвалидов за церковью Сен-Франсуа-Ксавье. Четвертый здесь. Приятель предложил мне в следующее воскресенье обойти все эти садики вместе с ним, и я, конечно, согласился, потому что этот его квартал Шаррон, что в ХХ-м округе, превзошел все мои ожидания. Но, поскольку мы оказались в двух шагах от знаменитого кладбища Пер-Лашез, я предложил посетить и это замечательное место Парижа.








