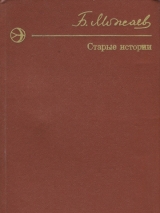
Текст книги "Старые истории (сборник)"
Автор книги: Борис Можаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц)
– Пожалуйста, пожалуйста! – подал коробку полковник.
– Это не твоего ума дело, – ответил Мотяков.
– То-то оно и есть... Вам, Михал Николае, не приходилось видеть, как курушка над утятами командывает? – обернулся Фомич к полковнику.
– Вроде бы у нас в Прудках раньше сами утки сидели на яйцах, – ответил полковник.
– То раньше! А теперь и утки пошли привередливыми. Яйца нанесет, а садиться не хочет. Вот вместо нее курушку и сажают. Та поглупее! – Живой затянулся, пустил дым кольцами, что твой пароход. – Так вот, выведет эта курушка цыплят на выгон и квохчет перед ними, хорохорится, хвост распускает. Все приказывает на своем курином языке – делай то, а не это. Но вот дойдут вместе до озера, утята – в воду и поплыли. А курушка на берегу квохчет. Оказывается, плавать-то она и не умеет. А все командовала – делай то, а не это. Так вот и у нас начальники иные. Сидит на посту, распоряжается – делай так-то и эдак. Командует! А снимут – куда посылать? Он, оказывается, работать-то не умеет.
– Ты на кого это намекаешь? – спросил, багровея, Мотяков.
– Да будет тебе, Семен! Шутки надо понимать, – сказал полковник.
Фомич и ухом не повел.
– Кому надо, тот поймет. А для того, кто не понял, я еще один анекдот расскажу. Это по вашей части, Роберт Иванович.
Тот курил, заслонясь ладонью, и беззвучно смеялся.
– Ты мне ответишь за свои антисоветские анекдоты враз и навсегда! – перебил его Мотяков.
– Это не антисоветские, а против разжалованных вроде тебя, – сказал Фомич.
– Ты что, в озере купаться захотел? – привстал Мотяков.
– Я те не утенок... Смотри, сам не окажись там вроде той курушки, которой охолонуть надо! – Фомич тоже привстал на колено.
– Ну ладно, ладно! – Полковник взял их за плечи. – Здесь пьют, шутят... А кто хочет счеты сводить, мы наградим того штафной.
– А не боишься? – спросил Фомича полковник. – Вдруг Мотяков опять вашим начальником станет?
– Его песенка спета, – сказал Фомич и, помолчав, добавил: – А мне терять нечего, окромя своих мозолистых рук.
– Как нечего? А пристань? Должность!
– Я от этой должности нонешней зимой на одной картошке выехал. Кабы не картошка, ноги протянул бы. При этой должности, Михал Николае, хороший корень в земле надо иметь. А у меня все, что на мне, то и при мне. Яко наг, яко благ, яко нет ничего.
– Тогда иди в колхоз... Пускай корни в землю.
– Рад бы в рай, да грехи не пускают.
– Это что еще за грехи?
– Смолоду нагрешил. Одного на сторону свалил, а пятеро при мне.
– Ну, это ты брось... Главное, нос не вешать. – Полковник поднял розовый колпачок коньяка: – За непотопляемый прудковский броненосец и его славного шкипера Федора Фомича Кузькина!..
18
Однажды хмурым июньским днем к прудковской пристани причалил катер. Забрав пассажиров, капитан сказал Фомичу:
– Вот тебе буксирный трос. Зачаливай свою пристань и руби концы... Приказано доставить твой сундук на участок.
– Это как понимать? – растерянно спросил Фомич.
– Как хочешь, так и понимай. – Капитан был стар и неразговорчив.
– По причине ремонта или как? – допытывался Фомич. – Может, ликвидация?
– В конторе скажут.
Весь путь до Раскидухи Живой метался по своей пристани, как заяц по островку, отрезанный половодьем. В голову лезли всякие тревожные мысли насчет ликвидации, но он гнал их, цеплялся за ремонт... "Да что я, в самом деле, ремонта испугался? Ну, постою недельки две на участке, проконопачусь... Только и делов. А может, и новый дебаркадер дадут? Теперь техника вон как в гору пошла. У меня ж не дебаркадер – и впрямь сундук старый. Одной воды из него выливаешь ведер сто за день. Я что, насос-камерон?"
Вспомнил Живой, как еще прошлой осенью писал в контору заявление, чтобы починили дебаркадер либо матроса еще назначили, "потому как одному отбоя от воды нет, а семью свою держать на откачке задаром не имеем полного права...". Садок Парфентьевич ответил коротко: "Просмолим". Но не прошло и месяца с весны, как дебаркадер снова потек.
"Поди, совесть сказалась у них. Комиссия осмотрит, а там, глядишь, Дуню проведу к себе матросом. И заживем..."
Напоследок Фомич написал карандашом на тетрадном листе новое заявление насчет ремонта. Может, пригодится?
В контору вошел он вроде бы успокоенный.
– Меня что, в ремонт определили? – спросил он рыжую диспетчершу.
– Заместитель по кадрам все вам объяснит, – ответила она уклончиво.
– Это кто ж такой? Владимир Валерианович?
– Нового прислали. Он в кабинете Садока Парфентьевича.
Из диспетчерской дверь вела в кабинет начальника.
– Ну-ка я спрошу! – Фомич взялся за дверную ручку.
– Погодите! – строго сказала диспетчерша. – Что, не слышите? Он же занят.
Из кабинета доносились голоса. Дверь была тонкая, фанерная. Живой подался ухом к филенке, прислушался.
– Я вам говорю – план выполнять надо, план! Интересы государства! А вы мне про детей да про варево... – раздраженно произносил вроде бы знакомый голос.
Другой звучал глухо, просительно:
– А семьи наши в чем виноватые?
– Да кто вас просил с собой их брать? Здесь что, производство или детский сад? А! Колхоз?
Знакомый голос, знакомый голос! Живой даже на дверь слегка надавил, но она предательски скрипнула.
– Товарищ Кузькин, ступайте на берег. – Диспетчерша встала и выпроводила Фомича за дверь. – Когда надо – позовем.
Делать нечего. Живой вышел на берег.
Неподалеку от конторского дебаркадера стояли две большие деревянные баржи. Возле барж сидели две бабы в фуфайках да мужик, небритый, седой, в резиновых сапогах и брезентовой куртке. "Видать, матросы с баржи", – сообразил Фомич.
– Вы чего, как цыгане, расположились? – спросил он, подсаживаясь к мужику и вынимая кисет.
– Да уволили... Без предупреждениев, – ответил матрос, закуривая Фомичовой махорки.
– Как так?
– Да вот так... – Матрос длинно выругался. – Начальник новый появился.
– А Садок Парфентьевич?
– В отпуск ушел. Остался за него заместитель по кадрам. Нового прислали... Такая щетина, что не говорит, не смотрит.
– Вот оно что! – Фомич теперь понял, почему его в кабинет не пустили. – До порядку, видать, охочий. Меня тоже вот с места сорвал. Пристань моя чем-то не понравилась. Во-он она стоит! – Фомич кивнул на свой дебаркадер, причаленный к берегу. – Из Прудков сняли.
– Ликвидируют?
– Ну, этот номер у них не пройдет. Мы тоже законы знаем. – Фомич сплюнул в воду. – А вы откуда?
– Из-под Елатьмы.
– Дальние!
– Не говори. Мы дрова на барках возили. А тут на Петлявке камень где-то не успели вывезти. План, что ли, не выполняют. Он и задержал наши баржи. "Выгружайся!" – "Как так?" – "А вот так. За камнем пойдут ваши баржи". – "А мы?" – "Неделю посидите на берегу. Ничего с вами не случится". Вот и сидим. И домой ехать – за сто верст киселя хлебать. И тут несладко. Ребятишки...
– Да, этот храбрец, видать, из выдвиженцев, – сказал Фомич. – Я к нему было сунулся – и на порог не пустил. Через дверь поговорили... В нашем районе был один такой. Сапог сапогом, а войдешь к нему в кабинет – и не глядит. Сам, паразит, сидит, а тебя стоять заставляет. А все почему? Потому как академию под порогом кончал. Вот и этот заместитель по кадрам, видать, такой же академик...
Матрос толкнул Фомича локтем в бок. Фомич обернулся и застыл. Перед ним стоял в синем кителе, в фуражке с крабом Мотяков. По тому, что был он в сопровождении Владимира Валериановича и дюжего парня в резиновых сапогах и в фуфайке, – видать, второго матроса с баржи, – Живой сразу догадался, что новый заместитель по кадрам и есть не кто иной, как сам Мотяков.
Он не крикнул на Фомича, не обругал его – только повел ноздрями, как бы принюхиваясь, и ушел, так ничего не сказав.
– Ну, теперь он сядет на тебя верхом, – сказал матрос в брезентовой куртке.
Фомич только плюнул и кинул окурок в Прокошу...
С тяжелым сердцем шел он теперь в контору. Мотяков на этот раз не заставил его ждать за дверями. Он кивнул Фомичу на стул у стены, сам прошелся несколько раз по кабинету, знакомо заложив руки в карманы. Наконец сел за стол и еще долго смотрел на Живого, будто впервые видел его.
– Я хочу, чтобы вы нас правильно поняли, товарищ Кузькин, – сказал он, миролюбиво и очень даже любезно глядя на Фомича. – В Прудки ваш дебаркадер не пойдет.
– А куда же он пойдет? – У Живого в момент взмокла вся спина.
– На Петлявку, в Высокое. Будет стоять там под общежитие грузчиков. Отправляйтесь завтра же.
– А в Прудки кто пойдет?
– В Прудках пристань сокращаем в целях экономии.
– А пассажиры как же?
– Там пассажиров-то два человека в день. Один убыток.
– Вон вы как рассуждаете! А ежели на Север двух человек посылают? Им и самолеты дают, и шиколату с мармеладом на цельный год. А наши чем хуже их?
– Ты мне политграмоту не читай, враз и навсегда... У нас план – сократить две пристани. Экономия. Понял?
– На двух шкиперах много не сэкономишь.
– По нашему участку – да. А по всей стране? Сколько таких участков? Может, сто тысяч? Вот и подсчитай.
– Насчет остальных я не знаю. Только мне в Высокое никак нельзя итить. Я весь оклад там проем. А чего семье пошлю?
– Не хотите – увольняйтесь.
Живой вдруг вспомнил про заявление насчет ремонта, вынул из бокового кармана, в бумажнике хранилось.
– Поскольку дебаркадер мой худой, вода натекает за ночь по самые копани, в Высокое мне итить одному никак нельзя. Там семьи у меня нет, которая помогала бы отливать воду. Либо матроса мне назначайте, либо жену мою матросом проводите. Прошу не отказать в просьбе. – Живой положил заявление на стол перед Мотяковым.
Тот прочел и пронзительно уставился на Живого:
– Ты с кем это думал, один?
– Один.
– Вот и поезжай один в Высокое. И не дури.
– Не могу... Дебаркадер течет. По самые копани вода. Идите посмотрите.
– Ты ее нарочно напустил.
– Я вас не понимаю. Как так нарочно? Поясните! Вы человек при должности.
– Я знаю. Я все знаю, враз и навсегда! – Мотяков погрозил пальцем. – Выводишь на берег и заливаешь воду.
– Это как же? Через борт ведрами? – Живой иронически глядел на Мотякова.
Тот понял, что хватил через край, но продолжал напирать:
– А по-всякому... Ты мастер отлынивать от работы. Я тебя знаю.
– Ага! – Живой мотнул головой. – Есть такая притча о гулящей свекрови и честной снохе. Свекровь подгуливала в молодости и не верила снохе, что та мужу верность соблюдает. И сына учила: ты побей ее, может, откроется. Так и вы.
– Поговори у меня! – Мотяков не так сильно, как бывало в рике, но все же ладонью прихлопнул по столу. – Захочешь работать, сам качать будешь.
– Я вам что, камерон? У меня на руке вон только два пальца. Я инвалид войны. Давайте мне матроса!
– Да пойми, голова два уха! Сокращение у нас. Либо иди в Высокое, либо увольняйся, враз и навсегда.
Вышел Фомич от Мотякова как во хмелю, аж в сторону шибало. Зашел в ларек.
– Валя, дай-ка мне поллитру перцовочки.
– Ты чего нос повесил, дядя Федя?
– Небось повесишь... – Фомич только рукой махнул. – Вся жизнь моя к закату пошла...
Возле ларька встретил его небритый матрос в брезентовой куртке.
– Ну, что он тебе сказал?
– В Высокое посылает. А мне жить на два дома никак нельзя. Всего четыреста восемьдесят пять рублей. Чего их делить? Ну и беда свалилась... – Фомич сокрушенно качал головой.
– Да брось ты, чудак-человек! Руки-ноги имеешь, и голова на плечах! Проживешь! Ноне не прежние времена. Пошли к нам! У нас ужин варится. Как раз и выпьем.
На берегу Прокоши на месте бывших куч тряпья стоял брезентовый балаган. Перед ним вовсю горел костер. Дым, сбиваемый ветром, сваливал под крутой берег и медленно расползался над рекой. На треноге кипел, бушевал котел с варевом. Бабы расстилали перед балаганом мешки, клали на них хлеб, чашки, ложки. Босоногие ребятишки с визгом носились вокруг костра.
– Тише вы, оглашенные! Смотрите, в огонь не свалитесь... Тогда и жрать не получите! – шумели на них бабы.
Второй матрос, тот, что был у Мотякова, теперь в одной рубахе с закатанными рукавами, босой, красный от огня, помешивал в котле, поминутно черпал деревянной ложкой, сильно дул в нее и громко схлебывал горячее варево.
– Бог на помочь! – сказал Живой, подходя.
– Ужинать с нами, – отозвались бабы.
– Кулеш с пылу с жару... Выставляй бутылок пару! – сказал матрос от костра, косясь на отдутый карман Живого.
– Сдваивай! – Живой поставил на мешковину перцовку.
– Дельно! Маня, принеси бутылочку! – сказал матрос от костра.
Давеча, издали, он показался Фомичу совсем молодым. Теперь кепки на нем не было – во всю его голову раздалась широкая лысина, по которой жиденько кудрявился рыжеватый пушок. Он снял котел с дымящимся кулешом и крикнул:
– Навались, пока видно, чтоб другим было завидно!
Разлили кулеш – мужикам в одну чашку, бабам и ребятишкам – в другую. Появилась еще бутылка, заткнутая тряпичным кляпом. Самогонку цедили сквозь губы, морщились, крякали. Она была хороша.
– Неужто сами производите? – спросил Фомич.
– А чего ж мудреного, – сказал небритый.
– Аппарат нужен.
– Мой аппарат – вон блюдце да тарелка. Только сахару подкладывай, – хитро подмигнул небритый.
– С таким аппаратом вам ветер в спину. И дождь не страшен, – улыбнулся Живой. – Мой табачок по такому же рецепту сработан. Ну-кася!
Он вынул кисет и пустил его по кругу. Закурили.
– Дождь теперь в самый раз под траву, – сказал, помолчав, старик.
– Да, сена ноне будут добрые, – подтвердил лысый.
– Все равно половина лугов пропадет. Выкашивать не успевают, – сказал Фомич.
– Нет, у нас в прошлом годе все выскоблили. Косили и старики, и бабы – третью часть накошенного сена колхозникам давали.
– У нас до этого не дошло. Все жмутся... Эх, хозяева! – вздохнул Фомич.
– Нужда заставит – дойдут, – сказал лысый.
– Дак по нужде-то давно уж пора дойтить.
– Те, которые с головой, ноне от нужды уходят, – сказал старик. – Наши вон исхитрились лук на гародах ростить. Государству сдаст – и то по два рубля семьдесят копеек за кило. Вот и деньги!
– Теперь еще и ссуды под корову дают. А в ином колхозе и телку бери, – подхватил лысый.
– Да, это я слыхал... В Брехове у нас дают. Там председатель сильный. Петя Долгий, мой друг-приятель, – соврал Живой. – Он все зовет меня. А вы, случаем, не думаете в колхоз вернуться?
– У нас не горит, – ответил старик. – Обождем малость, посмотрим, что выйдет. Осенью, правда, приезжаем домой на помощь. Картошку копаем в колхозе исполу. На зиму запасаем и себе, и свиньям.
– Это хорошо! А сенца раздобыть – и корову завести можно. Ежели ссуду дают под корову, почему б и не взять? – спрашивал, оживляясь, Фомич. – Я ведь мастак по коровам был. Очень даже умею выбрать корову. Первым делом надо посмотреть, как у нее шерсть ветвится. Ежели развилок начинается на холке, меж молок ходит до четырех недель... Добрая корова! Потом колодец пощупать... меж утробы и грудей. Большой палец по сгиб погрузнет – пуд молока в день даст... А что? Вот возьму и подамся к Пете Долгому. Чем в Высокое за полета верст, лучше в Брехово. Побегаю сначала с работы в Прудки. Это ничего. Мне не впервой. Я на ходу легкий. Зато корову получу...
Фомич жадно затягивается табаком, улыбается. Он думает о том, как ловко проведет Мотякова; как придет в контору и выкинет ему кукиш: "Ты меня в Высокое хотел загнать... На-кась, выкуси!.." Голова его кружится от хмеля. Ему и в самом деле хорошо и весело.
– По нонешним временам везде жить можно, – сказал старик.
– Это верно, – соглашается Фомич. – Теперь жить можно.
Записал я эту историю в деревне Прудки со слов самого Федора Фомича Кузькина в 1956 году. Записал да отложил в сторону.
Как-то, перебирая свои старые бумаги, наткнулся я на эту тетрадь. История мне показалась занятной. Я съездил в Прудки, дал прочесть ее Федору Фомичу, и поныне здравствующему, чтоб он исправил, если что не так.
– В точности получилось, – сказал Федор Фомич. – Только конец неинтересный. Хочешь расскажу, что дальше? Дальше полегше пошло...
Попытался было я продолжить рассказ, да не заладилось. А потом догадался: тут уж новые времена начинаются, новая история. А та – кончилась.
– Точно так, – подтвердил Федор Фомич. – Да ты не горюй. Напишешь еще. Моей жизни на целый роман хватит...
1964-1965
История села Брехова, писанная Петром Афанасиевичем Булкиным
На лествице, по которой разум человеческий нисходить долженствует во тьму заблуждений, если покажем что-либо смешное и улыбкою соделаем добро, блаженны наречемся.
А.Радищев
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Однажды Петр Афанасиевич Булкин, с которым я был хорошо знаком, попросил меня отвезти его рукопись в какой-нибудь толстый журнал. Выбор пал на Ивана Боборыкина, редактора популярного журнала "Красное семя".
– Кем он доводится тому Боборыкину, который написал про Китай-город? – спросил Петр Афанасиевич.
– Кажется, внуком, – ответил я.
– Тогда ему отдайте. Эти не подведут – наши люди. Хорошей фамилии.
Однако знаменитый критик наш огорчил Петра Афанасиевича. Он написал ему:
"Дорогой тов. Булкин! Вам еще рано браться за перо: Вы человек необразованный. Рекомендую поступить в народный университет, активно посещать лекции по литературе и искусству. Во-первых, Вы пишете только о том, что прошло, а нам нужно про сегодняшний день. Во-вторых, у Вас нет ни сюжета, ни характеров, ни языка. И по мысли путано, народ не примет такую книгу и не поймет. Вот Вы, например, пишете – "гепат". А ведь такого слова нет в природе. Есть слово "гомеопат". И т.д. и т.п.
На что Петр Афанасиевич ответил ему длинным письмом, в котором не трудно заметить и ум, и находчивость, и литературную осведомленность. Вот отрывок из этого письма:
"Многоуважаемый тов. Боборыкин!
Не стану спорить насчет образования, а также насчет того, нужно Ваше образование писателю или нет. Я, например, видел писателей (в Брехово к нам приезжали), которые говорят "етта" и "булхактер", а нужно говорить "это" и "булгахтер". Ну и что? А пишут они, между прочим, не хуже Вашего. И Вы их сами печатаете. Или Вы упрекаете меня насчет отсутствия сюжета? А знаете ли Вы такого знаменитого современного писателя Владилена Золотушкина? Между прочим, он занимательно доказал, что его фамилия происходит не от золотухи – детской болезни, а от золотых приисков, которые хотели открыть в их деревне на речке Пискаревке, потому что нашли золотой самородок в помете гуся. Правда, когда капнули в городе на этот самородок кислотой, он зашипел и оказался стертой медной бляшкой. А ведь про это книга написана, да еще какая. Вы ее читали? У нее есть сюжет? Нет. И не нужен. Золотушкин доказал, что сюжет – пережиток прошлого.
А таперика возьмем слово "гепат". Вы пишете, якобы правильно будет "гомеопат". Может, у Вас так и говорят. Не спорю. Но давайте посмотрим, от чего произошло это слово? Ясно же, от аптеки, из которой гепат выписывает свои лекарства. А из какой аптеки он выписывает? Только из гепатической. То есть из той, которая стоит у Вас, в Москве, на Колхозной площади. Неужели Вы не слыхали? Мы в Брехове и то знаем про эту аптеку. Даже мой брат Леванид туда ездил за лекарством. Вот таперика и объясните мне – что такое грамотность и как ее следует понимать.
Очень странный вопрос Вы мне задали и насчет того, про какой день писать: про вчерашний или про сегодняшний? Интересно, как же я мог написать про сегодняшний день, когда он еще не прошел? Во-первых, надо подождать, пока он пройдет, и посмотреть – что из этого получится. Во-вторых, надо еще написать... А на это потратишь не один только день и, может, не один год...
Даже Владилен Золотушкин не успевает написать про сегодняшний день. Недаром читают его и говорят: "А-а! Это уже было..."
Увы, дорогой читатель! Этот интересный спор так и не окончился: Петра Афанасиевича не стало. Прошлой зимой поехали они вместе с братом за сеном в луга. Дорога дальняя... Наняли шофера-левака из соседней ЛМС, взяли водки и поехали на ночь глядя. На беду разыгрался ветер, перемело дорогу... Они и застряли, до лугов не добравшись. Куда идти в такую пору?! Выпили водки и уснули. Петр Афанасиевич прямо в кузове, а шофер с Леонидом в кабине. Утром нашли их... те, что в кабине, обморозили руки да ноги, а Петр Афанасиевич замерз до смерти. Вот и пришлось мне брать на себя все хлопоты по изданию его рукописи. Я ее почти не тронул, только добавил кое-где знаков препинания. При всем моем уважении к Ивану Боборыкину, я не могу согласиться с его приговором: "Эту книгу народ не примет и не поймет". Примет ли, нет ли – не знаю. Но что поймет – уж в этом я уверен.
С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ
Вчера мы ходили с председателем колхоза Звонаревым Петром Ермолаевичем, прозванным в селе Петей Долгим, в новую школу. Такая она большая, столько в ней всяких перегородок – заблудиться можно. Входим в одну комнату – на каждом столе лампочка под цветным колпаком, как гриб торчит. Полы серым матерьялом покрыты, под названием линолим. Идешь по нему – а каблуки шлеп-шлеп, как по воде, только брызг нету. А вдоль стен все книжные шкафы стоят.
– Что ж это за комната такая? – спрашиваю.
– Это читальный зал, – отвечает Петя Долгий.
"Эх, брат родной! Таперика, – думаю, – и помирать здесь буду". Люблю я книжки читать. В одной книжке про одно написано, в другой – про другое. И все-то они разные. Хорошая книжка всегда писана с секретом, как ларец потайной. Чтобы открыть секрет, голову на плечах иметь надо, а не вареную тыкву. Оглядываю это я книжные шкафы и говорю Петру Ермолаевичу:
– Веришь или нет, но моя жена Маруська ни одной книжки не прочла.
– А какое у нее образование? – спрашивает он.
– Да никакого. Ни бум-бум.
– Как же она станет читать, если неграмотная? Она не может, – сказал Петя Долгий.
А я отвечаю:
– Не то беда, что не может, а то, что не вникает. Я многое чего не мог, да вник. И никто меня не учил. А таперика вот и книги читаю, и сочинять умею.
У меня даже стихотворение в районной газете напечатали про Седьмое ноября:
С деревьев листья падают,
И дождь, как из ведра.
Но нас погода радует -
Мы вышли изутра.
Я человек заслуженный – персональный пенсионер. Мне платят шестьдесят рублей областной пенсии. И по случаю праздника Петя Долгий пригласил меня выступить перед школьниками – как мы раньше жили и как сейчас живем.
– Товарищи пионеры! – сказал я. – Строй раньше был угнетенный... В школу не ходили, уровень свой не повышали. Я сам только две зимы учился. Да как учился? Снег поглубже выпадет – дома сижу. Валенок не было – одни опорки. А в опорках куда итить по глубокому снегу? Но сейчас, товарищи пионеры, чего не жить? Мы живем лучше, чем при коммунизме. Лечат бесплатно и учат вас бесплатно. И все равно общество не должно стоять на месте. Оно движется вперед, как земля вертится. Но я вам, товарищи пионеры, не то хотел сказать. Надо слушаться мать с отцом. Не то вы совсем разучитесь, как моя Валька. Только бы она пудрилась да наводилась...
Речь моя всем очень понравилась, а Петя Долгий сказал:
– Может быть, ты, Петр Афанасиевич, станешь в школе работать?
– Кем работать?
– Да вроде завхозом... Ночью охранять здание, а днем за порядком следить – звонки вовремя давать. Мы тебе от колхоза положим зарплату – пятьдесят рублей в месяц.
– И за лошадью мне смотреть?
– Для этого у нас конюх имеется. А ваша солидность нужна здесь для порядка.
А что ж, думаю, для порядка надо постараться. И деньги хорошие. К моей пенсии да еще пятьдесят рублей – жить можно. Отчего ж не пойти? Все равно я по ночам не сплю, как сыч корабишинский. (Корабишино – это у нас лесное село, я про него потом напишу.)
И согласился. Достал из сундука белый китель из чесучи, который носил, когда еще председателем колхоза был, брюки диагоналевые, темно-синие галифе, сапожки опойковые... Шляпу свою соломенную достал. Встал, как на вахту. И не то что ученики, учителя замирали передо мной. А завроно, старушка Семкина, сослепу за военрука меня приняла.
– А вы, – говорит, – товарищ подполковник, почему не на уроке?
– А я на часах, – отвечаю.
Поднес к ее уху звонок да как ахну. Она и присела...
Я этот разговор к чему веду? А к тому, что с той работы все и началось. Днем между звонками подремлю малость, а ночь подойдет – не могу заснуть, и шабаш! Хоть глаза выколи. Дома от нечего делать с Маруськой поругаешься. А здесь тишина... Ну, прямо вши от скуки дохнут. И книжки-то из рук вываливаются, потому что мысли одолевают. "А что, – думаю, – дай-ка я про наше село Брехово книжку напишу. Ведь другие пишут. А я чем хуже?" Был со мной на охоте один писатель. Разговорились – а он не знает, что такое дерево, которым сено в возах утягивают. Я ему:
– Как же это вы пишете книжки про деревню, а сами не знаете, что такое дерево?
– Ну, – говорит, – деревья бывают разные: и дуб, и ясень, и осина... Всех не упомнишь.
– То дерево на корню, – отвечаю, – а это в деле. Разница! Без этого дерева сена не привезешь. Оно у каждого народа по-своему называется. У нас одно дерево, а вон татары называют его бастрык. Татарин и то знает, а вы не знаете. А еще книжки про мужиков пишете.
Может быть, я чего и не учту по художественному уровню, пусть уж критики на меня не обижаются. Но зато я не перепутаю дерева на корню с деревом в деле. А историй про село Брехово я знаю много. Начну-ка я их записывать. Как ночь, так история. Ну, точен в точен как в книжке про тысячу и одну сказку. Только я сам себе и царевна и персидский шах.
ПОЧЕМУ НАШЕ СЕЛО НАЗЫВАЕТСЯ БРЕХОВО?
История для села – это одно и то же, что автобиография для человека. Как человеку нужна автобиография для службы, так и селу для колхозного строительства, для районных справок, донесений, так и далее нужна история. Но сказать по правде, настоящая история села Брехова началась только при советской власти. А до революции какая была история? Одни пьянки по религиозным праздникам, да по будничным дням работа. И потом другое надо учесть – ни сельсовета, ни колхоза не было. Какая же могла быть общая история у села? Никакой общей истории быть не могло, потому что село было разбито на единоличные хозяйства. А если писать про отдельные хозяйства, то получится несколько отдельных историй, ну вроде рассказок. И больше ничего – никакой политики. А настоящая история всегда с политикой связана. Это надо уяснить каждому со школьной скамьи.
Таперика надо написать – почему наше село называется Брехово? Если вы бывали в наших местах, то заметили, наверное, хоть из Прудков, хоть из Корабишина, хоть из Самодуровки бреховский бугор. Старики рассказывают, что раньше, может, лет двести, а может, и триста тому назад съезжались сюда баре на охоту. На самом у горе стояла псарня помещика Брюхатова и псари его жили. Вот от этих псарей и пошло наше село. А Филипп Самоченков рассказывал мне, якобы в жены им привозили дворовых девок из Самодуровки; которую, значит, обрюхатит барин или кто из его помощников, присылают в Брехово. Но наперед заставят ее липу посадить, а потом уж за псаря замуж выдают. Так и выросла под Бреховом целая липовая роща. И название она имеет – Приблудная.
Село наше большое, торговое. Раньше к нам на базар приезжали из райцентра Тиханова и даже из города Пугасова. И все улицы нашего села по-базарному назывались: Сенная, Конная, Горшечная, так и далее. А в годы нэпа было два трактира, три чайных, две булочных, одна колбасная да двенадцать лавок. Все это исходило от нашего бескультурья. Таперика от этого наследия прошлого не осталось и следа. Есть у нас клуб, магазин, школа-десятилетка. А все улицы называются по-современному: Пролетарская, Максима Горького, имени Луначарского, – последняя сокращенно называется "Имначас". Но это для неофициальных разговоров.
Есть у нас еще пережиток от старого прошлого – село с селом ругается. Например, корабишинских мы зовем талагаями, а они нас – каменными сдобами. Ругательское слово "талагай" ничего не означает по-русски. Узнал я от заезжего писателя (который не мог отличить дерево на корню от дерева в деле), якобы талагай – слово латышское, вроде бы по-нашему означает странник, далеко зашедший. Пожалуй, в этом есть правда. Почему? А потому что в Корабишине, по старому говоря, жила литва некрещеная. Будто их какой-то князь в карты проиграл и перевезли их к нам в лес. Доказательством нерусского происхождения служит еще и то, что у корабишинских избы строились без сеней – прямо к избе шел впритык лапас, то есть крыша двора. Они даже квашню с квасом держали на дворе. Еще мы их дразнили за это:
– Акулька, что там булькает?
– Сивый мерин в квашню с... (многоточие означает непечатное слово).
А прудковских, например, прозывали козозвонами. У энтих коза в набат ударила...
Паслась она в церковной ограде. А веревка с пожарного колокола свисала очень низко и привязывалась к березе. Кто увидит пожар – подходи и дергай за веревку, звони – собирай народ. Ну, коза рогом и зацепилась за веревку... Дернула головой – "Дон"! Она в сторону – опять: "Дон!" Она с перепугу метаться, – то туда, то сюда... а на колокольне: "Дон! Дон! Дон!" Набат! Все село и сбежалось на потеху... С тех пор их и прозвали козозвонами. Оно прозвище-то вроде бы и случайное, а причинность все ж таки имеет. Народ прудковский непутевый, пустозвонный...
А почему нас прозвали "каменными сдобами"? Раньше у нас на базаре тихановские торговали черепенниками, а наши, бреховские, пышками да самодельными пряниками. Вот они-то и назывались сдобами.
– Черепенники с пылу, с жару! Ай, черепенники! – кричали тихановские.
А наши, бреховские, им вперебой:
– Сдобы, сдобы! Купи сдобы!..
Какой-то озорник купил одну сдобу, будто зубами ее не раскусил. Зашел он сзади да как шарахнет по спине торговку этой сдобой. Она еле дух перевела:
– Ой! Явол! Кой-то мне по спине каменюгой заехал. Чуть ребро не перешиб.
– Это не каменюгой, а твоей сдобой...
С тех пор и прозвали нас "каменными сдобами".
Но это все приметы старого прошлого. А таперика мы имеем самодеятельный хор и частушки собственного производства. На районном смотре так и объявляют:
– Выступает бреховский хор со своими частушками. Музыка Глуховой, слова Хамова (это наши сочинители).
Колхоз у нас хороший. Петр Ермолаевич Звонарев, последний председатель, авторитетом пользуется, – народный депутат, Герой Социалистического Труда. А первый председатель нашего колхоза Филипп Самоченков работает таперика у меня, то есть конюхом при школе. Я тоже был в свое время председателем, но об этом расскажу потом.
А народ у нас трудовой, артельный. Работает дружно. Но уж коли кто сопрет бочку или, допустим, фару отломает на комбайне из озорства – убей не допытаешься. Корабишинские, те наоборот – один цыпленка украдет на курятнике, а пятеро донесут на него. И, между прочим, воруют у них поболе нашего. А у нас с доносчиками строго поступают, – на сенокосе надевают котел на голову и бьют в него палками, пока тот не оглохнет. Мы, говорят, народ музыкальный. Пусть запомнит нашу музыку. Озорники! Недаром у нас каждый на селе прозвище имеет. А Иван Косой даже стих про это написал. Еще в двадцать девятом году на сходе в бывшем трактире огласил:








