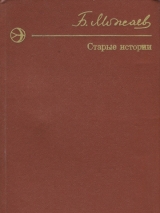
Текст книги "Старые истории (сборник)"
Автор книги: Борис Можаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)
– Хорошо!
Секретарша ушла.
Демин положил открытку перед Мотяковым.
– Так разберитесь, – и вышел.
– Чего с ним говорить! – махнул рукой Гузенков. – Известный элемент... отпетый.
– В тридцатом году я колхоз создавал, а вы, товарищ Гузенков, на готовенькое приехали. Еще неизвестно, чем вы-то занимались в тридцатом году.
– Мы тебя вызвали не отчитываться перед тобой! – оборвал Живого Мотяков. – А мозги тебе вправить враз и навсегда. Понял? Будешь в колхозе работать?!
– Бесплатно работать не стану.
– А что вы, собственно, хотите? – спросил Умняшкин.
– Выдайте мне паспорт. Я устроюсь на работу.
– Мы тебе не паспорт, а волчий билет выпишем, – сказал Мотяков. – Выйди в приемную! Когда надо – позовем.
Живой вышел.
– Ну, что с ним делать? – спросил Умняшкин, грузный немолодой человек с лицом сумрачным, усталым, с тем выражением насупленной серьезности, которое бывает у много проработавших сельских врачей.
– Дадим ему твердое задание... в виде двойного налога, – сказал Мотяков. – А там видно будет.
– Но ведь налоги отменены! – возразил Умняшкин.
– Это с колхозников. А поскольку его из колхоза исключили, значит, он вроде единоличника теперь.
– И мясо с него, и шерсть, и яйца... все поставки двойные! – подхватил Тимошкин.
– Ну, как? – обернулся Мотяков к членам исполкома.
– Не то, – сказал председатель бреховского колхоза Звонарев, прозванный за свой огромный рост Петей Долгим. – На трудодни ему не заплатили. Надо искать выход. Положение трудное.
– Все ясно, как дважды два – четыре. – Мотяков даже ладонью прихлопнул. – Исключить из колхоза – и твердое задание ему враз и навсегда.
– А я бы отпустил его, – возразил Петя Долгий. – И надо помочь устроиться.
– Это называется либерализмом, – сказал Мотяков. – Если мы станем пособничать лодырям и летунам – все колхозы развалим. Сегодня один уйдет, завтра другой... А работать кто станет?
– У нас не уходят, – сказал Петя Долгий.
– Дак у тебя колхоз на ногах стоит, а у Гузенкова на четвереньках... Разница! Ты диалектику не понимаешь, враз и навсегда.
– Правильно, Семен Иванович! – подхватил Тимошкин. – На Кузькине пример воспитания надо показать... неповадности то есть. Двойные поставки с него и мяса, и шерсти.
– Лихо, лихо, – сказал Умняшкин. – Тогда уж и две шкуры с него берите.
– А что? – отозвался Мотяков. – По обязательным поставкам положено было сдавать шкуру. Пусть сдает две. Тимошкин, пиши!
– Но ведь он же инвалид третьей группы, – сказал Умняшкин. – Вы хоть это учтите.
– Подумаешь, трех пальцев не хватает, – усмехнулся Мотяков. – Ты не смотри, что он такой – на заморенного кобеля смахивает. Он еще нас с тобой переживет. Ставим на голосование: кто за исключение, прошу поднять руки!
Мотяков, Гузенков, Тимошкин проголосовали за исключение. Умняшкин и Петя Долгий против.
– Большинство за, – торжествующе отметил Мотяков.
– Х-хе, большинство... в один голос, – усмехнулся Петя Долгий.
– Один голос, да мой, – Мотяков поднял палец кверху. – Сравнил тоже – мой голос и твой голос, – и крикнул в дверь: – Позвать Кузькина!
Живой на этот раз вошел с мешком в руках. Мотяков подозрительно поглядел на мешок:
– Поди, поросят тащил в мешке?
– Ага... Поторопился. Не то вы все равно отберете.
– Поговори еще! Я отобью у тебя охоту. Враз и навсегда. Дай сюда протокол! – Мотяков взял листок у Тимошкина и зачитал: – "В связи с исключением из колхоза Кузькина Федора Фомича, проживающего в селе Прудки, Тихановского района, числить на положении единоличного сектора, а потому обложить двойным налогом, то есть считая налог с приусадебного хозяйства размером 0,25 га, отмененный последним постановлением правительства, умноженным на два. А именно, подлежит сдавать в месячный срок Кузькину Федору Фомичу тысячу семьсот рублей, восемьдесят восемь кг мяса, сто пятьдесят яиц, шесть кг шерсти или две шкуры".
– Семен Иванович, дайте-ка, я ему еще впишу сорок четыре кубометра дров. Пускай заготовляет, – потянулся к председателю Тимошкин.
– Ты сам их и заготовишь, – сказал Фомич. – У тебя хохоталка-то вон какая. С похмелья не упишешь.
Тимошкин криво передернул ртом:
– Может, обойдемся без оскорбленнее? Не то ведь и за личность придется отвечать.
– Ага... Я и в тридцатых за тебя отвечал. А твой отец в лавке колбасой торговал.
– Вопросы имеются? – спросил Фомича Мотяков.
– Интересуюсь, мне по частям сдавать или все враз? – Фомич невинно глядел на Мотякова.
Тот важно, официальным тоном сказал:
– Хоть сейчас вези...
– Все?
– Все, все!
– Деньги я внесу... Все до копеечки. Из застрехи выну. И мясо сдам – телушку на базаре куплю. Яйца тоже сдам... Но вот насчет шкуры сделайте снисхождение. Одну шкуру я нашел.
– Где нашел одну, там и другую найдешь, – сказал Мотяков.
– Ну, себя-то я обдеру, а жену не позволят. У нас равноправие.
Кто-то из заседателей прыснул. Умняшкин закрылся ладонью – только глаза одни видны, и те от смеха слезились тоже. Петя Долгий заклевал носом и как-то утробно закурлыкал. А Мотяков рявкнул, побагровев, и грохнул кулаком об стол так, что Тимошкин подпрыгнул от испуга.
– Вон отсюда! Враз и навсегда...
На улице все так же моросил дождь с мокрым снегом пополам. Фомич накинул на голову мешок и побрел по грязной улице. На душе у него было тошно, весь запас бодрости и сарказма он израсходовал в кабинете Мотякова. И теперь впору хоть ложись посреди дороги в грязь и реви. Выпить бы, да в кармане ни гроша...
На краю Тиханова, напротив бывшей церкви, а теперь зерносклада, стоял на отшибе обшитый тесом, когда-то утопавший в саду попов дом. В жаркий день, выходя из Тиханова, здесь у колодца обычно приостанавливались прохожие, напивались впрок. Фомич вдруг почувствовал усталость и дрожь в коленках. "Черт, как будто мешки таскал... Вот так исполком". Он прислонился к творилам колодца, поглядел на попов дом. "Вот и исповедальня. Надо зайти", – решил Фомич.
В поповом доме теперь помещался райфо. В крайнем боковом кабинете сидел Андрюша, прямо из-под стола высунув свою деревянную ложу, считал на счетах.
– Здорово, сосед! – весело приветствовал он Фомича. – Ты что такой мокрый да бледный? Как будто черти на тебе ездили?
– Черти и есть. – Фомич присел на обитый черной клеенкой диван и перевел, словно после длительной пробежки, дух. – Вот исповедоваться к тебе пришел. Ты же в поповом дому сидишь.
И Фомич рассказал все, что было на исполкоме. Андрюша долго озабоченно молчал, перебирая костяшки на счетах.
– Вот что сделай – возьми бумагу от них с этим твердым заданием. Ружье спрячь, козу продай. А велосипед оставь. Он у тебя все равно старый. Пускай что-нибудь да конфискуют. Потом подашь жалобу. И обязательно достань справку в колхозе – сколько ты там выработал за год трудодней.
– Да кто мне ее даст?
– Схитрить надо. Изловчиться.
– А не вышлют меня?
– Могут и выслать, по статье тридцать пятой – без определенной работы, как бродягу.
– А инвалидов не высылают?
– Инвалидов нет. Но у тебя же третья группа. Должен еще работать.
– А я что, от работы отказываюсь? Пусть выдают паспорт – устроюсь.
Андрюша только руками развел:
– Сие от нас не зависит. Ты вот что запомни – придут к тебе имущество описывать, веди себя тише воды, ниже травы. Понял? Задираться начнут – не вздумай грубить. Сразу загремишь. Пусть берут, что хотят. Только помалкивай. Это заруби себе на носу!
7
Комиссия нагрянула после праздников, по снегу. Фомич успел и козу продать, и ружье припрятать. Ружье он обернул промасленными тряпками и засунул в застреху на дворе. Старый пензенский велосипед, еще довоенный, облупленный, как запаршивевшая лошадь, стоял в сенях, прямо перед дверью: "Вот он я! Хотите – берите, хотите – нет".
Комиссия была из пяти человек – во главе инспектор райфинотдела по свистуновскому кусту Настя Протасова – большеносая, стареющая дева по прозвищу Рябуха, за нею бригадир Пашка Воронин да еще трое депутатов Совета – здоровенные трактористы из Свистунова. "Эти на случай, если я брыкаться начну", – подумал Фомич. Он юркнул в чулан и притворился спящим.
– Можно к вам? – послышался в дверях Настин голос.
– Проходите, – сказала Авдотья.
– Здравствуйте, – разноголосо донеслось от порога. – А где хозяин?
– Вон, в чулане на лавке.
Настя приоткрыла занавеску:
– Ты что, ай заболел?
– Мне болеть не положено. Ведь я Живой! – Фомич встал с лавки.
За столом расселись трактористы и Пашка Воронин.
– Извиняйте, гости дорогие! Угощать-потчевать вас нечем, – сказал Фомич. – До вашего прихода были и блины, и канки, а теперь остались одни лихоманки... Что ж вы не предупредили, что придете?
Трактористы дружно засмеялись. А Настя набросилась на Фомича:
– Что ты комедию ломаешь? Ты лучше скажи, когда налог думаешь вносить?
– А мне, Настя, думать никак невозможно. За нас думает начальство. А нам – только вперед! Назад ходу нет. За меня вон Пашка Воронин думает.
Трактористы снова засмеялись, а Пашка нахмурил желтые косматые брови и угрожающе сказал:
– Мы пришли не побасенки твои слушать. Понял?
– И тебе, Федор Фомич, не стыдно? – пошла в наступление Настя. – Такой лоб, и не работаешь! Вон бабы и то целыми днями с фермы не уходят. А ты на лавке дрыхнешь.
– Это ж просто симулянт! – подстегнул ее Пашка.
– Да он хуже! Тунеядец и протчий элемент, которые раньше в паразитах ходили.
Настя и Пашка точно старались друг перед другом раззадорить Фомича. Он мигом смекнул, в чем дело; сел на табуретку, скрестил руки на груди и эдаким смиренным голосом произнес:
– Эх, Настя... И ты, Паша! Понапрасну вы свое красноречие расходуете. Я стал человеком религиозным. Это я раньше не верил ни в бога, ни в черта, ни в кочергу. Ты мне слово – я тебе десять в ответ; ты меня – царап, я тебя – по уху. А теперь я прочел в Евангелии: ударь меня в правую щеку – я подставлю левую. Так что кляните меня, как хотите, и берите, что хотите.
– Кто тебя предупредил? – простодушно спросила Настя.
– А черный ворон в лесу. Ходил я ноне с утра за дровами. Смотрю, сидит на дубу: "Ка-рр! Придут к тебе Настя с Пашкой в гости, смотри не обижай их".
– Чего болтовню его слушать! Давайте опись составлять, – сказал раздраженно Пашка.
Настя вынула из портфеля протокольную книжечку.
– Где твое ружье? – спросил Пашка.
– Продал.
– Не ври. Спрятал, наверное?
– Ищите.
Пашка Воронин разогнулся во весь свой длиннющий рост, посмотрел на печь, пошарил за трубой, потом вышел в сени.
– Возьми лестницу, на чердак слазь! – сказала ему Настя.
– Чего там лестницу! У него не чердак, а шесток. Рукой достанешь.
Воронин и в самом деле приподнялся на цыпочках, вытягивая шею, как журавель.
– Ты смотри, избу не развали, жираф! – сказал Фомич. – Не то придется тебе новый сруб ставить.
– Я б те срубил клетку, как для обезьяны. Да в зверинец бы тебя, лодыря, отправил.
Фомич вдруг вспомнил, как Пашкин брат Воронок так же вот шнырял по лизунинской избе после бегства хозяина. Накануне Воронок приказал Фомичу вписать Нестеру Лизунину в твердое задание один центнер семян моркови: "И чтоб в двадцать четыре часа рассчитался!" Воронок был председателем сельсовета. Его указ – закон для секретаря. Фомич и вписал. А к вечеру зашел Нестер: "Федор, ты знаешь, на сколько хватит этих семян моркови?" – "На сколько?" – "На весь район!.. Где ж я столько возьму?" Тогда-то Фомич и выдал отпускную Нестеру Лизунину, а ночью тот смылся со всей семьей.
Фомич смотрел теперь на Пашку, а в глазах у него стоял старший Воронок тех дней. "И что за порода нахальная такая! Хлебом их не корми. Дай только покомандовать. Или что отобрать. И ведь с лица совсем не схожие – один рыжий, долговязый, с длинной лошадиной мордой, второй коренаст, черен был в молодости, как жук навозный. А хватка у обоих мертвая. Видать, в отца пошли... Того все по этапам гоняли – первый вор был в округе..."
Пашка спрыгнул со стены, отряхнул рукава от пыли.
– Ну, что там? – спросила Настя.
– Глина да пыль. У него там и мякины-то нет. Сожрал, что ли?
– Домовому скормил. Он у меня цельный год на одной мякине сидит.
Трактористы опять дружно, как по команде, засмеялись.
– Где добро-то храните? – спросила Настя Авдотью.
– Да рази ты не видишь? У меня его, добра-то, навалом. Что на печи, что на кровати, – ответил опять Фомич.
– Ты не валяй дурака. Где сундук?
– Под кроватью.
Пашка вытащил из-под кровати зеленый, окованный полосовым железом сундук – Авдотьино приданое.
– Смотри! – сказал он Насте, а сам деликатно отошел к столу и подсел к трактористам.
Настя откинула крышку, и вдруг Фомич заметил среди старого тряпья Дунин кошелек с шишечками. "Мать ты моя родная! Там же козья выручка – три сотни рублей! Все богатство". У Фомича дух захватило, когда он увидел, что Настя цопнула кошелек и открыла шишечки. Первая мысль была – выхватить у нее кошелек. А потом? Эти же волкодавы задушат его. Он вспомнил наставление Андрюши: "Не груби! Пусть что хотят, то и берут". Фомич аж зубами скрипнул от досады и отошел подальше от греха.
– Дуня! – позвала Настя. – Иди-ка сюда.
Подошла от печи хозяйка.
– Смотри-ка! – потянула ее к сундучку Настя. – Это облигации. В тряпье хранить их не след. – И она сунула в руку оторопевшей Авдотье кошелек с деньгами.
– Ах ты, батюшки мои! Как это ребяты не добрались до них, – запричитала Авдотья. – Федя, ты, что ль, их бросил сюда? – Между тем она торопливо упрятала кошелек за пазуху.
– Ты все валишь на меня, растереха! – нарочито строго проворчал Фомич, а на душе у него отлегло: "Ай да Настенка, ай да Рябуха! Совесть какая! Гляди-ка ты. А еще в старых девках числится..."
– Да тут и описывать нечего – одни шоболы, – сказала Настя от сундука. – Коза-то цела?
– Давно уж и поминки справили, – ответил Фомич.
– Чего ж тогда брать?
– Возьмем велосипед, – сказал Пашка.
Настя вписала в квиток велосипед и ткнула Фомичу:
– На, подпиши!
Фомич поставил подпись. Потом в сенях вручил Насте велосипед и продекламировал:
– Эх! Что ты ржешь, мой конь ретивый? Послужил ты мне правдой верною. Теперь отдохни и мне отдых дашь.
Настя передала Пашке облупленный Фомичов велосипед, и комиссия в полном составе отбыла.
– Федя, продадут теперь твой велосипед, – вздохнула Авдотья, взглядом провожая из окна эту процессию.
– Не бойся, мать. Хорошие люди не купят. А плохие и взяли бы, да денег пожалеют. Они задарма привыкли все брать. А велосипед мне приведут... Кто брал его, тот и приведет...
На другой день Фомич сходил в Свистуново в правление колхоза и сказал счетоводу:
– Корнеич, что-то на меня наваливается беда за бедой. Прямо дух не успеваю переводить.
– А что такое?
– Да глядя на вас, и райсобес озорует. Говорят, что, мол, у тебя минимума трудодней не выработано. А потому – половину пенсии с тебя удержим.
– Ну, это они против закона.
– Поди попробуй втолкуй им. Ты мне напиши справку – сколько я трудодней за год выработал.
– Это можно.
Корнеич выписал Фомичу справку "в том, что он со своей семьей выработал за год 840 трудодней". И печать приложил.
Фомич тщательно прочел ее, сложил вчетверо и удовлетворенно сказал:
– Ну, теперь вы, голубчики, попались у меня. Я эту справку не в собес отправлю, а в ЦК пошлю.
– Ну-ка дай сюда! – грозно поднялся Корнеич, но Фомич выкинул ему под самый нос кукиш:
– А этого не хотел! Так и передай Гузенкову.
– Я скажу, что ты выманил ее обманом.
– Привет! – махнул Фомич малахаем. – Приятного разговора с Михал Михалычем.
Придя домой, Фомич вырвал из тетради двойной лист и на весь разворот начертил химическими чернилами круг. По этому ободу он вывел большими буквами: "Заколдованный круг Тихановского райисполкома". А в центре круга написал: "Я, Федор Фомич Кузькин, исключен из колхоза за то, что выработал 840 трудодней и получил на всю свою ораву из семи человек 62 килограмма гречихи вместе с воробьиным пометом. Спрашивается: как жить?" К этому чертежу Фомич приложил справку о выработке трудодней и жалобу, в которой изложил, как его исключали, как выдали "твердое задание" и потом отбирали велосипед. Жалобу начал он "издаля". "Подходят выборы. Советский народ радуется: будет выбирать родное правительство. А моя семья и голосовать не пойдет..." Все эти сочинения Фомич запечатал в конверт, написал адрес обкома, на имя самого первого секретаря Лаврухина, и пешком сходил на станцию Пугасово за сорок километров. Там опустил конверт в почтовый ящик на вокзале – "здесь не догадаются проверить". И, довольный собственной хитростью, выпил за успех – взял кружку пива, сто пятьдесят граммов водки, смешал все, и получился преотличный ерш.
8
О том, что жалоба сработала, Фомич догадался по тому, как нежданно-негаданно зашел однажды под вечер Пашка Воронин и, не разгибаясь в дверях, через порог сказал:
– Забери свой велосипед. Он в сельсовете стоит, в Свистунове.
– Я не имею права, – скромно ответил Фомич. – Кто его брал, тот пусть и приведет.
– Как же, приведут. На моркошкино заговенье. – Пашка хлопнул дверью и ушел.
– Ну, мать, теперь жди гостей повыше, – изрек глубокомысленный Фомич.
Через день пополудни они нагрянули. Один совсем молоденький, востроносый, простовато одетый – полушубок черной дубки, на ногах черные чесанки с калошами. На втором было темно-синее пальто с серым каракулевым воротником и такая же высокая – гоголем – шапка. И телом второй был из себя посолиднее, с белым мягким лицом, и смотрел уважительно. Вошли, вежливо поздоровались, сняли шапки, обмели у порога ноги и только потом прошли к столу.
– Вы писали жалобу? – спросил Фомича тот, что посолиднее.
– Не знаю, – Фомич выжидающе поглядывал на них.
Авдотья замерла возле печки с ухватом в руках – чугун с картошкой выдвигала, чтоб немного остыл к обеду.
– Мы представители обкома, – сказал младший.
– Не знаю, – Фомич и ухом не повел.
– А-а, понятно! – улыбнулся востроносый. – Федор Иванович, покажите ему бумаги.
Тот, что посолиднее, вынул из бокового кармана конверт с бумагами и протянул Фомичу. Живой взял конверт, проверил бумаги – все писано им, но ответил опять уклончиво:
– Не знаю... Кто такие будете?
– Да вы, товарищ Кузькин, воробей стреляный! – засмеялся опять востроносый. – Вот наши документы. – Он протянул Фомичу свое обкомовское удостоверение, за ним последовал и солидный.
Фомич, не торопясь, прочел удостоверения и только потом предложил сесть к столу.
Вошли ребята – сразу втроем – с сумками в руках и, не глядя, кто и что за столом, заголосили от порога:
– Мам, обедать!
– Да погодите вы, оглашенные. Не успели еще порог переступить. Как грачи. Не видите – люди за столом.
– Нет, нет, кормите! – быстро встал из-за стола молодой. – Мы посидим, подождем.
Фомич вынес из чулана лавку и усадил обкомовцев.
Авдотья налила чашку жидкого гречневого супа и поставила в алюминиевой тарелке очищенную, мелкую, как горох, картошку. Ребята бесцеремонно осматривали гостей и только потом проходили к столу. Ели они молча, дружно и быстро, как вперегонки играли. Вместо хлеба ели картошку, макали ее в соль и отправляли в рот. Опустошив алюминиевую тарелку, выхлебав чашку супа, они полезли на печь.
– А что ж вы им второе не подали? – спросил Авдотью солидный.
– Все тут было, – ответил Фомич. – В чашке, значит, первое, а в люменевой тарелке второе.
– Мам, а что было на второе? – спросил от порога меньшой Шурка.
– На второе кресты, – ответила Авдотья.
– Перекрестись, да на боковую. Так, что ли? – солидный с улыбкой смотрел на Фомича.
Фомич принял шутку:
– Да живот потуже подтяни.
– Кажется, вы уж и так на последнюю дырку затянулись, – сказал солидный.
– Есть еще запас, есть, – отшучивался Фомич, похлопывая себя по животу.
Солидный вопросительно поглядел на молодого, а тот, еле заметно подмигнув Фомичу, улыбаясь, сказал:
– А вы покажите-ка нам свои запасы. – И солидному: – Начнем с подпола, Федор Иванович.
– Да, конечно. Посмотреть надо. – Солидный встал и начал расстегиваться.
Фомич принял его тяжелое пальто и положил на кровать.
– Вы бы лучше повесили, – сказал солидный, с опаской поглядывая на кровать, на ветхое лоскутное одеяло.
– Да у нас на вешалке шоболья-то больше, – сказал Фомич. – Как хотите! Я повешу.
Но солидный, увидев на вешалке драную Фомичову фуфайку да обтрепанные ребячьи пиджаки, поспешно остановил его:
– Нет-нет. Пусть там лежит. Я ведь ни о чем таком не подумал.
Востроносый, растягивая во все лицо подвижные смешливые губы, похлопывал дружески хозяйку по плечу:
– Ничего, ничего. Уладится. – Свой полушубок он кинул рядом с пальто на койку. – Айда в подпол! – Он сам открыл половицы и первым же спрыгнул. – Посветить чего не найдется?
Фомич подал ему зажженную лампу.
– Ну как, Федор Иванович, спуститесь? – спрашивал он из подпола.
– Да, да. – На Федоре Ивановиче был хороший черный костюм и ботинки. Он осторожно оперся о половицы. – Да тут глубоко! Без парашюта не обойдешься. А ну-ка мне точку опоры!
– Сейчас табуретку поставлю. – Фомич подал им табуретку.
Федор Иванович спустился в подпол, и они с минуту оглядывали небольшую кучу мелкой картошки.
– Это что у вас, расходная картошка? – спросил Федор Иванович.
– Вся тут, – ответил Фомич.
Они молча вылезли.
– Кладовая у вас есть?
– Нет.
– Это что ж, весь запас продуктов? – Федор Иванович ткнул рукой вниз.
– Вон еще кадка с капустой в сенях стоит.
Они вышли в сени.
– Как же вы живете? – спросил Федор Иванович растерянно.
– Вот так и живем, – ответил Фомич.
– Я же говорил вам – типичный перегиб, – сказал востроносый. – Мотяковщина!
Федор Иванович как-то посерел, и лицо его вроде бы вытянулось. Не сказав ни слова, он возвратился в избу, быстро оделся и попрощался с хозяйкой, глядя себе под ноги:
– Извините за беспокойство. Постараемся помочь. А вы пройдемте с нами, – сказал он Фомичу.
Возле бригадировой избы стоял "газик".
– Садитесь! – Федор Иванович пропустил Фомича на заднее сиденье вместе с востроносым и приказал шоферу: – Посигналь!
На звук сигнала выбежал из дому Пашка Воронин. Федор Иванович кивнул ему:
– Садитесь...
Пашка влез тоже на заднее сиденье, притиснулся к Фомичу, и поехали. Свернули в Свистуново. Остановились возле правления.
– Пошли! – Федор Иванович вошел первым.
В правлении Гузенкова не оказалось. Лысый Корнеич высунулся из дверей бухгалтерии и сказал услужливо:
– Посидите! Я сбегаю за Гузенковым. Мигом обернусь.
– Не надо! – остановил его Федор Иванович. – Вы кто здесь?
– Счетовод.
– И отлично! Вам Кузькин знаком?
– Так точно! – по-военному ответил Корнеич.
– Завтра Кузькину лошадь выделите. Он в райком поедет.
Корнеич передернул усами и с недоумением глядел то на приезжего начальника, то на стоявшего за ним Пашку Воронина. Наконец осторожно возразил:
– Я, конечно дело, передам Михаил Михайлычу. Только это, товарищ начальник, лодырь. – И поспешил добавить: – Правление, значит, определило его таким способом.
– А это что? – Федор Иванович показал справку. – Кто ее выдавал? Правление?
Корнеич только глянул и рявкнул:
– Так точно! Я то есть. Но, позвольте сказать, товарищ начальник, эту справку он взял обманом.
– Как обманом?
– Он у меня выпросил ее для райсобеса.
– Это не важно, для кого. Верно, что он выработал столько трудодней?
– Это уж точно! – Корнеич по-прежнему стоял навытяжку, и его тяжелые, в крупных синих жилах кулаки доставали почти до колен.
– Так вот, завтра же дать Кузькину лошадь. А вы приезжайте в райком к девяти часам, – обернулся он к Фомичу.
– Товарищ начальник, я лучше пешком пойду, – сказал Фомич.
– Почему?
– Боюсь, замерзну в дороге-то. Мороз вон какой. А моя одежка что твои кружева – спереди дунет, сзади вылетит.
– Хорошо. Дайте ему с подводой и тулуп, – сказал Федор Иванович.
– Сделаем! – рявкнул Корнеич.
– А вы, – обернулся Федор Иванович к Пашке Воронину, – сегодня же возвратите Кузькину велосипед. Он у вас где хранится?
– В сельсовете.
– Вот так. – Федор Иванович, не прощаясь, вышел из правления.
Фомич выбежал за ним.
– Садитесь! – сказал Фомичу Федор Иванович. – Подвезем вас до дому. Да смотрите, завтра вовремя приезжайте. И непременно на лошади.
А поздно вечером Пашка Воронин привел велосипед; он оставил машину на крыльце и постучал в окно. Когда Фомич вышел, его и след простыл.
9
Фомич лошадь все-таки не взял – хлопотно больно: надо идти в Свистуново, глаза мозолить в правлении, потом отгонять ее туда же и топать обратно пешком почти пять верст. Что за корысть? Кабы она на дворе стояла, лошадь-то, или хотя бы в Прудках. А то сбегай в Свистуново туда и обратно – ровно столько же в один конец и до Тиханова будет. И без тулупа нельзя ехать – замерзнешь. А с тулупом еще больше хлопот: не занесешь его в райком, и в санях оставить боязно. А ну-ка кто украдет? Тогда и вовсе не расплатишься.
Утречком по морозцу он легкой рысцой трусил без передышки до Тиханова – мороз подгонял лучше любого кнута.
"Чудная у нас жизнь пошла, – думал Фомич по дороге. – На все Прудки оставили трех лошадей – одну Пашке Воронину, двух для фермы воду подвозить. А мужики и бабы добирайся как знаешь. Ни тебе автобусов, ни машин. В больницу захотел – иди сперва в Свистуново в правление, выпроси лошадь, если дадут – поезжай. А куда-нибудь на станцию, или на базар, или в район – и не проси. У Гузенкова своя машина, у Пашки лошадь и мотоциклет, а у колхозника – шагалки. Бывало, свой автомобиль на дворе стоял – запрягай и езжай, куда захочешь. Хоть по делу, хоть в гости. А то и так просто по селу покататься, выпимши, к примеру, больно хорошо. И ребятам повозиться с лошадью – одно удовольствие. Там в ночное сгонять, в лес съездить. Красота! А теперь они, как бродяги, цельными днями без дела по лугам слоняются. А ведь раньше в зимнюю пору последний человек пеш ходил в Тиханово. Вон Зюзя-конокрад. Да и то, когда подфартит, и на чужом, бывало, проедет..."
В Тихановском райкоме Живого встретила заведующая райсобесом Варвара Цыплакова.
– Зайдем ко мне, Федор Фомич, – пригласила она любезно и поплыла впереди, загораживая собой почти весь коридор.
Время было раннее, в райкоме – пусто.
Фомич удивлен был и ее вежливым обхождением, и таким неожиданным приглашением. Обычно, когда пенсионеры собирались в райсобесе и чересчур шумно толклись возле окошечка кассы, она громовым голосом кричала из соседней комнаты на кассира:
– Егор, уйми своих иждивенцев! Не то всех вас выгоню на мороз.
А теперь она сама открывает перед Фомичом дверь – райсобес был рядом с райкомом – и пропускает его впереди себя.
– Проходите, проходите, Федор Фомич.
Было всего лишь половина девятого, Фомич не торопился. Он сел поудобнее на клеенчатый диван. "Уж коли ты вежливость несусветную проявляешь, – подумал он, – то и я тебя отпотчую". Он достал кисет, свернул "козью ножку" толщиной с большой палец и зачадил кольцами в сторону начальства крепчайшим табачным дымом.
– Я давно еще хотела с тобой, товарищ Кузькин, все поговорить. Кх-а, кх-а! Да ведь ты не заходишь. На дороге тебя не словишь. Кх-а, кх-а! Да что у тебя за табак? Аж слезу вышибает.
– А ты нюхни, Варвара Петровна, своего, – сказал Фомич, подмигивая. – И все пройдет. Клин клином вышибают. У тебя, чай, покрепче моего будет.
Варвара Петровна нюхала табак. Но эту свою слабость она скрывала от посетителей.
– Да я ведь просто так, балуюсь иногда. Да уж ладно! За компанию, пожалуй, нюхну. – Варвара Петровна, смущенно улыбаясь, достала из стола большую круглую пудреницу с черным лебедем на крышке, насыпала оттуда на большой палец щепоть нюхательного табаку и сунула сначала в одну ноздрю, потом в другую. Потом она как-то тихо и тоненько запищала, закрыла глаза ладонью, все больше выпячивая нижнюю губу, судорожно глотая воздух, и вдруг как рявкнет! Фомич даже вздрогнул, поперхнулся дымом и тоже закашлялся.
– А-а-апчхи! Чхи! Хи-и-и! Ой, батюшки мои! – говорила, улыбаясь и вытирая слезы, вся красная, словно утреннее солнышко, Варвара Петровна.
– Кха! Кх-а! Кх-и-и! Черт те подери! – выругался Фомич, сморкаясь и вытирая слезы за компанию с Варварой Петровной.
– Ах, грех мне с вами, Федор Фомич! – Варвара Петровна спрятала наконец пудреницу с лебедем и сразу приступила к делу: – Ведешь ты себя прямо гордецом, товарищ Кузькин. Ведь нуждаешься?
– Да как сказать, – уклончиво ответил Фомич, – с какой стороны то есть...
– В том-то и дело. Нет чтобы зайти ко мне, поговорить, заявление написать. А то приходится все за вас делать. Ведь я одна, а вас, пенсионеров, не перечтешь.
– Мы на тебя не в обиде, – на всякий случай ввернул Фомич.
– То-то и оно-то. Сказано – стучащему да откроется. А вас надо мордой тыкать в дверь, как кутят. Сами-то небось не подойдете. Да уж ладно. Чего там манежить! – Варвара Петровна открыла серую папку, взяла сверху деньги и протянула Живому. – Здесь пятьсот рублей. Бери! Единовременное пособие. И вот тут в ведомости распишись.
Фомич взял деньги и стал медленно пересчитывать их. Пока он считал деньги, мысли его лихорадочно работали: "Кабы мне тут не продешевить? Ежели она вписала эти пятьсот рублей в ведомость, то они никуда от меня не уйдут. Но брать ли их сейчас – вот вопрос. Я ее не просил об этом. Значит, начальство нажало... И что ж получится? Не успели еще мое дело разобрать, а я уже пятьсот рублей взял. Значит, все подумают, что я эту кашу заварил из-за денег. Э-э, нет! Так не пойдет..."
Фомич аккуратно сложил деньги, пристукнул пачкой по ладони:
– Да, верно. Тут пятьсот рублей. – И положил их обратно на стол.
– Это тебе. Пособие, говорю. Бери и расписывайся. – Варвара Петровна, улыбаясь, протягивала ведомость.
– Как же я их возьму? Я не писал, не хлопотал. И вот тебе раз! Бери деньги! Какие деньги? Откуда?
– Я ж тебе говорю – помощь, пособие!
– Пособие обсудить надо. Вот если на бюро райкома решат, тогда другое дело. – Фомич направился к двери и у порога сказал, обернувшись: – А за вашу заботу, Варвара Петровна, спасибо!
Оторопевшая Варвара Петровна только глазами хлопала.
В райкоме в комнате дежурного уже толпился народ. Вчерашнего Фомичова гостя – востроносого, в черном полушубке – окружили несколько председателей колхозов, среди которых был и Гузенков.
– Товарищ Крылышкин, а в наш район будут направлять тридцатитысячников? – спрашивали востроносого.
– Бюро еще не собиралось. Но, по-моему, будут.
– В какие колхозы?
– Кого, товарищ Крылышкин?
– Этого я не могу сказать.
– А вы сами не думаете в колхоз?
– Не думать надо, а решаться, – ответил востроносый.
– Во-во! Думает знаешь кто? Гы, гы...
– Товарищ Крылышкин, давайте ко мне! Нам зоотехник нужен позарез.
– Голова! Он вместо тебя сядет... Столкнет!
– А я подвинусь. На одном стуле усидим.
– С тобой усидишь! У тебя сиделка-то шире кресла. Ха, ха!
– Федор Иванович идет! – крикнул от стола дежурный, и шумный кружок председателей мигом рассыпался и затих.








