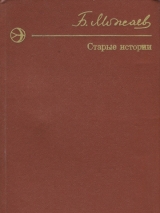
Текст книги "Старые истории (сборник)"
Автор книги: Борис Можаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц)
– Добрый вечер, хозяева! Хлеб-соль вам.
Фомич с Авдотьей ели пшенную кашу; дети нахлебались в первую смену, уже отвалили от стола и копошились тут же, на полу.
– Проходите в избу, раз уж вошли, – сказала хозяйка. – Чего стоять у порога? За постой деньги не платят.
Фомич промолчал.
Спиряк сел в передний угол и бесцеремонно заглядывал в чашку.
– Никак, пшенная каша? А я пашано на блины пускаю.
– У нас не то что на блины, на кашу нет его, пашана-то, – сказала Авдотья.
Фомич отложил ложку, глянул круто на Спиряка.
– Ты чего в ревизоры лезешь? Довольно и того, что твой брат обирает колхоз.
– Ну, брат мой по пуду пашана со двора не собирает. Это у нас раньше только поп Василий огребал по стольку, – едко ухмыльнулся в бороду Спиряк Воронок.
– Да вы с Пашкой и мертвых обираете!
– Это что еще за мертвых?
– Памятники с могил потаскали... Тот на фундамент, а ты на подвал.
– То церковные памятники... с крестами. Камень, и больше ничего. А то – пашано. Да еще по пуду.
– Вы возами везете! – крикнул Фомич.
– Эка хватил! Непойманный – не вор. Мы по закону живем, – продолжал усмехаться Спиряк. – А коли прав человек – он спокоен. Не шуми. Ну, чего волнуешься? Какой я тебе ревизор?.. Авдотья, – сказал Спиряк иным тоном. – Ну-ка, выйди на двор да детишек забери. Нам потолковать надо.
Авдотья, десять лет проработавшая на ферме в ту пору, когда Спиряк Воронок был еще заведующим, привыкла выполнять его приказы автоматически, как старая кавалерийская лошадь выполняет давно заученную команду. И Спиряк уже не начальник, а сам водовоз, и Авдотья не доярка, а давно уж домоседка с вечно опухшими, искривленными какой-то непонятной болезнью пальцами, но все ж приказ сработал: она встала из-за стола и торопливо повязала платок.
– Ты куда? – Фомич хмуро кивнул на скамью. – Садись! Какие у меня могут быть с ним секреты?
Но детей он все-таки выпроводил.
– Гуляйте! – подталкивал Фомич ребятишек в спины, тихо шлепал по затылкам – кроме пятерых своих, в избе играли еще двое соседских.
Когда ребятишки, гулко протопав сенями, выскочили на крыльцо, Фомич сказал:
– Нечего и начинать. Бесполезный разговор.
– Кто ж тебя упредил? Филат, должно быть?
– Кулик на болоте.
– Я ведь вот к чему разговор веду, Авдотья. – Спиряк нарочно обращался теперь к хозяйке. – В каждом деле разумный оборот должен быть. А он не понимает.
– Вижу, какой тебе оборот нужен... Где что плохо лежит – у тебя брюхо болит, – зло сказал Фомич. – Но здесь не отколется.
– Вчера братана встретил, – глядя на Авдотью, сказал Спиряк. – Он говорит: мол, Фомичу самовольный покос запретим. А за то, что на работу не ходит, оштрафуем.
– Господи, что ж это будет, Федя?
– Тебя не спрашивают... Молчи! – цыкнул на жену Фомич.
– А я Пашке говорю, – мягко продолжал Спиряк Воронок, – Фомич многодетный, ему тоже кормиться надо. А на покос выделим ему напарника и оформим это вроде как общественную нагрузку. И все будет по закону.
– Эх ты, обдирала, мать твою... – Фомич длинно и заковыристо выругался.
– Ну вот, я ему выход подсказываю, а он меня к эдакой матери шлет. – Спиряк Воронок смотрел на Авдотью, словно Фомича тут и не было.
– Ладно, передай Пашке – я деда Филата беру в напарники, – сказал Фомич.
Воронок дернулся, словно его током ударило, и пошел в открытую:
– Косить будешь со мной и делить все пополам... Понял? Или...
– Иди ты... Я с тобой еще раньше наработался.
– А что раньше? Мой комбед на хорошей заметке был.
– Ты скольких туда отправил? Ваську Салыгу, к примеру, за что?
– Он лошадьми торговал.
– Не торговал, а больше менял, как цыган. Доменялся до того, что с одной кобылой заморенной остался... Я зна-а-аю за что... – Фомич остервенело погрозил пальцем. – Ты боялся, кабы он тебя не выдал.
– В чем?
– Бреховских лошадей в двадцать седьмом году не вы с Лысым угнали? А Страшной их в Касимове сбыл.
– Это вы по своему примеру судите, – невозмутимо и вежливо сказал Спиряк Воронок. – Петру Лизунину кто отпускную дал? Ты! Уж, поди, не задаром?
– Зато ты, как Лизунин сбежал, все сундуки его подчистил. Небось еще до сих пор не износил лизунинские холстины? А я не жалею, что отпустил его. Он вон где! В Горьком пристанью заведует. И дети у него в инженерах да врачах. А у тебя один сын, да и тот в тюрьме сидит за воровство.
Спиряк Воронок покрылся багровыми пятнами, встал, зло нахлобучил по самые брови кепку:
– Ты и раньше был подкулачником... Обманом в секретари сельсовета проник. А теперь ты – тунеядец. Мы еще подведем тебя под закон. Подведем!..
Он вышел, не прощаясь, сильно хлопнув дверью.
– Что ж теперь будет, Федя? – жалобно спросила Авдотья.
– Ничего... Бог не выдаст – свинья не съест.
Фомич понимал, что его короткому благополучию скоро придет конец. "Но как бы там ни было – отступать не буду. Некуда отступать", – думал он.
На другой день к обеду, когда Фомич с дедом Филатом докашивали деляну Маришки Бритой, на высоком противоположном берегу озера появились дрожки председателя колхоза. Сам приехал – Михаил Михайлыч Гузенков. Он привязал серого в яблоках рысака возле прибрежной липы и с минуту молча разглядывал косарей, словно впервые в жизни видел их. Фомич и дед Филат тоже стояли на берегу и разглядывали председателя; над камышовыми зарослями торчали их головы на тощих журавлиных шеях, как горшки на кольях. А председатель высился на липовой горе, широко расставив толстые, в желтых хромовых сапогах ноги, сложив руки крест-накрест на выпирающем животе, обтянутом расшитой белой рубахой, в белом парусиновом картузе. Ниже, в воде, такой же мощный председатель стоял ногами кверху на картузе, и казалось, он-то, этот нижний, отраженный в воде, и есть настоящий – стоит на голове и держит на себе липовую гору.
– Ну, чего уставились? Давайте сюда! – поманили пальцем оба председателя.
– Нам и тут хорошо, – сказал дед Филат.
– Чего там делать? – отозвался и Фомич.
– Идите, идите... Я вам растолкую, чего делать, – мирно уговаривал их Михаил Михайлович.
– Ты на лошади, ты и езжай сюда, – сказал Фомич.
– Буду я еще из-за вас, бездельников, жеребца гонять.
– Ну и валяй своей дорогой, раз мы бездельники... А нам некогда языки чесать. – Живой вскинул косу на плечо и пошел прочь.
За ним подался и дед Филат.
– Куда! – рявкнул Гузенков так, что рысак вскинул голову и мелко засеменил передними ногами. – Стой, говорю!
– Ну, чего орешь? – Фомич остановился.
Дед Филат нырнул в кусты.
– Ты кто, колхозник или анархист? – распалялся Гузенков.
– Я некто.
– Как это "некто"? – опешил председатель.
– Из колхоза пятый день как ушел. В разбойники еще не приняли... Кто ж я такой?
– Ты чего это кренделя выписываешь? Почему на работу не ходишь?
– Ты сколько получаешь? Две с половиной тыщи? Дай мне третью часть, тогда я пойду в колхоз работать.
– Брось придуриваться! Добром говорю.
– Ежели хочешь по-сурьезному говорить со мной, езжай сюда. Сядем под кустом и потолкуем. А кричать на меня с горы не надо. Я на горе-то всяких начальников видел. Еще поболе тебя.
– Ишь ты какой храбрый! Значит, от работы отказываешься?
– А чего я здесь делаю? Смолю, что ли, или дрыхну?
– Комедию ломаешь. Вот вызовем тебя на правление, посмотрим, каким ты голосом там запоешь.
– Ни на какое правление я не пойду! Я уже сказал тебе – из колхоза я ушел. Насовсем ушел!
– Не-ет, голубчик! Так просто из колхоза не уходят. Мы тебя вычистим, дадим твердое задание и выбросим из села вместе с потрохами. Чтоб другим неповадно было... Понял?
– Понял, чем мужик бабу донял, – усмехнулся Фомич. – А избу-то мою, чай, под контору пустишь? Все ж таки я буду вроде раскулаченного.
– Посмеешься у меня!.. – Председатель рывком отвязал рысака, сел на дрожки и, откидываясь на вожжах, покатил вдоль озера.
По тому, как, скаля зубы, закидывал голову терзаемый удилами рысак, по каменной неподвижности налитого кровью стриженого затылка председателя можно было заключить, что уехал он в великом гневе.
– Ну, Федька, таперь держись, – сказал дед Филат, из-под ладони провожая строгого председателя.
5
Изба Фомича стала подаваться как-то враз. Вроде бы еще в прошлом году стояла исправной, а нонешней весной, когда Фомич откидывал высокий, почти до окон завалинок, он вдруг заметил, что нижние венцы выпучило, словно изнутри их кто-то выпирал.
– Обрюхатела изба-то. Впору хоть ремнем ее подпоясывай, – невесело доложил он хозяйке.
А к осени сильно просела почерневшая от времени и копоти матица, и по ночам в ветреную погоду, когда тоскливо подвывало в трубе, матица сухо поскрипывала, словно кряхтела натужно.
– Федя, подопри ты матицу, – жаловалась в такую пору Авдотья. – Прихлобучит нас вместе с ребятами. Не выползешь.
Спала она с детьми на печи, а Фомич – на деревянной кровати, если ее можно было назвать кроватью. Длиной она была не более полутора метров, хотя и занимала весь простенок, до самой двери. Дальше нельзя – некуда! Изба-то семиаршинка... На такой кровати не вытянешься.
По ночам рядом с кроватью он ставил табуретку и протягивал на нее ноги.
– Жить захочешь – научишься изворачиваться, – любил приговаривать Фомич.
После встречи с председателем у озера Фомича вызывали в правление колхоза на центральную усадьбу в соседнее село Свистуново. Но Фомич не пошел. Там решили заглазно – исключить его из колхоза и утвердить это решение на общем собрании. Утвердили. А колхозникам запретили сдавать Кузькину свои телячьи деляны лугов для выкашивания. Так была нарушена неожиданная статья дохода Живого. Но Фомич посмеивался:
– Ничего, Дуня! Вот теперь я начну избу ухетовать. Спасибо им, хоть от работы меня освободили.
Жизнь не больно баловала Фомича. Детство трудное – сиротское. В юности не успел как следует погулять, как его и оженили. Повезли венчать. Как ехали – в тулупах, – так и вошли в церковь. На Фомиче старый отцовский тулуп тащился полами по ступеням паперти, а воротник и вовсе упрятал его голову так, что одна шапка выглядывала. "Пудоросток, как есть пудоросток, – сокрушенно вздыхала мать, идя за ним вслед, – невестка и то, кажись, поболе его будет".
А священник, встретив эту робкую, прижавшуюся в углу свадебную процессию, спросил весело:
– А где жених-то, чады мои?
Кроме Фомича, из мужиков был еще только отец Дуняши – мужчина рослый, с окладистой седой бородой. Пришедшие поглазеть сдавленно прыскали и прикрывались ладонями, будто крестились. Мать толкнула тихонько Фомича в спину:
– Ен, батюшка, только на вид пудоросток, а так парень живой.
Поп громко засмеялся:
– И наречен был Живым?
– Живым, батюшка, живым, – ляпнула с перепугу старуха под общий уже несдержанный хохот.
– Если живой, значит, подрастет, – бодро сказал поп.
С тех пор и прозвали Фомича Живым...
А после свадьбы он и в самом деле подрос, на работе вытянулся. Год вместе с молодой женой батрачили они у свистуновского маслобойщика, а потом купили корову с лошадью и зажили своим хозяйством. Эти первые годы после женитьбы были затяжной и веселой погоней за достатком.
– Мы тройкой везли, – говаривал Фомич, вспоминая об этом времени. – Лыска коренником шла, а мы с Дуней – пристяжными.
Эх, Дуня, Дуня! Это теперь ты стала на вздохи скорой да на слезы слабой... А раньше, как зяблик, от зари и до зари колокольчиком заливалась, веселей тебя не сыскать...
Удивляли они прудковцев тем, что на втором и на третьем году замужества все еще ходили по весенним вечерам на припевки. Собиралась молодежь на красной горке возле церковной ограды. Фомич приходил с хромкой на плече. Дуня в желтых румынках, в цветном платочке да в безрукавной продувной кофточке. Живой, бывало, приглядится к гармонисту, своему ли, чужому ли, все равно. Снимет гармонь – ухо к мехам... Да как ахнет! И голос в голос угадывал – так вольется. И две гармони играют, как одна. А Дуня только того и ждет, ее не надо упрашивать. Как бы нехотя снимет платок, лениво поведет плечами и пойдет по кругу с притопом, только дробь от каблуков горохом сыплется:
Гармонист, гармонист, тоненькая шейка!
Я спляшу тебе страданье – играй хорошенько.
А с лавочки глуховатым мягким баритоном отзывался Живой:
Ты залетка-залетуха,
Полети ко мне, как муха...
– Вот живые, черти! – ворчали на завалинках бабы. – Детей уж пора нянчить, а они все еще ухажерятся.
– До женитьбы не успели, теперь отгуляем. Мы свое возьмем, – отвечал Фомич.
И на работе в колхозе, и в первые годы на воскресниках Дуня отличалась. Бывало, пойдет бороздой за сохой картошку сажать – от сохи не отстанет. Идет, как на привязи – мелким шажком, корзина на груди, а руки так и порхают от корзины да в борозду. Только корзины поспевай нагружать. Ребятишки на погляд сбегались, когда она сажала картошку. Ни одна ни девка, ни баба по всему колхозу не смогла бы угнаться за ней в борозде. Недаром и ее прозвали Живой. Была она смолоду, как и Фомич, смугла лицом, с быстрыми, серыми, глубоко посаженными глазами. За то ее мать Фомича, острая на язык старуха, прозвала "долбленые глаза". Потом пошли дети с такими же серыми "долблеными" глазами. И так уж получилось – вся тяжесть по домашнему хозяйству, "по поению-кормлению", как говорил Фомич, легла на Авдотью. Сам он скоро отошел от колхозных дел, поскольку получил продвижение "на руководящую линию", потому как был из батраков, бедняцкого происхождения.
Это батрацкое прошлое не только не принесло удачи Фомичу, но даже совсем наоборот, – можно сказать, сыграло с ним злую шутку.
В первые годы безбедной жизни в колхозе, когда выдавали еще по двенадцать пудов на едока, Фомича направили в сельсовет секретарствовать. Платили самую малость – сапог яловых не справишь. А кирзовых еще не продавали, делать пока не научились. Потом и вовсе худо стало: в Прудках сельсовет закрыли, и Фомич стал работать в Свистуновском сельсовете. Каждое утро и вечер пять верст по лугам туда-сюда бегал.
"Я теперь, как дергач, – говорил Фомич, – тот своим ходом на зимовку бегает, а я – на работу. Только вот еще крякать не научился". – "Зима подойдет – небось закрякаешь, – отзывалась старуха. – Одеть-то нечего. Пеньжак вот ветхий, хорошенько дунь в него – разлетится, как сорочье гнездо". – "Счастье, мать, не в пеньжаке". – А в чем?" – "Кто его знает".
Фомич и в самом деле не знал, в чем счастье. Когда был маленьким, думал: счастье – это большой дом с хорошим садом, как у попа Василия, откуда пахнет летом сиренью да яблоками, а зимой блинами. Стал подрастать, думал: счастье – это жениться на Дуняшке. Но не успел еще как следует помечтать, а его уж и оженили. Потом он мечтал заработать много денег, накупить лошадей, коров, построить большой двор, совсем как у Лизунина... Но тут колхоз пришел. А в колхозе какое оно, счастье! Богатство не в чести. Революционная дисциплина и работа, чтоб всем было хорошо. Ладно! И такое счастье может быть. Но, работая секретарем сельсовета, Фомич знал, что год от году со всех колхозов берут поставок все больше и больше, а колхозы слабеют. Мало того, поначалу всем колхозникам хлеба давали столько, чтобы голоду не замечалось. На едоков, значит. А приработок шел тому больше, кто работал лучше. А теперь бригадирам, да трактористам, да учетчикам всяким платят много, а кому и совсем чепуху. Как же может быть в таком колхозе всем хорошо? И вспоминались ему слова Лизунина: "Колхоз это вот что такое: хитрый наживется, красивый налюбится, а дурак навалтузится". Пусть это неправда! Но ведь неправдой оказалось и то, во что верил Фомич, когда шел в колхоз: "Сделаем так, чтобы всем жилось хорошо". Выходит, и в колхозе счастья для него нет.
В тридцать пятом году Фомича послали как выдвиженца на двухгодичные курсы младших юристов. Однако не прошло и года, как всех недоучившихся курсантов стали направлять председателями в колхозы. Фомича направили в лесной колхоз мещерской полосы. Всю жизнь Фомич хозяйствовал на черноземе да на лугах. И что у него за хозяйство было? Земли – свинья на рыле больше унесет. А здесь колхоз, да еще лесной... К этому времени Фомич стал кое-что понимать – тот председатель хорош, который и начальство подкрепит сверхплановой поставкой, и колхозников сумеет накормить. А для этого великая изворотливость нужна. И главное – крепкая основа хозяйства: либо земля сильная, либо промысел какой доходный. Тогда еще можно продержаться. Но поехал Фомич в тот мещерский колхоз, поглядел: земля – подзол да болота. Зима подойдет – мужики обушок за пояс и пошли в отход. Своя земля и раньше не кормила. Чего же Фомич там сотворит? На чем развернется? А ведь осень подойдет – сдай хлеб государству и мужикам выдай. Это какая же изворотливость, какая голова нужна? Нет, здесь он не потянет. И Фомич наотрез отказался идти в председатели. Тогда его исключили из партии, отчислили с курсов, и приехал он в Прудки с подмоченной репутацией, как "скрытый элемент и саботажник".
А вскоре и беда пришла. В тридцать седьмом году по случаю первых выборов в Верховный Совет был большой митинг в районе. Приезжал сам депутат – финансовый нарком. Мужики, съехавшиеся со всех сел по случаю базарного дня, густо запрудили площадь, в центре которой на дощатой трибуне стоял депутат, и зорко подмечали, что росту нарком был с Ваню Бородина, самого высокого мужика из Свистунова, что шапка была на наркоме бобровая, а папиросы он курил "эдакие вот, по сковороднику".
После митинга обещали выкинуть на лотки белые булки. Но булок этих оказалось мало, и когда подошла очередь Фомича, продажа кончилась. Фомич прочел вслух вывеску над ларьком: "Потребсоюз" и сказал: "Нет, это потрепсоюз". Вокруг поднялся смех. Тогда к Фомичу подошел представитель рика и сказал: "Попрошу пройти со мной". На лбу у него не было написано, что он эдакий представитель, и Фомич послал его подальше. Представитель взял Фомича за воротник полушубка... Живой в драке был мужик отчаянный. Он захватил руку этого представителя, нырнул ему под мышку и кинул его так через себя, что у того аж калоши с хромовых сапог послетали. Раздались тревожные свистки, и Фомича забрали.
Судила его тройка "за антисоветскую пропаганду", да еще в "период подготовки к выборам". Припомнили все: и "скрытый элемент", и саботаж, то есть отказ от председательства, и исключение из партии. И отправили на пять лет в тюрьму по "линии врага народа".
Но Живой и в тюрьме не застрял. В тридцать девятом, в финскую войну, многие из заключенных подавали заявления в добровольцы.
Фомич тоже написал. Дело его пересматривали и освободили. Но пока заседали комиссии, пока ходили туда-сюда запросы: "Был или не был в лишенцах?", "Выступал ли против коллективизации?" и прочее – пока освобождали его, финская война окончилась.
Однако повоевать успел Фомич вдоволь в большую войну...
Принес он с войны орден Славы и две медали, да клешню вместо правой руки.
И откуда же знать Живому – есть ли на свете счастье? И какое оно? Перебирая дни и годы своей жизни, он сортировал их, как тальниковые прутья для корзины: те, что побольше, поважнее, – на стояки шли, помельче – в плетенку. Отброса вроде бы и не было – все деньки истрачены на дело. Теперь вот стали говорить, что счастье есть труд. Если это правда, тогда Фомич самый что ни на есть счастливейший человек на свете. В любую, самую трудную пору своей жизни он находил себе подходящее дело.
Вот и теперь по ночам Фомич на себе приволок из-за Луки несколько дубовых бревешек, подправил нижние подопревшие венцы и, главное, сделал подпорку под матицу – пусть хоть хозяйка спит спокойно.
Вместе с холодами постучала в избу Живого и тревога – пришла повестка: явиться в райисполком на "предмет исключения".
6
День выдался слякотный: с утра пошел мокрый снег вперемешку с дождем. Промерзшая накануне земля осклизла и налипала на подошвы. Фомич осмотрел свои ветхие кирзовые сапоги и решил привязать резиновые подошвы сыромятными ремнями: дорога до Тиханова дальняя – десять километров. В такую пору немудрено и подошвы на дороге оставить. Фуфайку он подпоясал солдатским ремнем – все потеплее будет. А поверх, от дождя, накинул на себя широкий травяной мешок. Вот и плащ! Да еще с капюшоном, и шлык на макушке. Как буденовка.
– Ну, я пошел! – появился он на пороге.
Как увидела его Авдотья в таком походном облачении, так и заголосила:
– И на кого же ты нас спокидаешь, малых да старых? Кормилец ты наш ненаглядный! Ох же ты злая долюшка наша... По миру итить сиротинушкам!
– Ты что вопишь, дуреха? Я тебе кто – покойник?
– Ой, Федя, милый, заберут тебя и посадят... Головушка моя горькая! Что я буду делать с ними, малолетними? – Авдотья сидела за столом облокотясь и, торопливо причитая, пронзительно взвизгивала.
Меньшой, Шурка, зарылся в материнские колени и тоже заревел.
– Глупой ты стала, Дуня... – как можно мягче сказал Фомич. – Ныне не тридцатые годы, а пятьдесят третий. Разница! Теперь не больно-то побалуешься... Вон самого Берию посадили. А ты плачешь!.. Смеяться надо.
И, махнув рукой на квелость своей хозяйки, Живой ушел из дому. "Ну, что теперь преподнесет мне Семен Мотяков?" – думал он по дороге.
Председатель райисполкома Мотяков был годком Фомичу. В одно время они когда-то выдвигались – Мотяков работал председателем сельсовета в Самодуровке. Потом вместе на юридических курсах учились. В одно время их направили и работать председателями колхозов. Только Фомич тогда отказался от своего поста, а Мотяков пошел в гору...
Живой понимал, что с Мотяковым шутки плохи: тот еще раньше лихо закручивал, а после войны, окончив в области какие-то курсы, и вовсе грозой района стал. Его любимое выражение: "Рога ломать будем! Враз и навсегда..." – знал каждый колхозный бригадир.
"Ну и что? У меня и рогов-то нету. Все уже обломано... Поскольку я комолый, мне и бояться нечего", – бодрился Фомич.
На исполкоме он решил держаться с вызовом. "Для меня теперь чем хуже, тем лучше. Ну, вышлют. Эка невидаль! На казенный счет прокачусь. А там и кормить хоть баландой, да будут".
Вымокшим, продрогшим до костей пришел Живой в Тиханово. Рик размещался в двухэтажном кирпичном доме посреди райцентра.
Живой как был в мешке, так и вошел в приемную.
– Кто меня тут вызывал?
– Вы что, на скотный двор пришли? – набросилась на него молоденькая секретарша. – Снимите сейчас же мешок! Да не сюда. За дверь его вынесите! С него прямо ручьями течет... Вынесите!
Живой снял мешок, но с места не двинулся.
– А ну-ка его кто унесет оттуда? У меня это, может, последний мешок...
– Да кому он здесь нужен? Ступайте! Чего встали у порога?
Живой было двинулся к двери председателя.
– Ага! Вы еще туда с мешком пройдите... Вот они обрадуются. – Секретарша встала из-за стола и энергично выпроводила Живого за дверь. – Бестолковый народ! Целую лужу оставил. Я вам что, уборщица?
Через минуту Живой вошел без мешка, но текло с него не меньше.
– Вы что, в пруду купались, что ли?
– Ага, рыбу ловил бреднем. А потом думаю: дай-ка обогреюсь в рике. У вас вон и мебель мягкая.
На этот раз секретарша и встать не успела, как Живой бесцеремонно прошел к столу и плюхнулся на диван.
– Во! В самый раз...
– Вы... Вы к кому?
– К Мотякову на исполком.
– Вы из Прудков? Кузькин?
– Ен самый...
– Да где же вы шатаетесь?! – словно очнулась она и набросилась на Живого с новой силой: – Встань! Его ждут целый час руководители, а он где-то дурака валяет.
Не слушая объяснений Фомича, она быстро скрылась за дверями и тотчас вышла обратно:
– Живо ступай! Ишь расселся.
Живой вошел в кабинет. На председательском месте сидел сам Мотяков, возле стола стоял секретарь райкома Демин в темно-синем бостоновом костюме. Члены исполкома, среди которых Живой узнал Гузенкова, да председателя соседнего колхоза Петю Долгого, да главврача районной больницы Умняшкина, сидели вдоль стен и курили. Видать, что исполком уже кончился, – за длинным столом лежали исписанные листки бумаги, валялись карандаши.
– Вот он, явился наконец, ненаглядный! Извольте радоваться. – Мотяков сверкал стальными зубами, поглядывая на Фомича исподлобья.
Демин кивнул Живому на стул, но не успел Фомич и присесть, как Мотяков остановил его окриком:
– Куда! Ничего, постоишь... Не на чай пригласили небось. – Мотяков встал из-за стола; на нем были защитный френч и синие командирские галифе. Засунув руки в карманы, он петухом обошел вокруг Фомича и съязвил: – Курица мокрая... Еще бунтовать вздумал.
– А у вас здесь что, насест? Если вы кур собираете, – сказал Живой.
– Поговори у меня! – крикнул опять Мотяков и, подойдя к Демину, что-то зашептал ему на ухо.
Демин был высок и тощ, поэтому Мотяков тянулся на цыпочках, и его короткий широкий нос смешно задирался кверху.
"Как обнюхивает", – подумал, глядя на Мотякова, Фомич и усмехнулся.
Демин кивнул Мотякову маленькой сухой головой, Мотяков подошел к столу и застучал костяшками пальцев:
– Начнем! Тимошкин, на место!
Кругленький проворный секретарь райисполкома Тимошкин с желтым, как репа, лицом присел к столу по правую руку от Мотякова и с готовностью уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами. Демин отошел к стенке и присел рядом с другими членами исполкома.
– Гузенков, давай, докладывай, – сказал Мотяков.
Михаил Михайлыч встал, расставил ноги в сапожищах, словно опробовал половицы, – выдержат ли? – вынул листок из блокнота и начал, поглядывая на Мотякова.
– Значит, после сентябрьского Пленума вся страна, можно сказать, напрягает усилие в деле подъема сельского хозяйства. Каждый колхозник должен самоотверженным трудом своим откликнуться на исторические решения Пленума. Но есть еще у нас иные-протчие элементы, которые в рабочее время ходят по лугам с ружьем и уток стреляют. Мало того, они подбивают на всякие противозаконные сделки неустойчивых женщин на ферме, которые по причине занятости не могут сами выкашивать телячьи делянки. И косят вместо них, а взамен берут пшеном и деньгами. Куда такое дело годится? Это ж возврат к единоличному строю... Мы не потерпим, чтобы нетрудовой элемент Кузькин разлагал наш колхоз. Либо пусть работает в колхозе, либо пусть уходит с нашей территории. Просим исполком утвердить решение нашего колхозного собрания об исключении Кузькина Федора Фомича.
Гузенков сел, а Мотяков злорадно посмотрел на Фомича:
– Ну, что теперь скажешь? Небось оправдываться начнешь?
– А чего мне оправдываться? Я не краду и не на казенных харчах живу, – сказал Фомич.
– Поговори у меня! – крикнул Мотяков.
– Дак вы меня зачем вызывали? Чтоб я молчал? Тогда нечего меня и спрашивать. Решайте как знаете.
– Да уж не спросим у тебя совета. Обломаем рога-то враз и навсегда. – Мотяков засмеялся, обнажив свои стальные зубы.
– Товарищ Кузькин, почему вы отказываетесь работать в колхозе? – вежливо спросил Демин тихим хрипловатым голосом.
Длинные белые пальцы он сцепил на колене и смотрел на Живого, слегка откинувшись назад.
– Я, товарищ Демин, от работы не отказываюсь. Цельный год проработал и получил из колхоза по двадцать одному грамму гречихи в день на рыло. А в колхозном инкубаторе по сорок граммов дают чистого пшена цыпленку.
– Скажи ты, какой мудрый! Развел тут высшую математику... – сказал Мотяков. – А я тебе политику напомню: работать надо было лучше. Понял? Распустились! Небось год назад и не пикнул бы. Права захотел. А я тебе обязанности напомню.
Демин обернулся к Мотякову и сказал тихо, будто извиняясь:
– Товарищ Мотяков, с этими методами кончать надо. С ними вы далеко не уедете.
– Уедем! – крикнул Мотяков.
Демин как бы от удивления вскинул голову и сказал иным тоном:
– Товарищ Мотяков!
– Ну, ну... – Мотяков что-то невнятное пробормотал себе под нос и уткнулся в стол.
– Так, значит, вы отказываетесь работать? – опять ровным голосом спросил Демин Кузькина.
– Я, товарищ Демин, работать не отказываюсь. Я только бесплатно не хочу работать. У меня пять человек детей, и сам я инвалид Отечественной войны.
– Видали! Он себе зарплату требует... Вот комиссар из "Красного лаптя", – засмеялся опять Мотяков. – Ты сначала урожай хороший вырасти, а потом деньги проси. Дармоед!
– А ты что за урожай вырастил? – спросил, озлобясь, Живой. – Или ты не жнешь, не сеешь, а только карман подставляешь?!
– Поговори у меня! – стукнул кулаком по столу Мотяков.
– Семен Иванович! Да успокойтесь, в конце концов. – Демин опять пристально, с выдержкой посмотрел на Мотякова.
Тот надулся и затих.
– Но ведь, товарищ Кузькин, не вы же один состоите в колхозе, и тем не менее вы один отказывались работать! – сказал Демин.
– Странный вопрос! – ответил Фомич. – А если я, к примеру, помирать не хочу? Или вы тоже скажете: не ты первый, не ты последний?
– Разумно, – усмехнулся Демин. – Но, товарищ Кузькин, надо же сообща болеть за свой колхоз.
– Мы болеем, – ответил Кузькин. – Да болезнь-то у нас разная. У меня брюхо сводит, а вот у Гузенкова голова с похмелья трещит.
– Давай без выпадов! Тоже критик нашелся, – не выдержал опять Мотяков.
– Но, товарищ Кузькин, почему у вас такой плохой колхоз? Кто же виноват?
– Война виновата, – сказал Мотяков.
Кузькин пристально, подражая Демину, поглядел на него:
– Война-то виновата... – и обернувшись к секретарю: – Вы, товарищ Демин, знаете, как у нас картошку потравили?
– Какую? – очнулся Гузенков.
– Семенную!
– Ну, ну? – заинтересованно подался Демин.
– Перебирали ее, перебирали – пошли на обед. Вернулись, а ее три коровы пожирают – хранилище проломили, прямо с неба сошли... Бока во разнесло.
– Как же так? – Демин глянул на Гузенкова.
Тот весь напыжился и только головой мотнул.
– Его работа, – сказал Кузькин. – Нагородили чурку на палку... Он плотников привозил. Премиальные платил им, быка съели. А хранилище слепили – свинья носом разворотит.
– А что потом с картошкой? – спросил Демин.
– Гузенков сказал: всю картошку перевезти в подвал к Воронину, к нашему бригадиру. Весна подошла – а Пашка Воронин и говорит: нету картошки, вся померзла.
– А вы писали куда-нибудь, в районные инстанции?
– Писал. А что толку? Писать в нашу районную инстанцию – это одно и то же, что на луну плевать.
– Кому это ты писал? – поднял голову Мотяков.
– Тебе, например.
– Мне? Не помню. – Он обернулся к Тимошкину: – Тимошкин, было?
– Не поступало, – выпалил тот.
– А это что? Не твоя подпись? – Кузькин вынул из кармана открытку и сунул ее Тимошкину. – У меня письмо с муд... уведомлением. Знаю, с кем дело имею.
Тимошкин покосился на открытку:
– Мою подпись надо еще документально доказать. А может быть, это подделка?
– А ну-ка? – Демин подошел к столу и взял открытку. – Товарищ Мотяков, в этом деле разобраться надо.
– Это само собой... Разберемся. Кто письмо потерял, кто факты извратил... Виноватых накажем.
Скрипнула дверь, вошла секретарша:
– Товарищ Демин, вас к телефону. Из обкома звонят.








