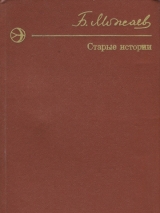
Текст книги "Старые истории (сборник)"
Автор книги: Борис Можаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 23 страниц)
– Нет, мы должны вырешить.
– Я грю, стажа у него нет...
– Смотри-ка, председатель, кабы тут обману не было! – загалдели со всех сторон.
– Да стаж у него колхозный и в самом деле малый. – Председатель теребит заявление Викула и смотрит на него так, для порядка. – Значит, всего работал здесь шесть лет, а нужно двадцать пять...
– А что там работал, рази это не в зачет? – спрашивает Викул.
Председатель, совсем еще молодой человек, выпячивает красную, будто с мороза, нижнюю губу, подымает девичьи тонкие брови – силится взвесить Викуловы сроки – и наконец произносит, пожимая плечами:
– Конечно, все надо засчитывать. Но поскольку мы колхоз... у нас есть свой устав... Как собрание решит.
В зале опять заволновались:
– Он там и утром и в обед пайку хлеба получал...
– А мы деруны пекли...
– Хлеба-то не давали на трудодни...
– А ему пайку три раза в день!..
– Дак ведь я ж за эту пайку норму выколачивал!
– А мы что, не работали?
– Зачем все кричите? – приподнялся в президиуме сухопарый татарин с оголенной кирпичной шеей, вылезавшей из облезлой фуфайки. – Пускай Пешка скажет. Она, это самое, парьторг.
– Жасеин! Я сколько раз говорил тебе: не Фешка, а Фетинья Петровна, – строго обрывает его председатель колхоза и косо смотрит на широкогрудую, широколицую Фетинью Петровну.
– Какой разница! Пускай будет Петинья Петровна.
Фетинья Петровна зарделась до ушей:
– Дак ежели каждый, кто вернулся, пойдет к нам в колхоз на пензию, тогда чо же будет? На трудодни не хватит.
– Расшиби вас паралик!..
– Я в таком деле несогласная.
Бабы зашумели, заволновались.
– Цыц вы, проклятущие! – не вытерпел Парамон и встал с места спиной к президиуму, лицом к задним рядам, где на скамьях густо сидели колхозницы. – Вам какое равноправие дадено? Голосовать?! Вот и сидите – ждите. А тут мы и без вас разберемся.
– Ты уж помалкивай, Лотоха! – крикнула на него Фетинья Петровна. – Ишь раскричался! Мы еще разберем тебя за домашнее самоуправство.
– Какое ишшо самоуправство? – Парамон с вызовом обернулся и наклонил голову, словно бодаться решил.
– На жену кто руку подымал?
– А ежели за дело? Что ж это за порядок завели: бабу свою нельзя поучить? Дак она тебе на шею сядет. – Он стукнул себя по сухой и морщинистой шее.
– Тебе сядешь на шею...
– Дан на его шее, ровно на суку, воробей, может, и усядется.
Парамон азартно замахал руками, стараясь унять смеявшийся зал.
– Садись, садись, – кивнул ему председатель колхоза. – Дойдет и до тебя черед.
– Мы еще разберем его... Кто у Криволаповой опару хлебную выпил? – Фетинья Петровна погрозила пальцем.
– Может, мякину ишшо съел? – огрызнулся Парамон, но сел быстро, как в воду нырнул.
А Викул, чуя, что его "пензия" ускользает, поднял руку и помахал шапкой:
– Я в колхоз вступал ай нет?
– Вступал, – ответил Минеевич.
– Чего я отнес туда? Значит, два хомута ездовых, два пахотных, три бороны, одну железную, – Викул загибал пальцы, – дроги на железном ходу.
– Все понятно, Викул Андриянович, – останавливает его председатель колхоза.
– А ты, председатель, не перебивай! Дай слово сказать человеку, – поднялся чернобровый, богатырского сложения кузнец Филат Олимпиевич. – Не то иной человек блоху привел на аркане в колхоз, а туда же за пензией топает... За что, к примеру, Карпею Ивановичу выдали пензию? Что он, внес в колхозную кладовую накопления?
– Извиняем, извиняем... – с готовностью отозвался Карпей. – Я в Назаровке вступал в колхоз. Там я сдал поболе вашего.
– Вот и ступай в Назаровку за пензией! Стаж свой где растерял?
– Товарищи, ведь он же самый старый у нас! – вступается за Карпея председатель. – Ему еще в то время, когда колхоз создавали, уже пенсию надо было платить.
– Совершенно справедливые слова говорите, – ввернул Карпей.
– Сколько вам лет, Карпей Иванович?
– Второй годок после сотни...
– Ну что ж вам еще! – Председатель махнул рукой, и те сели.
Помедлив, сел и Викул.
– Значит, голосуем, – сказал Минеевич. – Кто за то, чтобы Викулу пензию отказать?
Руки поднялись довольно густо.
– Пешка пусть считает...
– Жасеин, опять!
– Петинья Петровна, какой разница...
– Чего ж считать? И так ясно, – говорит Фетинья Петровна. – Большинство против.
– Вот видите, Викул Андриянович, не получается у вас с колхозной пенсией, – обратился председатель колхоза к Викулу. – Придется вам ждать государственной пенсии.
Но Викул встает, тычет себя шапкой в грудь и заведенно произносит:
– Дак же обсудить надоть.
– Все уже, все!.. Голосование было...
– Одно дело – голосование, другое – обсудить надоть. Мне никак нельзя без пензии. – Он опять кланяется президиуму, потом по сторонам: – Товарищи правление! Товарищи мужчины и протчие женщины...
Но его никто не слушает. Председатель, косо поглядывая на листок с повесткой дня, лежащий перед Минеевичем, произносит:
– Разбирается заявление Черепенникова Федула Матвеевича.
– Очередной! – выкрикивает, опомнившись, Минеевич и смотрит в зал.
Встает Федул, плотный квадратный старик с лихо закрученными усами, краснощекий, черноглазый еще по-молодому. Браво расправив грудь, он рыкнул на Викула:
– Кого тебе ишшо надо? Вырешили старики – и надевай шапку. Садись!
– ...поскольку кормильца лишен, – твердит свое Викул.
– Вам будут хлопотать пенсию через сельсовет, Викул Андриянович, – пояснил председатель колхоза и кивнул в сторону председателя сельсовета.
– Дадим ему что положено как одинокому. Но учтите, тогда его надо из колхоза выводить. – Председатель сельсовета сел, и стул под ним жалобно скрипнул.
– А у вас таких правое нету, чтобы выводить меня из колхоза. Два ездовых хомута сдал, три бороны, одну железную, да дроги на железном ходу, да плуг двухлемешный...
– Ясно, ясно, Викул Андриянович, – успокаивает его председатель колхоза. – Решили с вами... Садитесь. Похлопочем.
Викул наконец садится, но все еще бормочет про себя:
– Обсудить надоть... Я тоже закон знаю.
Федул держит руки по швам и с готовностью таращит глаза на президиум. Как только председатель колхоза обернулся к нему, он скороговоркой отчеканивает:
– Я тоже сдал в кладовую накопления: двух кобыл, одну жеребую, бричку на железном ходу, двенадцать метров пеньковой веревки для постромок...
– Ты лучше скажи, где ты работал? – перебивает его Фетинья Петровна.
– А где ж? В колхозе и работал...
– В колхозе? – весело переспрашивает Фетинья Петровна. – А кто ж тебя видел, как ты работал?
– Могут подтвердить свидетельским показанием Амос, Феоктист, Микиш...
– Это какой Микиш? – спрашивает Минеевич.
– А Черепенников!
– Дак он же второй год как помер.
– Ну тогда Симеон, – не сморгнув глазом отвечает Федул.
– Ты самулянт! – взрывается Минеевич. – Ты всю жизнь просамулировал...
– А ты прорыбачил, – отбивается Федул. – На пасеке бабу оставишь, а сам на реку... Теперь ишшо на сцену залез. Слазь оттудова... Не заслужил!
– Да я тебя слова лишаю! – грохнул Минеевич кулаком по столу.
– Лишенцев теперь нету! Упоздал на сорок лет... Хватит...
– Ты как был подкулачником, так и остался! – крикнул, багровея, Минеевич.
– А ты раскулаченными холстинами торговал... – не сдавался Федул.
Минеевич заерзал на стуле и беспокойно озирался по сторонам, как бы ища поддержку в президиуме. А в зале смеялись и топали ногами.
– Федул Матвеевич, припомните все ж таки, где вы работали? В какой бригаде? – спрашивает Фетинья Петровна.
– Вот те раз! – пучит глаза Федул. – А кто вас всю войну дровами обвозил? Школу, сельсовет...
– Тять, это ж ты от райтопа работал, – дергает его за полу сидящий рядом сын-тракторист.
– А ты молчи! Тебя не спрашивают... – отымает полу Федул. – А кто в бойной работал?
– Бойная от сельпа была! – кричит Минеевич.
– Хорошо. Ладно... А кто десятидворкой по дорожному делу руководил? Кто вас выгонял с подводами на щебень, за песком? Это вы мне так теперича отплачиваете!.. Мстительность ваша, и больше ничего...
– Это обчественная нагрузка...
– Не юляй... В какой бригаде работал?
– Садись, тятя, садись...
– А ты молчи! – Федул скидывает с себя полушубок, за который тянет его сын, и торопливо начинает выдергивать рубаху из-под пояса. – А теперь учтите такую прокламацию. Поскольку я награжденный "Георгием" и воевал в последнюю очередь в мировую... Ишшо в японскую на Цусиме, на "Цесаревиче" то есть. А в плен попадал!.. Это как можно отбросить? Что надо мной там японец исделал? – Он заголил по самую шею рубаху, обнажив синевато-белое брюхо и мускулистую, заросшую седыми волосами грудь. На его груди, размахнув крылья, парил татуированный орел; в когтях он нес женщину, у которой вместо головы приставлен был сморщенный Федулов пуп. – Вот какие протчие предметы оставил на моем теле плен, – торжественно произнес Федул в наступившей тишине, поворачиваясь во все стороны оголенным брюхом. – Спрашивается, когда ж мне было работать? Иль и это не в зачет?
– Ты нам пузо не показывай. Его в протокол не запишешь. И птицу твою мы видели. Опусти рубаху! – повышает голос председатель сельсовета. – Ты что, не знаешь, как отвечать надо? В какой бригаде работал, говори?!
Федул опустил рубаху и молча стал запихивать ее, оттягивая пояс штанов.
– А что его спрашивать? Голосовать надо, – сказала Фетинья Петровна.
– Поскольку Федул Черепенников стажу колхозного не подтвердил, ставим на голосование. Кто за то, чтобы пензию Федулу не давать? – спросил Минеевич.
– Можно не считать. Картина ясная – почти единогласно. Опустите руки, – сказал председатель колхоза. – И последний вопрос: какую пенсию назначим Максиму Минеевичу Пустовалову? – Председатель взял со стола заявление Минеевича и прочел: – "Поскольку я создавал колхоз, был в активе и безотлучно выходил на работу, а не какой-нибудь тунеядец, прошу назначить мне двадцать рублей в месяц". Кто имеет слово?
– Ты создавал колхоз!.. Как это так? – крикнули из зала.
Минеевич, опираясь на стол, встал:
– Которые молодые – не знают как раз... У Толоконцевой горы стояла Панфилова мельница. В тридцатом году ее растащили, а Панфила сослали, то есть вослед. Феоктист, не дай соврать! Помнишь, в двадцать девятом годе мы всемером у Панфила собрались на помол?
– Феоктист за дровами уехал, – ухнул кто-то басом из зала.
– Егор Иванович, не дай соврать... Ты ишшо маленьким был, – метнулся Минеевич к старшему конюху, сидевшему за его спиной в президиуме.
– Я не помню, – ответил Егор Иванович, краснея: весь президиум обернулся и смотрел на него.
– Да не с тобой, чудак-человек... С отцом твоим ездили на помол... Значит, я, Иван, Феоктист...
– Ты не юляй! – кричат из зала.
Этот окрик точно подстегнул Минеевича, он передернул плечами, вскинул сердито бороденку и сам пошел в наступление:
– Как впервой назывался наш колхоз, ну? "Муравей"... Мураш то есть. А кто ему дал такое название? – сердито крикнул он в зал и, не дождавшись ответа, погрозил кому-то кулаком: – Я придумал! А через чего?.. Сидели мы в мельничном пристрое... Сговорились: артель создавать. А какое название? Смотрю я – по моим чембарам мураш ползет. Я его цоп – и кверху. – Минеевич вскинул щепоть, словно в пальцах у него был зажат этот самый муравей. – Мурашом, грю, и назовем. Так и вырешили... Магарыч распили. – Минеевич почуял, что сказал лишнее, мотнул головой и добавил: – За помол то есть...
– Граждане колхозники, они тем разом перепились и Назарку заседлали, – говорит Федул. – А Минеевич сел на него верхом и вокруг жернова ездил.
– Врет он! – покрывая хохот, срываясь на визг, кричит Минеевич. – Он самулянт!
– А кого за это выключили из артели? Кого? – распаляется и Федул. – Он всю жизнь бабу на пасеке продержал, а сам прорыбачил. За что ж ему двадцать рублей?
– Прямо не Минеевич, а как это... литературный инструктаж, – говорит на ухо председатель сельсовета председателю колхоза.
Тот снисходительно улыбается и поправляет:
– Не инструктаж, а персонаж.
– Какая разница!
– Тихо, товарищи! Хватит прений. Все ясно. Давайте голосовать: кто за то, чтобы Максиму Минеевичу Пустовалову назначить пенсию в двадцать рублей? – спросил, поднявшись, председатель колхоза.
Зал не колыхнулся, ни одна рука не вскинулась кверху.
– Понятно... Кто за пятнадцать?.. Как всем... Единогласно!
– А ежели как всем... – затрясся от негодования Минеевич, – сами и заседайте. В насмешку сидеть не желаем.
Он с грохотом отодвинул стул и вышел из президиума в зал.
– От дак вырешили!..
– Прямо как в лагун смотрели...
– Совершенно правильные слова...
– По первому вопросу все, – сказал председатель колхоза. – Шестнадцать пенсий выдали, две отказали. На второй вопрос разное. Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович.
Федосей Иванович подошел к столу, раскрыл папку с делами, солидно откашлялся.
– Поступила жалоба от гражданки Криволаповой Евдокии Семеновны на Силантьева Парамона Ивановича и на Черепенникова Федула Матвеевича в том, что они, отперев замок, вошли в дом Криволаповой, выпили осадки от пива, хлебную опару и съели на закуску картошку для поросенка. Посему поросенок визжал, когда пришла хозяйка. Вопросы имеются?
– Судить их надо колхозным судом чести!
– Хорошенько их приструнить! Они, как попы, по дворам шастают...
– В таком разе суд колхозной чести занимает свои места в составе председателя Фетиньи Петровны и заседатели – я и Егор Иванович.
– Подсудимые, встаньте! – приказывает Фетинья Петровна, глядя в папку Федосея Ивановича.
Федул и Парамон встают. Парамон в отличие от Федула сух, с бритым морщинистым лицом; впалые щеки придают ему мрачный аскетический вид, и смотрит он в пол, как заговорщик.
– Как вы проникли в избу Криволаповой?
– Подошли – замок висит... Ну, мы его шевельнули. Я шевельнул замочек ай ты, Федул? – спрашивает Парамон.
– Чего его шевелить? Это он от ветру.
– От ветру?! Эх, бесстыжие ваши глаза, – встает Криволапиха. – Небось палец-то об замок зашиб?
Парамон тычет в ее сторону обвязанным тряпицей большим пальцем:
– На, посмотри, на нем шкуры нет!
– А чо у тебя с пальцем-то? – спрашивает Фетинья Петровна.
– Чирьяка под ногтем. Фельдшер говорит: исделай ванную и помочи... Авось отмякнет. Я скипятил чугунок да сунул туда палец-то. Вся шкура и спустилась, как чулок.
– Не отвлекайтесь! Что в избе делали? – строго спрашивает председатель сельсовета.
– А что там делать? Чай, не на работу мы ходили к Криволапихе, – огрызается Федул.
– Не рассуждать! Отвечайте согласно уставу... – повышает голос Федосей Иванович.
– Посмотрели, посмотрели – вроде никого и нет...
– А вы думали – там гостей застолица? – спрашивает ехидно Фетинья Петровна.
– Пускай Федул скажет.
– Я, значит, заглянул на шесток – лагун не лагун и чугуном не назовешь. Ну, вроде бидон... стоит. А в нем и пива-то нет, так – гушша.
– Одна видимость.
– Мы ее выпили...
– Там малость было... На донышке.
– А больше ничего не брали?
– Боле ничего...
– Ах, совесть ваша! – восклицает Криволапиха. – И где ж на донышке! Там более полбидона было. Опара хлебная в деже неделю стояла – и ее выжрали. А кто картошку съел? Поросенку стояла в чашке на скамье... Девки лапшу не доели – я ее тоже туда. Пришла я – поросенок визжит. Я хвать чашку, а там и отчистков нету. Все подчистую стрескали. Хряки они, хряки и есть... – Криволапиха села под общий хохот.
– Что будем с ними делать? – спросила Фетинья Петровна.
– Выговор записать в дело.
– Пускай покаются.
– Граждане колхозники! – переждав шум, говорит Федул. – Ну чего с кем не бывает? Простить надобно. А мы более не будем.
– А Парамон?
– А что Парамон? Иль я чужих коров доил? – вскидывается он. – Не более других пил...
– Хорошо, запиши им выговор, – сказала Фетинья Петровна.
В зале задвигали стульями.
– Подождите расходиться! Слово имеет председатель сельсовета Бобцов Федосей Иванович, – сказал председатель колхоза.
Федосей Иванович встал, полистал в папке свои дела, нашел нужную бумажку, стал зачитывать:
– Товарищи, весна свое показывает: мусор, тряпки, солома, назем и прочие отбросы из-под снега повылазили. От столовой зайдешь в проулок... Тут тебе и собака, и кошка дохлая, и всякие животные валяются до самой речки. А Егор Иванович намедни в речке поймал худые чембары. Протерты не в ходу, а на этом самом месте... На сиденье... Сразу видно – табунщик носил. И у кладовой Степана Ефимовича тоже... мусор и назем. Спрашивается, кто старые чембары в речку кинул? Ведь из нее пьют лошади, скот; ребятешки, подростки купаются с первесны. А что от старых чембар? Один волос исходит и дух чижолый. Куда такое дело годится... Учтите!
– Почем ты знаешь, что табунщик свои штаны бросил?.. – кричат с задних рядов.
– Так они же протертые на сиденье, в седле то есть.
– А может, кто их в конторе просидел?
– Ты сначала установи!..
– Установим... И на следующем собрании сообщим. Все! – Председатель сельсовета закрывает свою папку.
Народ расходится.
1965
ДОМОЙ НА ПОБЫВКУ
Мы приехали в Тиханово на велосипедах, как туристы – в синих рейтузах да в майках, на спинах рюкзаки, лица потные, пыльные.
– А ну, прочь с дороги! – встретил нас окриком милицейский лейтенант.
Он сидел на скамейке возле милиции у самого въезда в Тиханово. Перед ним разливалась лужа во всю обочину, а за лужей, да еще за канавой лежала свежая чистая мостовая, покрытая асфальтом. Поперек мостовой на треногах висела доска с корявой надписью: «Проезд запрещен». Буквы черные в потеках, писаны не то мазутом, не то отработанным машинным маслом. Я притормозил велосипед, а мой сынишка Андрей свернул на обочину, с ходу врезался в лужу и, наткнувшись на какой-то невидимый предмет, полетел в воду.
Милиционер засмеялся:
– Вот дурень! Летит в болото сломя голову. Там камни!
Андрей встал мокрый и грязный с головы до пят, пошарил руками в воде, нащупал велосипед, вытянул.
Милиционер отечески журил его:
– Дурачок, тут с весны никто не ездит. Колесники глубокие, по шейку тебе будет. Скажи спасибо, что не утоп.
Андрей обиженно сопел и вытирал своего «Орленка».
– Почему мостовая перекрыта? – спросил я.
Лейтенант был в годах и разговорчив:
– А ты что, маленький? Не видишь – асфальт свежий?!
– Он уже захряс. На нем колесные следы...
– Мало ли что...
– Когда его уложили?
– На той неделе.
– Так чего же ждут?
– Как чего? Вот проложат до моста, до конца то есть, тогда и откроют.
– Где же в село въезжают? Со стороны Бочагов подъехали – там овраг.
– Ну, правильно. От Бочагов проезду нет, – согласился с удовольствием лейтенант. – Там у нас плотина была, через овраг. По ней и ездили. Но ее прорвало в позапрошлом году... От Выселок тоже не проедешь. Там ЛМС стоит, мелиораторы.
– Так что ж они, оглоблей перекрыли дорогу-то?
– У них трактора, милок, да еще колесные. Они из этой дороги сделали две траншеи полного профиля. Хоть становись в колесники и веди пулеметный огонь в обе стороны.
– А от Сергачева можно въехать в село? – спросил я, уже охваченный любопытством.
– От Сергачева чернозем. Его так размесили, что коровам по брюхо. Веришь или нет, стадо гонят – ягнят на себе переносят?!
– Ну да... А У раза верхом на козе переезжала, – ввернул я старую тихановскую присказку.
Милиционер поглядел на меня с удивлением; лицо у него белесое, обгоревшее, но гладкое, без морщин, какого-то японского складу: веки припухлые, губы толстые, чуть навыворот, нос пуговкой, с открытыми ноздрями.
– Ты здешний, что ли? – спросил он.
Я назвался.
– Фу-ты, мать твоя тетенька! А я тебе про дорогу смолу разливаю. Из газеты, значит! А я Ежиков Яков. Знал гордеевского милиционера Ежикова? Так вот я сын его. Теперь участковым состою в райцентре. Дежурю по отделению.
Он кивнул на раскрытые окна двухэтажного дома, где помещалась милиция. Время было вечернее, тихое – во всем здании ни души. В палисаднике стоял мотоцикл с коляской, видать, дежурного. А сам дежурный с удовольствием теперь разглядывал меня.
– В газете, значит. Слыхал, слыхал... Ну, здорово! – он протянул мне руку.
Мы поздоровались.
– Что ж ты сразу не сказал – кто такой? И ехал бы себе по мостовой. Свой человек, какой может быть разговор, – он вдруг рассмеялся. – Ты знаешь, сколько висит эта вывеска. Боле двух недель. Кому надо – тот ездит. На побывку или по служебным делам?
– В гости к Семену Семеновичу Бородину.
– Ну да, к брату! – И вдруг обрадованно: – А Пашка Жернаков тоже тебе братом доводится!
– Двоюродным, – поправил я.
– Аха!.. Ты знаешь? Ведь я на его место переведен. Значит, когда его посадили... Прямо скажем – здря!
– Он вроде бы дома...
– Отсидел, как миленький. Правда, не полный срок. Два года отбухал, хоть и в особом лагере – для нашего брата. Но там тоже не сладко.
Я смутно помнил, что у Павла какие-то нелады с женой были, и спросил для приличия:
– Живет он с женой?
– Ну что ты? Она ж его в тюрьму посадила. Вернее, не она, а ее подружка. Сонька Ходунова. Вот пройда! Пробы негде ставить. Мне сам Пашка рассказывал. Да ты присядь!
– Некогда. Спешим.
– Куда вам спешить? Только что стадо пустили. Семен Семенович за коровой пошел, а Настя, поди, на дворе возится. Присядь! Я те такое расскажу – в любую газету за первый сорт сойдет. Ты, случаем, не «Беломор» куришь?
– Сигареты.
– Тьфу! Этими сигаретами только ноздри раздражать. Ну, давай, подымим!
Закурили сигареты.
– Так вот, мне сам Пашка рассказывал, – начал он с заметным нетерпением, будто целый день только сидел и ждал меня. – Приехал я, говорит, с задания. Нет жены! Где Шурка? У Ходуновой. Ну, говорит, зараза, – в чайной шоферню завлекает. Побежал в чайную. А ему там в ответ: Ходунова ноне выходная. И верно, за буфетом стоит Лелька Ликака. Ну, где их искать? Взял он бутылку красного, которая потяжельше. Тяпнул всю бутылку из горлышка – не берет. А Ликака ему со смехом: мелкой дробью, мол, стреляешь. Ха-ха-ха. Говорит, для сурьезного мужчины красное – что быку прутик. Она, говорит, в предсердии растворяется, а до сердца не достает. Он вроде бы на спор еще белой хватанул бутылку. Где Ходунова? В Выселки пошла. И Шурка с ней? Точно. Ну, я им покажу помятую траву, сказал Пашка. Двинулся он в Выселки. А ночь темная, в трех шагах ничего не видать, хоть глаз выколи. Пока шел через выгон, его разобрало так, что на ногах не держится. Вышел на запруду перед самыми Выселками... Откос крутой, высокий, а съезд глинистый, горбатый. Он поскользнулся и полетел по откосу в овраг. Очухался... Куда ни погляжу, говорит, – стена склизкая. Лезу по ней, лезу – вроде бы приступки подо мной и край близко. Рванусь! – и шлеп опять в болото. И вот, говорит, досада: все почему-то головой вниз падал. Или голова тяжельше остального тела, или ногами вверх подымался... Кто его знает?
Шурка с Сонькой Ходуновой нагулялись вдоволь, уже домой возвращались, а он все в грязи челюпкается. Услыхал голоса – кричит из оврага: люди добрые, помогите! Тону!! И где, говорит, я? В колодце, что ли?! Зубами стучит... Продрог весь. Они его даже по голосу не узнали. Сняли с себя платки, связали их и кинули ему конец. Вылез он на плотину, как тот кочегар из печной трубы – одни глаза блестят... «Кто ты? Кого искал на дне морском?» – спрашивают со смехом. А вот вас, говорит, искал. Нагулялись, трам вашу тарарам?! Хвать одну по уху, а второй по шее. Они его повалили и давай топтать. Пьяный – встать не может. А сознание работает: меня, мол, участкового, бабенки паршивые топчут! Был у него перочинный ножичек. Эдакий вот, с палец. Он его вынул и Соньке по голяшке, повыше коленки чиркнул. Они завизжали – и деру. А на другой день уголовное дело открылось: превышение полномочия власти... Рукоприкладство, да еще с ножом. А какое там рукоприкладство? Жену проучить за дело и то не удалось. И Сонька разоралась: поранил! Какая рана? Царапина. Котенок и то глубже когтит. Еле чиркнул повыше коленки. Место, правда, интересное. Но судили не за место, по которому провел... А судили за то, что при погонах был. Значит, если на тебе нет погон – валяй, дерись с кем хочешь? А если ты при погонах, то собственную жену поучить не имеешь права. Где же она, правда? Тут стоишь – тебе ни сна, ни отдыха. Ночь-в-полночь вызывают – идешь. А платят всего девяносто рублей. А вон Авдей Пупок ушел от нас завмагом... Как сыр в масле катается и получает по сто тридцать рублей. Вот об чем напиши.
Наконец-то он высказал, зачем огород городил. Удивительное свойство русского человека говорить о нужде своей околичностями; вроде бы он и весел, и счастлив, и доволен всем, а под конец ляпнет: похлопочи за меня, напиши куда следует. Сам он не любит жаловаться начальству и тем паче писать. А ты, мол, напиши. У тебя должность такая. Это не робость, не лень – просто вековая привычка, выработанная неверием в силу и разумность хлопот. Куда я пойду? Кому скажешь? Кто поверит?! Да и что за беда, в конце концов! Люди вон и похуже живут. И мы переживем... Другое дело, ежели кто за тебя скажет или напишет. Это – пожалуйста. Тут можно и слезу пустить, а слезы нет – «слюной глаза помажет».
Вот почему нашего брата газетчика встречают везде приветливо, откровенничают с тобой, как верующие с попом на исповеди. И жалуются все: от колхозного сторожа до председателя областного совета.
Мой наезд в Тиханово в то далекое лето был тому хорошим доказательством.
Вечером к Семену Семеновичу потекли мои родственники; первой пришла тетя Марфута – лицо темное, землистого цвета, как выгоревший на солнце черный плат, но все еще прямая, подтянутая – гвардейской выправки; за ней пожаловал дядя Ваня, Семен Семеновича тесть, восьмидесятилетний старик с коротко стриженными, прокуренными усами, с широкой лоснящейся лысиной. Пришла и тетя Соня, вечно в черном, как монашка, зато ликом светла да улыбчива, и зять ее пришел, Петр Иванович, у которого все щелкала да выпячивалась вставная челюсть, мешая говорить ему. Да самих трое: Семен Семенович, Настя и Муся, дочь, приехавшая на каникулы из московского института. Да нас с Андреем двое... За стол не усадишь.
– Что Пашка Жернаков, вернулся? – спросил я.
– Возвратился, не запылился, – ответила тетя Марфута. – А что ему, шарлоту, сделается? С одной разошелся, теперь вот с другой сошелся. А мать через него умерла.
– Кто умерла? Тетя Параня?!
– А кто ж еще! – подхватила тетя Соня. – Ворожить ходила на Паньку... В Высокое. Вон куда! Да еще по весне, в раздополье. Он в тую пору в тюрьме сидел... И вот тебе, объявилась ворожея в Высоком. Будто из Сарова приехала. Хорошо предсказывала – на кого ни поставишь. Вот Паранька и пошла гадать на него – скоро вернется или нет? Дорога мокрая, склизкая. В валенках не пойдешь... Она чуни стеганые надела. Чуни стоптанные, худые. Она еще калоши на них натянула. Вот этими калошами и нахлопала себе пятки. Веришь или нет, в кровь, до костей истерла!
– В Высокое сходить – это тебе не мутовку облизать: туда двадцать пять верст да назад столько же, – наставительно заметила тетя Марфута. В отличие от подвижной, готовой на услужение тети Сони, эта сидит строго и прямо, руки держит на коленях – ладонь в ладонь – и только большими пальцами поигрывает, да все подмигивает, посмеивается.
– Заражение крови у нее открылось, – ревниво поглядывая на тетю Марфушу, подхватила снова тетя Соня. – По ногам чернота пошла, а она все живет.
– Сердце крепкое, – сказах дядя Ваня, покуривая; он сидел на диване рядом с Петром Ивановичем. – Доктора присудили ей скоропостижную смерть, а она до Егорьева дня прожила.
– Присудили, – поигрывая пальчиками, усмехнулась тетя Марфута. – Больно у нас много охотников до суда развелось... Все бы нам судить да рядить.
Настя и Муся бегали как шатоломные то в погреб, то в сени, в подпол лезли. Настя в красной кофте, сама раскраснелась от суеты, аж веснушки выступили, остановится на бегу, поведет глазами:
– Ой, что ж я хотела? Эта, Семен?! Ты куда грыбы вынес?
– Грыбы?! Так мы их еще вчера съели.
– Ах, идол вас возьми-то!..
В горнице на большом столе накрыта скатерть вязаная: на темной мелкой сетке огромные красные бутоны из шленской шерсти. Тарелки летали из рук в руки: с огурцами, с яйцами, с луком, с сыром, с клубникой. Семен Семенович нарезал хлеб, свиное сало; он уж и побриться успел, и рубашку белую надел, да еще широкие, шикарные резинки натянул повыше локтя, для форсу. А как же? Мы, Бородины, народ культурный. Знаем обхождение... Вокруг него увивался Андрюшка и приставал с расспросами:
– Дядь Сень, а какой народ самый первый?
– Русские, – с ходу отвечал Семен Семенович.
– А потом?
– Потом американцы.
– А потом?
– Англичане, французы... европейцы, одним словом.
– А чехи, дядь Семен?
– Чехи – наши братья по вере и Христу.
– А индусы?
– Индусы – народ богобоязненный. У них был еще премьер-министр Бурхадур Шастри... Мастенький мужичонко, с тебя ростом. Он все в кальсонах ходил. А теперь у них премьер-министром ходит Индира Ганди, красивейшая женщина в мире. У нее за это есть на лбу отметина.
– Не в красоте счастье, – сказала тетя Марфута. – Было бы что обуть да одеть.
– Ноне обижаться гре-ех, – пропела тетя Соня. – Теперь у нас все есть, – и хлеб, и пашано продают, и масло подсолнечное.
– А махорки нету, – возразил из угла дядя Ваня. – Куришь папиросы, куришь... Ни крепости, ни скусу... Только горло дерет.
– Дядь Сень, а ты богатый? – спросил Андрей.
– Да как тебе сказать? Вот если б мы с тобой, Андрюша, нашли баржу с золотом... Ее в озере Падском Стенька Разин затопил. Тогда бы разбогатели. Ого-го!
– Ты уж помалкивай! – оборвала его тетя Марфута. – Проворонил ты свои тыщи.
– Какие тыщи?
– Какие?.. У дяди Паши лежали под крыльцом. Сто тридцать тыщ пропало, – тетя Марфута подмигивает мне и посмеивается.
– Да ну тебя! – отмахнулся Семен Семенович.
– Это что за тыщи? – спросил я.
– Дядя Паша Кенарский... конюхом у него работал. Тогда еще Семен председатель сельпа был. При пекарне держали дядю Пашу. А Полинка заведующей пекарни.
– Чья Полинка? – спросила тетя Соня.
– Да наша. Семенова сестра. Она все жалела дядю Пашу – хлебом его кормила. Он и признался ей: я, говорит, Полинка, богатый человек. А сам в шоболах ходит. Полинка смеется. А он ей: ты не смейся. У меня в одном месте сто тридцать тыщ лежит. Где взял? Табак в войну продавал да складывал. Она все со смехом: куда ж ты их прячешь? Никому не говорил, а тебе скажу. Потому – ты мне ближе родной матери. За доброту твою признаюсь. А лежат они под крыльцом у меня, под верхней ступенькой. Вот Полинка и говорит Семену, – тетя Марфута подсмеивается и кивает на Семена Семеновича, тот насупленно молчит, режет сало, – давай их возьмем! Все равно они пропадут. Жена у него, Катя, простая, и сам скряга старый. Что им делать с такими деньгами? А Семен ей: ты с ума спятила. Чтоб я, председатель сельпа, взял сто тридцать тыщ? Дура ты! Сам дурак. Ну, посмеялись, да забыли. Вот тебе реформа объявилась... Дядя Паша сидит на крыльце в пекарне и плачет, рекой разливается. «Полинка, – говорит, – деньги-то мои пропали... Все сто тридцать тыщ. Я удушусь». – «Да ты, – говорит Полинка, – хоть сдай их – тринадцать новыми получишь». – «Да меня посадят за них. Скажут – где взял? Я сжег их с горя». – «Ну и фофан! Я их, признаться, хотела украсть у тебя». – «Да что ж ты, глупая, не взяла? Хоть бы ты попользовалась...»








