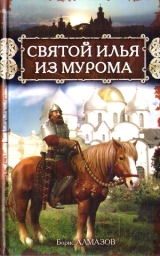
Текст книги "Святой Илья из Мурома"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
Вот полыхнули сигнальные костры на дальних подступах. Отворил священник двери храма деревянного, и запели монахи, женщины и дети: «Не имамы иныя помощи...» – прося защиты у милосердного Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и всех святых Его...
Пожилой дружинник лёг на землю и, прижав ухо к влажной поверхности её, явственно услышал гул.
– Идут! – крикнул он свесившимся со стены копейщикам и лучникам. – Идут, но, видать, немного... Не вся орда идёт. Так, отряд один, может!
Орда возникла внезапно: вроде ждали, вроде готовились, а вот она – уж под самыми стенами. Но близко не подошла. От конной толпы отделились несколько всадников, подняли шапки на копья в знак мирных намерений, подскакали к воротам.
– Позовите воеводу, – властно сказал пожилой худой воин на дорогом коне. – Воеводу Илью Муромца.
– Здесь я, – ответил со стены Муромец. – С чем пришли?
– С миром, – ответил всадник. – Я – Варяжко. Ярополка убиенного раб. А ты Муромец, стало быть?
– Илья, Иванов сын, – ответил Муромец.
– Отчиняй ворота. А хочешь, сюда выезжай. Ратиться нам не к чему.
Илья вышел за ворота. Лучники поймали на кончики стрел коней и всадников. Варяжко спрыгнул с коня.
– Вона ты какой, – сказал он, глядя на Илью. – Стало быть, я тебя и раньше видел. Когда вы на Корсунь шли.
– А я тебя не видал, только слышал про верность твою... – с уважением сказал Муромец.
– Не время дружка дружку хвалить, – сказал худой и высушенный ветрами Варяжко. – Идёт на Киев беда новая. Куманы.
– Слыхал.
– Ты слыхал, а я от них убегаю! Печенегам – конец! – сказал Варяжко. – Куманов больше. Много больше. Печенеги либо к русам, либо ко грекам уйдут. Тут им не устоять.
– Что тебе с того? – спросил Илья.
– А то, что более мне в степи пребывать нельзя. Хочу ко князю Владимиру идти служить. Но пойду только под твою голову. Другим воеводам не верю. И князю не верю.
– Ладно, – сказал Илья. – Поедем двумя дружинами. Ты в моей, я в твоей. А князь давно тебя на службу звал.
Варяжко не ответил. И только к вечеру, когда они, снарядившись, отправились по Киевской дороге, заметил:
– Сказывают, князь переменился, как христианином стал.
– Нынче всё переменилось, – ответил Илья.
– Это верно, – согласился Варяжко.
Вой киевские и печенеги ехали, смешавшись в один караван, и не чувствовали меж собою вражды.
– Вины за тобою князь не числит и зла не держит, – сказал Илья. – И на службу тебя зовёт по совести.
– Всё едино одному тебе верю, – сказал Варяжко. – Да и не по чину мне, не по возрасту с другим-то воеводою толковать.
– Спасибо за честь, – ответил Илья.
– Какая там честь... – отмахнулся Варяжко. – Где верных-то людей сыскать? Все предатели.
– Я никого не предал, – сказал Илья. Но вспомнил Солового и осёкся...
– Потому я к тебе из Лукоморья и прискакал, – ответил словно бы из одних жил и ненависти сплетённый Варяжко.
– Один Бог без греха, – вздохнул Муромец.
– Я вашему Богу не верую! – сказал Варяжко.
Он Ярополка предал.
– Как же предал, ежели Ярополк не крещён?
– Откуда ты знаешь? – ощерился Варяжко. – Он что, тебе докладывал? А я тебе так скажу. Никакой Бог предателя в человеке не убьёт! А уж ежели его властью или богачеством прельстить, так он отнимать забудет...
– Ты сам себя ешь... – сказал Илья. – Ты прости и забудь, и легче тебе станет.
– Что забыть? Как невинного князя убивали? Да мало что убили, ведь всё, что он делал, себе приписали! А Ярополка как и нет! Ярополк ведь с Царьградом дружество завёл. Ярополк веры испытывать начал. Ярополк бы русов крестил раньше Владимира! Владимир-то язычник был закоснелый; кто его в Киев привёл? Варяги! Аль запамятовал?! Аль запамятовал, как при нём жертвы людские Перуну несли?! Ярополк кругом прав! И разум в нём был не от отца – бесноватого Святослава, а от бабки – Ольги Великой.
– Ну так сам же говоришь, Владимир язычником пришёл, а Господь его на путь истинный наставил да направил...
– Да Ярополка-то за что убили?! – завопил Варяжко так, что кони шарахнулись.
– А Олега? Разве не Ярополковы вои Олега в сече затоптали? – спросил Илья, круша последний довод Варяжка.
– Свенельд за Люта мстил! Свенельд! – трясясь, как в ознобе, кричал Варяжко.
– Охолонь, – сказал Илья. – Что ты так в сердца входишь... Аль не видишь, что сей цепочке конца нет: Владимир – за Ярополка, Ярополк – за Олега, Олег – за Люта, Лют – за Игоря... Когда убийства-то кончатся? Кто остановится да ужаснётся?
– Никто не остановится! – зло сказал Варяжко. – Никто. Князья как убивали друг друга, так и дале делать будут... Ты видал их, княжичей-то? Они что, друг другу горло не перегрызут?
– Они – братья! – сказал Муромец.
– Хо! – засмеялся Варяжко. – А Владимир, да Ярополк, да Олег не братьями были? Когда это кого останавливало?! Братьев-то и режут!
Илья припомнил лица стоявших у одра умирающей Малуши. Красивого, с болезненно-злым выражением тёмных греческих глаз Святополка; бледного, с нервным лицом, хромого Ярослава, который всё больше напоминал Рогнеду; кудрявого черноголового плачущего малыша Бориса и других... И подумал: «Неужели они будут друг на друга с мечами идти?» И сердце подсказало: будут!
Эта мысль так поразила Илью, что он надолго замолчал. Странные видения поплыли перед ним: убитый подросток в княжеской шапке, дикая сеча у какой-то реки, где дрались с обеих сторон вои славянские и киевские...
– Что примолк? – спросил его Варяжко.
– Должен же кто-то кровь эту остановить, – хриплым, словно не своим, голосом сказал Илья. – Должен!
– Как? Как ты её остановишь? Ты убивать не будешь – тебя убьют!
– Пусть лучше меня... чем я... – произнёс Муромец.
– Так-то злые да неправедные всю силу и возьмут, – вздохнул Варяжко.
– Нет! – убеждённо сказал Илья. – Не возьмут. И не в миру Бога искать нужно... не в миру!
– А где же? У одного – меч, у другого – голова с плеч! – смеялся Варяжко.
– Нет, – сказал Илья. – «Кроткие наследуют землю».
– Выходит, и не противиться злу?
– Противиться! Денно и нощно, без сна и устали противиться! – сказал Илья. – Но не в миру одоление, не в миру...
– Как это? – не понял воин, много лет воевавший против Киева.
– Сатана людей смущает и на брань подталкивает. Люди тогда властны, когда они сатану победили, а не когда на супротивника меч подняли!
Илья мучительно искал слова, чтобы высказать мысль, явившуюся ему вдруг во всей ослепительной полноте. Он понял, что главная битва – в человеке, в его душе.
– И когда купно люди в душе восхотят Бога – он среди них! – толковал он, натыкаясь на взгляд Варяжка, который не мог уразуметь слов Муромца. – Не сила, не воля княжья Русь крестили, но воля народная... До той поры кровь литься будет, пока в силе доблесть видеть будут, пока мир сему не ужаснётся. И пролившего кровь невинную не проклянут все и не оттолкнут от себя...
– Да кто же разберёт, где кровь невинная, – горько вздохнул Варяжко.
– Жертва должна быть добровольная. Себя человек в жертву принести должен. Себя, как агнца, приготовить...
Илье казалось, что говорит не он, но кто-то новый в нём. И этот новый говорил что-то сокровенное, но ещё плохо понимаемое самим Ильёй.
Всадники шли крупной рысью, меняя лошадей на подставах. И снова цепочка их, будто змея, струилась по холмам, прорезала рощи. Вои пели, разговаривали меж собою, смеялись. Спали и ели на привалах. Илья же напряжённо и сосредоточенно думал, и всё окружающее мешало его усилию понять, что же несёт ему новый голос, звучащий в душе.
– Господи! – вздохнул он однажды. – Суеты-то сколько. Где же побыть в размышлении спокойном? Где, отказавшись от соблазнов и суеты мирской, всё обдумать и отдать миру ясную мысль, кою поняли бы все, была бы она проста и глубока, как слова Писания?
И он подумал, что лучше всего ему было в погребе, где ничто не отвлекало от думания... Но припомнил он, что и там не было покоя и мира. Мысли, полные соблазнов, насылаемые сатаной, смущали его, и картины, возникавшие во мраке затвора, мешали сосредоточиться на главном, ради чего пришёл он в этот мир воином Христовым.
«Новая битва! Новая битва!» – шептал он, не в силах уснуть на привале.
– Что-что? – спросил его лежавший рядом Варяжко.
– И там нет мира! И там битва! – ответил, возвращаясь из своего далека, Илья-богатырь. – Да не устрашуся...
* * *
Князь выехал встречать их вёрст за пять от Киева. Издали, с холма, завидели его идущие цепочкой всадники.
– Подтянись, оправься! – приказал Илья. И поймал тревожный взгляд Варяжка: «Не в полон ли, не в казнь ли жестокую иду с печенегами своими?»
«Нет, – ответил ему взглядом Илья. – Не тужи. Всё Господь управит ко благу. Раньше бы надо прийти, но и сейчас не поздно».
Пёстрая толпа княжеской свиты стояла молча. Ветер трепал флюгера на копьях, перья на шлемах рыцарей иноземных, что все в большем числе приезжали служить киевскому двору; помавал крыльями шёлковых, игравших на солнце алыми, бирюзовыми, синими красками плащей. Слепили начищенные доспехи, тускло поблескивали воронёные кольчуги.
Князь, в пурпурном корзно, на убранном парчовой попоной красивом коне, кого удерживали два разряженных оруженосца, был величествен и хорош собой. Высоко вздымалась его багряная княжеская шапка, далеко виднелся заткнутый за пояс не то золотой скипетр, не то боевой пернач.
Двумя группами – славянской, в центре Варяжко, и печенежской, в центре Илья – подошли воины к подножию холма. В негромком гудении ветра, в хлопанье стягов и звяканье сбруи чувствовалось напряжение, что могло разрядиться как угодно. По одному мановению княжеской руки могли сорваться калёные стрелы и насмерть ужалить степняков. Но прежде чем пали бы они, истыканные смертельными жалами, успели бы взять на сабли нарочно снявшего кольчугу Муромца.
Князь неспешно тронул коня и тихо спустился с холма к прибывшим. Оруженосцы, держа руки на рукоятях мечей, следовали у стремени его. Тихим шагом он подъехал к конным славянским дружинникам, и те расступились перед ним. Князь слез с коня и подошёл к Варяжку. Сухой, как степной карагач, смуглый от многолетних скитаний по Дикому полю, высился над ним затянутый в печенежский доспех, несломленный Варяжко.
Князь подошёл к стремени его, глянул вверх и вдруг, сняв шапку, сказал:
– Спасибо, что приехал. Я тебя давно жду. Не мне – Руси твоя верность надобна. Спасибо.
Соколом слетел с седла яростный Варяжко и пал перед князем на колени. Князь наклонился и поцеловал его в лоб.
– Кроткие наследуют землю, – сказал в напряжённой тишине Илья.
И, словно подтверждая его слова, грянули трубачи в византийские бронзовые трубы, и ликующий возглас их ударил в синеву беспредельного неба...
Глава 11
Ярослав-отступник
Илья оставил службу, только когда князь, исполняя давний замысел свой, начал раздавать города в уделы сынам своим подросшим.
В Полоцке оставил сына от Рогнеды – Изяслава, а Ярослава поставил в Новгороде. Мстислава ещё прежде отправил в Тьмутаракань хазарскую.
Но не было мира в потомстве варяжки Рогнеды. Волками глядели они в сторону Киева, звала к отмщению варяжская кровь, и варяжская подозрительность заставляла всё время готовиться к расправе. Бежал к варягам Всеволод и погиб в Швеции в девятьсот девяносто пятом году. Не уступал Рогнединым сыновьям и нелюбимый князем Святополк – сын греческой монахини, отнятой язычником Владимиром у брата своего Ярополка.
Святополк братьев не любил, сторонился. Посаженный на княжеский малый стол в Турове, стал дружбу водить с поляками, норовя пойти под закон римский, как это сделали поляки. Любимыми же сыновьями Владимира были Борис, получивший престол в Ростове, и совсем мальчик – Глеб, поставленный на княжение в Муроме.
Туда и сопровождал его в последний своей княжеской службе старый воевода Илья Муровлянин.
Звал его с собою в Новгород Ярослав.
– Пойдём! – говорил он. – Пойдём, Иваныч! Я тя в Новгороде превыше всех поставлю, как отца родного почитать буду.
Смотрел Илья на худого, нервного княжича, что не мог устоять на месте, а всё мотался по терему, и с трудом узнавал в нём того мальчонку, что носил хлеб ему в заточение.
– Ты лучше не меня отцом почитай, – сказал он княжичу. – А отца своего родного – князя Владимира.
Ярослав ничего не ответил. Он кусал тонкие губы и глядел мимо.
И старый воевода вдруг будто увидел, что будет! Другой, чем тот, кого он мальчишкой помнил, человек стоял перед ним. Явилась перед его мысленным взором рать варяжская, идущая на ладьях из Новгорода в Киев. И князь молодой, на носу первого драккара стоящий.
– Полно! – прошептал Илья. – Это ведь Владимир.
Но вгляделся в своё видение пристальнее и увидел, что не Владимир это, на Ярополка стремящийся, а Ярослав. Ясно увидел он лицо его – спокойное, решительное... И глаза – голубые, безжалостные, Рогнедины.
– Боже мой... – прошептал старик. – Неужто ты отмстителя за Рогнеду посылаешь на Владимира?
Закрывшись в своём малом покойце, рядом с гридницей, где останавливался он, давно раздав всё имение своё и сделав громадный вклад в церкви и монастыри, а сам пребывая в нищете телесной, пал старик на колени:
– Боже мой! Милостивый и Всеблагий! Как же отмщение от Тебя через сына на отца?..
Мысли его путались. Он долго шептал молитвы, перемежая их с вопрошением: «Господи! Властитель души моея! Вразуми, что мне делать, рабу Твоему?»
Владимир-князь пребывал в полной уверенности что, отправляя сыновей в уделы их, крепит тем державу Киевскую и народ её. Но Илья-воевода видел другое: «Как о сём сказать князю? На сына донести? Что донести? Видения свои? Предчувствия? Кто поверит?!»
– Господи! – шептал Илья, и стариковские слёзы текли по его щекам. – Что же нет покоя, что же все труды, все страдания и жертвы впусте проходят? Ведь что ни готовит человек, всё оборачивается против замысла его! Всё, что хитростным разумом умыслит, – всё не ко благу его обращается!
С тем и уснул, упав от долгой молитвы в изнеможении на пол перед аналоем. С той тоской и проснулся. С той тоской и все дни пребывал среди всеобщей радости. Радовался ведь и князь, радовались и сыновья его, получившие уделы в управление. Радовались все, кроме двоих.
Печален был Борис – тёмноокий сын Анны, любимый сын князя Владимира. Печален получивший в удел Муром десятилетний брат его – Глеб. Молчаливы были юноша в самом цвете молодой красоты и отрок, почти ребёнок. О чём печалятся они, вряд ли кому бы поведали, да и сами не знали.
Как не знал сего и воевода Илья Муромец, когда увидал он над их головами некое свечение, будто нимб...
Тряхнул он головой, силясь отогнать видение, но не отогнал... Перевёл глаза на Ярослава. Ясно виделся Ярослав. Рослый, сильный, чуть-чуть скособоченный из-за того, что одна нога у него была чуть короче другой, по болезни детской. Соколом смотрел он ясными голубыми глазами на отца, и был в тех глазах лёд взгляда варяжского, коего отец его, Владимир-князь, почему-то не видел.
Перевёл Илья-старый глаза на Святополка, сына княжеского старшего, сына нелюбимого, от жены-гречанки, монахини, и ясно разглядел чёрную тень, за ним стоящую...
– Что это? – ужаснулся воевода. – Господи, что это? – И, ясно осознавая и чувствуя холод, от Святополка идущий, не знал Илья, что сей холод означает.
– Кто этот старик? – спросил по-немецки Святополка рыцарь в богатых одеждах, приехавший в Киев от короля Болеслава Храброго – тестя Святополка, чтобы создать молодому княжичу дружину по европейскому образцу.
– Илья Муромец, – ответил шёпотом Святополк.
– Что означает «Муромец»? – спросил рыцарь стоявшего рядом духовника жены Святополка, приехавшего из Польши, Рейнборна.
И тот ответил пространно:
– Муром на языке тех мест, откуда, говорят, прибыл воевода Илья, означает «камень». Отсюда и городу имя – Муром. А вот по камню-то или по каменной стене, что слово сие означает, или по названию града получил прозвище воевода Илья, сказать трудно.
– Муром! – повторил немецкий рыцарь. – Каменная стена. Майер... Да! – сказал он, откровенно разглядывая старого воеводу. – Он оправдывает прозвище своё. Действительно – каменная стена.
– Согласен, – сказал Рейнборн. – Тем более что, говорят, воевода Илья устанавливал засечную линию и ставил крепости, в том числе и каменные, по границе Руси с Диким полем...
– Когда это было?
– Давно! Ещё до того, как он командовал русским корпусом в Византии, когда Василий II Болгаробоец присоединил к владениям империи Армению и Сирию.
– Так вот этот воевода кто!.. – ахнул рыцарь. – Этому походу дивилась вся Европа. Я за честь великую почту, если вы меня представите этому воеводе! Славнейшему из рыцарей христианского мира. Мне есть о чём расспросить его и о чём поговорить с этим героем.
– Бесполезно, – сказал ксёндз Рейнборн. – Он действительно молчалив, будто каменная стена. После смерти сына он вообще разговаривать перестал. Он только молится. Хотя служит исправно и очень умело. Но, как я заметил, видит своё предназначение в другом. Обратите внимание на его старые доспехи и на его плащ. По своему положению при княжеском дворе он мог бы быть усыпан золотом и драгоценностями! Он мог быть богаче князя. А он – нищ! Едва не наг...
– А какова у него семья?
– Он совершенно одинок. А своё значительное состояние отдал бывшим своим рабам и Церкви.
– Как же он живёт?
– Он живёт как простой дружинник и постоянно просит разрешения уйти в монастырь.
– Странный человек. Казалось бы, на вершине воинской славы... и вдруг – уйти в монастырь! Он же может быть главнокомандующим всех войск князя.
– Безусловно.
– Князь к нему так благоволит, а он – в монастырь? Очень странно.
– Привыкайте! – усмехнулся ксёндз Рейнборн. – В этой стране всё достаточно необычно. И многое, что для цивилизованного европейца кажется ясным и естественным, здесь понимают прямо в противоположном смысле. Привыкайте! Но предупреждаю вас: здешние христиане, в том числе и Муромец, чрезвычайно опасны. Они фанатики! Будьте осторожны. Тем более, как мне удалось узнать, этот воевода уже пришёл в Киев христианином. Его предки крестились где-то на Кавказе или в Причерноморье – очень давно.
Немец с нескрываемым интересом разглядывал Илью Муромца. Старый воевода резко выделялся среди других военачальников, находившихся в теремном зале в ожидании выхода князя и свиты его. Рослый и такой широкоплечий, что кольчуга на нём выглядела тонким полотном, он выделялся не только белизною кудрявой головы и бороды, но и каким-то отрешённым взглядом. Точно, пребывая в здешнем миру, видел нечто иное, что рядом стоящим было неведомо. На громадных руках его не было ни колец, ни перстней. Страшный шрам рассекал кисть, превращая её в клешню. В шрамах, видимых даже сквозь бороду, было и лицо. Шрам рассекал высокий упрямый лоб, спускался на глаз и подтягивал изрубленную щёку. Надетый поверх кольчуги панцирь из воронёных пластин ещё более увеличивал его широкую грудь. Он действительно стоял среди других воевод, как глыба, как стена каменная.
Послы иных стран, прибывшие ко двору киевского князя Владимира, с любопытством разглядывали его и не очень удивились, когда вышедший из дальних покоев князь прежде прочих приветствовал Илью. Чуть привстав на носки, князь поцеловал старого воеводу, но тот даже головы не наклонил.
– Ну что, молчун мой дорогой! Что ты всё печалуешься? – спросил князь. – По разумению нашему, печаловаться не по чем. Смотри, сколь держава наша расширилась и народ в ней и богатство умножились. И враги посрамлены и отступ и ша от градов и весей наших... Почто печалуешься?
– Стар стал, – еле слышно ответил Муромец.
– То не причина! Сам же говорил: уныние – первый грех.
– Печаль и уныние не одно и то же, – сказал болгарский архиерей, служивший в каменной церкви Василия Великого, построенной совсем недавно Владимиром во имя святого своего покровителя.
– Ныне печаловаться и унывать нам не по чем! – отмахнулся Владимир, молодо и резво поднимаясь на возвышение, где стоял его княжеский престол. Это было то старое кресло византийской работы, в котором сиживала ещё Ольга Великая. Сохранил его Владимир, только убрал в дорогой позолоченный оклад на манер византийского. Да и прочее убранство в тереме было по византийскому обычаю и византийских мастеров либо их выучеников работы. Нарочитые воеводы и бояре стали обочь престола, лицом к послам и людям именитым, званным в терем.
Один Илья остался стоять, где стоял.
– Ступайте в земли свои и скажите правителям вашим! – торжественно объявил князь Владимир. – Ныне, по долгом размышлении, приняли мы решение: обустроить державу нашу по-новому, на пользу Господу и жителям её в утешение. Как бабка моя венценосная княгиня Ольга Великая отменила полюдье, а взамен него установила погосты, так и я, смиренный раб Божий, князь киевский и всея Руси земель, новый закон полагаю: в городах наших управлять ставлю своих сыновей. Они же и править будут, и войско приводить по надобности! Такого на земле нашей никогда прежде не было, но отныне установлением этим водворяется в державе мир и тишина.
Послы внимательно слушали переводчиков. Их внимание подчёркивало торжественность и важность минуты.
Илья смотрел на них, на князя, па лица молодых княжичей.
И ему казалось, что он видит их из какого-то дальнего далека. Отдельно выхватывал он взглядом лицо разгорячившегося, разрумянившегося князя Владимира – всё ещё красивое, всё ещё моложавое. Умное бледное лицо Ярослава, прекрасные, иконописные лица Бориса и Глеба, Святополка, стоявшего в окружении прибывших вместе с женой из Польши рыцарей иноземных. Приёмного варяжского княжича Олафа, старого Добрыни, что совсем стал сед и немощен... Добрыня, как всегда, соглашался с тем, что говорил князь, и его, понимая, поддерживал.
Но среди послов иноземных услышал Илья на пиру, где, тяготясь приглашением, и он сидел, в открытую заданный вопрос:
– А как князь собирается решать вопрос престолонаследия? Кто будет наследником князя?
– Тот, кого князь сам назначит, – ответил Добрыня.
– То есть, – повторил этот вопрос ксёндз Рейнборн, – никакой правды, по которой нужно дело сие творити, у князя нет? А что будет, если он одному престол доверит, а затем передумает? Ведь трон – это не просто стул, это войска и деньги... Неужели занимающий престол великий киевский так легко его отдаст? Неужели для того, чтобы оставить стол великий, ради коего тысячи жизней подданных и своих не жалеючи кладутся, достаточно повеления отцовского?
– Ежели так, – сказал византийский посол, – тогда вы – народ великий! Истинно по вере Христовой живущий!
А Илья подумал, увидев, как усмехнулся Ярослав, как сверкнул глазами Святополк: «Нет такого народа! И страшен сатана, ко злу человека прельщающий!»
И услышал ответ Добрыни.
– У нас всё по правде Божеской будет. Глава миру – Бог, глава дому – отец! Все сыновья в послушании христианском и тишине пребудут!
Илья вздрогнул от этих слов, сказанных с детской верою и простодушием чистым сердцем и младенцем в душе Добрынею. Глянул он на княжичей, каждого в окружении своих воевод и бояр, и ужаснулся, что по слову Господню не будет.
– Хорошо! – сказал византийский дипломат. – А коли так случится, да продлит Господь лета великого князя киевского Владимира, что приключится ему смерть внезапная и не успеет он престол отдать тому, кому считает нужным? Как тогда?
– Тогда, как и в миру, по смерти отца дому главою становится старший сын! – сказал, помаргивая безмятежными старческими глазами, простодушный Добрынюшка. А от Ильи не ускользнули взгляды, которыми обменялись Святополк и Рейнборн. «Святополк ведь старший! – подумалось ему. – Нелюбимый! Крови сумнительной, сын двух отцов, но старший!»
– Господи! – прошептал воевода. – Уведи мя от суеты мира сего, ибо не вмещает разум мой всей хитрости и прелести его сатанинской, но чует душа погибель, и провидит сердце кровь великую и страсти смертельные...
– А коли братья его старшинства не признают? – не отставал прилипчивый и умный византиец. – Ведь у каждого – войско, у каждого – удел свой!
– Да что мы, вовсе, что ли, дикари? Ведь мы закон Христов приняли! И в Святом его крещении пребываем! – закричал, разгневавшись по-стариковски, Добрыня.
«И Царьград пребывает! – подумал Илья. – А нигде столько преступлений из-за престолонаследия не творится, нигде таких мятежей и казней не бывает, как в Византии! А ведь всё одного закона, все веры Христовой, и во Христа веруют истово, со тщанием и молитвой повсечасной! Господи, спаси меня, ибо изнемог ум мой!»
На пировании видны были Илье не просто княжичи подросшие и по зову отца съехавшиеся в Киев, а силы, кои во главе своей держали, как знамёна, княжичей...
Таких сил было три. Православная византийская, во главе которой пока стоял старый князь Владимир. Он готовил себе на смену Бориса – любимого своего сына. Человека для многих загадочного, хотя бы и потому, что в нём никто не видел ни одного порока.
Сын – послушливый, военачальник – храбрый. Не раз водил он дружину противу басурман-печенегов и каждый раз побеждал. Но странное дело – от похвал и почестей уклонялся. Да и про подвиги его воинские как-то слуха не было. Пошла дружина, разбила врагов да и вернулась. Будто побег молодой вокруг ствола, вился около брата младший – Глеб, паче отца любивший Бориса. Но тоже – отрок скромный, молчаливый; хоть не было и в нём изъяна, а как-то молва ничего о нём, как и о брате, не говорила. Послушливы, тихи были сыновья греческой царевны Анны. Сам Владимир с ними рядом терялся и словно ребёнком становился. Тихо было у них в покоях: ни гульбищ, ни побоищ, ни криков, ни скандалов. Девок сторонились, подвигов воинских стыдились.
– Вот правители будут мудрые! – говаривал, целуя их, старый Добрыня. – Вот в ком Бог живёт.
Борис и Глеб краснели и отводили глаза.
Не таков был Ярослав. Худой востроносый княжич глядел пристально, умно. Больше помалкивал. Но видел Илья-воевода, с кем водит он дружбу и в ком опору ищет: север – матери его Рогнеды родова и варяги! Словно воскресли Свенельд, Рагнар, Фрелаф и другие русы да викинги – таковы округ Ярослава друзья-сотоварищи! И казалось, что от мальчонки доброго, носившего ему хлеб в погреб, не осталось и следа, всё выморозила Рогнеда, когда оторвала Ярослава от Малуши-славянки и увезла в Полоцк. Казалось, что и Богу православному он верует больше по форме, чем по душе. А свита его была и вовсе некрещёной. Зло глядела она в сторону строящихся киевских церквей. И видели люди смысленные: не дай бог на киевский престол Ярослав сядет – вновь варяжские времена вернутся.
Илья, с тех пор как погиб Подсокольничек, держал весь обычай монашеский, и удивительное с ним происходило! Он и прежде, с тех дней, когда погибла Дарьюшка, стал в сердце своём службу церковную слышать – шла она постоянно и в яви, и во сне. Что бы ни делал воевода – шла в душе его постоянная церковная служба... Все годы, что был он в заморском походе, пели в душе его голоса ангельские и шла литургия божественная. После же смерти Подсокольничка, как первый раз причастился он в Киеве у старцев печорских Святых Таин, будто таза у него новые открылись. Стал видеть он и прошлое, и будущее.
Происходило это помимо его воли. Так, ни разу не поговорив ни с Борисом, ни с Глебом, видел он на них печать избранности, видел свет, от них исходящий. Но странные чувства рождал этот свет. Хотелось пасть на колени и рыдать, каясь в прегрешениях своих, изнемогая от жалости к человекам...
Когда же смотрел он на Ярослава, то видел его чётко, словно молодыми глазами рассматривал. Видел каждый порез на его подбритых щеках, каждый волос в молодой бороде, словно и не человек он был, а какая-то диковина хитростная, по разуму изготовленная искусным мастером. Ни разу при нём не сказал Ярослав лишнего, ни разу не ответил невпопад, ни разу не смутился, не покраснел, как Борис и Глеб – братья его сводные.
Но смотрел на него Илья и, вопреки мнению многих бояр думных, провидел в Ярославе властителя мудрого. Не мог объяснить почему, но, если бы его спросили, кто здесь князь среди сынов Владимира, он бы на Ярослава указал. Объяснить сего он не мог. Не по разумению, не по ведению это ему открывалось. Иной, говоря о Ярославе, ничего бы хорошего о нём не сказал. Княжил Ярослав во Новгороде жестоко, и горожане его боялись и не любили. Он навёл в город варягов заморских и во всём потакал варягам, в Новгороде живущим. Дружина его была буйна и жестока, как при Святославе-язычнике. Повсюду горожан утесняла. Но Ярослав дружине и варягам во всём потакал, а чуть горожане смущение какое вершили, выводил варягов с мечами обнажёнными – порядок устанавливать. И всё же он казался Илье правителем! Объяснял он себе это так же, как и в те дни, когда Владимира увидел: Господь-де выбирает и помазует на царство не по замыслам людским, и нельзя воле его противостоять или на свою волю надеяться!
А вот третья сила была страшна для Ильи! Когда смотрел он в сторону Святополка, то постоянно видел тёмную тень за его спиною. «Сатана за ним стоит», – шептал он. Княжич Святополк, росший бирюком-одиночкой, от кого не скрыть было его сомнительного происхождения и нелюбви отца, князя Владимира, женившись на сестре Болеслава I, короля Польши, обрёл сразу и верного друга, и любящую жену, и призрачную надежду на полную княжескую власть. Её, эту надежду, умело поддерживал и развивал в его душе Рейнборн Колобжегский – ксёндз, приехавший как духовник сестры Болеслава. Он сразу, будто в открытой книге, прочитал в больной душе Святополка и его тоску по близким, и жажду мести, и желание возвыситься над братьями...
– Сатана... сатана... – прошептал Илья, мысленно проходя весь путь Святополка и понимая, какие греховные струны задевал умелый ксёндз в душе княжича. – Гордыня, дух несмирённый, жажда мести, алчность – вот врата адовы!..
Он понимал, что истосковавшийся в одиночестве Святополк стал лёгкой добычей посланца папы римского.
Рейнборн пришёл с тем, что отвергали и Ольга, и Владимир, и вся Русь. Он наставлял, как повернуть дикую, варварскую страну к свету Запада. Путь Польши – вот пример, какому должна следовать созданная Владимиром держава. Постоянно внушал Рейнборн Колобжегский Святополку, что принятие христианства от Византии было ошибкой. Что нужно принять веру Христову от Рима Великого, а не от Константинополя.
– Но всё ещё возможно, – говорил ксёндз. – Смотрите, князь, как меняет веру Чехия... Собственно, христиане почти не чувствуют разницы. Вера-то не меняется! Меняются только ориентиры. Молодая держава Киевская повернётся от умирающей Византии к миру новому, сильному, могучему. Славяне займут в этом мире подобающее им место – место смердов, рабов и слуг, а вместе со славянами – все дикари степные; властвовать же будут европейцы. Но не такие, как дикие викинги, варяги и русы, а просвещённые, разумные и осмысленные. И станет Русь частью Великой Римской империи, и станет главою её наместник Бога на земле – папа римский.








