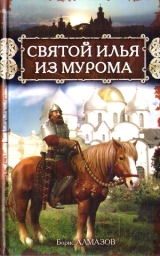
Текст книги "Святой Илья из Мурома"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Глава 2
Муромский сидень
Не в избе, но в стоящей на толстых сваях баньке пребывал, ради немощи своей, карачаровский сидень Илья. Грек-священник еле поспел за каликами, когда споро и ловко, перепрыгивая через огородные грядки с буйно возросшей капустной рассадой, подошли они к заволочному оконцу и пропели:
– Слава Господу и Спасу нашему Иисусу Христу!..
– Во веки веков, – тяжко и низко простонал голос за неохватными брёвнами банного сруба. – Кто здесь?
– Калики перехожие, монахи с печор киевских. Притомились, пообились в пути немереном, подай испить водицы странникам, Илюшенька...
Ничего не понимал грек в этом странном разговоре-перепеве, но и сказать ничего не мог – точно столбняк на него нашёл. Торчал посреди огорода будто путало.
– Рад бы услужить вам, люди добрые, да ноне я в немощи. Ни руками, ни ногами не владею. Не прогневайтесь и мною не погнушайтесь: не побрезгайте ради болезни моей, пойдите возьмите ковшик да сами водицы и налейте.
– А был бы здрав, Илюшенька, не погордился бы странникам убогим услужить? – спросил один из монахов.
– Чем гордиться-то? – удивлённо спросил-пророкотал голос за стеной. – Я не князь, не кесарь... Я – сын христианский, и все люди – дети Христа и Бога нашего, чего чваниться?.. Была бы прежняя моя сила, не гнил бы я в бане заживо. Заходите, Божьи люди; коли немощи моей не гнушаетесь.
Монахи, согнувшись, посунулись в баньку. А грек так и остался стоять столбом, не в силах с места стронуться. Во мраке баньки мерцала лампада перед иконою да струился из двух заволочных оконцев слабый свет. А рядом с каменкой, на полке, полулежал-полусидел в белой чистой рубахе до колен немощный Илья.
– И почто ж ты, Илюшенька, в баньку забился, от людей хоронишься? – спросили монахи.
– Стыдно на людях быть в таком художестве. Раньше одной рукой семерых валил, а ныне комара отогнать не могу. Вона, едва-едва руками двигаю, грех сказать: порток завязать сам не могу. А здеся, в баньке, жене моей обмывать меня сподручнее, я ведь, – всхлипнул Илья, – хуже дитёнка грудного сделался. Детишков своих стыжусь.
– А за что ж тебе сие расслабление? Не припомнишь ли греха за собою какого?
– Нет, – твёрдо сказал Илья. – Все грехи свои припомнил и исповедался. Спасибо, поп наш меня сюды приобщать да исповедовать приходит, да Евангелие читать. Несть греха моего знаемого! Может, согрешил когда неведомо, неведением своим, да и в том уж сто раз покаялся.
– За что ж расслабление тебе?
– По воле Господней, – твёрдо ответил Илья, опуская кудрявую голову на глыбоподобную грудь.
– И не ропщешь противу Господа, и сомнения тебя не берут? – опять спросили монахи.
– Нет, – так же твёрдо ответил Илья. – Господу виднее! Я из воли его не вышел.
– Так для чего ж Он силы тебя лишил? Живым мертвецом сделал?
– Кто ты, человек, что спрашиваешь меня? – пророкотал Илья. – Зачем терзать меня пришёл? Так вот я тебе отвечу! Как Иов многострадальный, в муках не возропщу, не усумнюсь, ибо неисповедимы пути Господни, но всё, что творит Он, Отец мой Небесный, – ко благу моему. А вы меня не мучьте и не докучайте. Вона кадка с водой – попейте да и ступайте с миром. Дух от меня лежалый, тяжкий идёт, мне это неловко.
– Сие не дух, а запах! – сказали монахи, подходя к огромному, привалившемуся к стене Илье и едва доставая до его лица. – А дух в тебе, Илюшенька, медов стоялых крепче и елея слаще.
– Да полно вам! – гудел он, отворачиваясь, но калики троекратно расцеловали его. – Да почто же вы плачете?
– От радости, Илюшенька, от радости.
– Какая радость колоду такую бездвижную видеть?!
– Господь, Илюшенька, пророка Иону во чрево Левиафаново поместил, во глубь моря-окияна низверг, дабы он из воли Господней не вышел, и там во чреве китовом он в разум полный вернулся и возопил:
«Ко Господу воззвал я в скорби моей —
и Он услышан меня.
Из чрева преисподней я возопил —
и Ты услышат, голос мой.
Ты вверг меня в глубину, в сердце моря,
и потоки окружили меня, все воды
Твои и ванны Твои проходили надомною.
И сказал я: отринут я от очей Твоих,
однако я опять увижу святой храм Твой.
Объяли меня воды до души моей,
бездна заключила меня;
травою морскою обвита была голова моя.
До основания гор я снисшёл,
земля своими запорами на век заградила меня.
Но Ты, Господи Боже мой,
изведёшь душу мою из ада.
Когда изнемогла во мне душа моя,
я вспомнил о Господе,
и молитва моя дошла до Тебя,
до храма святого Твоего.
Чтущие суетных богов
оставили Милосердного Своего,
а я гласом хвалы принесу Тебе жертву:
что обещал – исполню,
у Господа спасение»[3]3
Песнопение составлено по мотивам псалмов Царя Давида.
[Закрыть] —
пропели монахи.
И больной Илья, словно в полубреду, повторил:
– ...Что обещал – исполню. У Господа спасение...
– А что бы исполнил Господу, Илюшенька, когда бы извёл тебя Господь из немощи твоей?
– Какое Господь заповедовал бы послушание, тем бы и служил.
– А мечом служил бы Господу нашему?
– Я человек воистый, приходилось отчину оборонять. И обучен стариками к тому. Служил бы.
– Обетоваешься ли оставить дом и всех сродников своих ради служения воинского? – спросили старцы.
– Обетоваюсь!
– Обетоваешься ли покинуть чад и домочадцев своих ради служения воинского Царю Небесному?
– Обетоваюсь!
– Обетоваешься ли отринуть славу мира сего, и гордыню людскую, и всю суету и красоту тленную мира сего ради Господа и Спаса нашего?
– Обетоваюсь! Господь – моя сила, и в Нём – спасение мира и народа моего, – ответил Илья, дрожа от странного экстатического напряжения. – Да не отступлю и не постыжусь!
– Аминь! – выдохнули старцы. И, споро раскрыв котомочку заплечную, достали оттуда корчажку глиняную запечатанную. – А вот, Илюшенька, испей-ко нашего питья, ровно три глотка.
Они плеснули из корчажки в ковшик. Поднесли к губам больного.
– Раз, два, зри, а более не надо. Запевай за нами «Верую».
– Верую! – пророкотал Илья. – Во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым... – Голос его стал стихать, и на словах: – Исповедую едино крещение во оставление грехов[4]4
Символ веры Русской Православной Церкви.
[Закрыть], – он откинул голову и уснул.
Монахи, надсаживаясь, вынесли его в огород и положили на траву.
– Отец наш! – кликнули они стоявшему посреди огорода греку, тот словно очнулся от обморока. – Пособи баньку вытопить.
Пока деловито и быстро топили баню и ждали, когда выйдет из неё, чёрной, угар и наполнится вся внутренность ровным жаром от раскалённой каменки, монахи стянули с могучего Ильи рубаху и внимательно прощупали-осмотрели его всего.
Грек видел, как цепкими пальцами старцы перебрали каждый сустав, каждую мышцу огромного, литого тела Ильи.
– Осклиз, – наконец произнёс приговор свой один из старцев, и второй согласился.
– Осклиз – вот здесь и здесь, – показывая на позвоночник, сказал он. – Тута жилу пережимает, а тута вовсе в бок пошёл.
Не смея подойти и дивясь, как это в тесном городище никто не подходит к старцам и не собирается толпою, будто здесь и людей не стало – ни жён, ни стариков, ни мальчишек, – греческий священник наблюдал, как старцы что-то мазали у Ильи на спине, словно письмена какие-то на позвонках его выводили. А потом, обхватив громадное и мягкое, как тесто, Ильино тело, волоком потащили его назад, в баньку.
– А ты-то, отец мой, что раскрылился? Пособляй! – просипели они, сизые от натуги, греку.
И тот поспешно схватил огромную руку Ильи, перекинул через плечо и потащил грузное тело в раскалённую баню.
Старцы растянули спящего на полу, и один из них, разувшись, стал босыми ногами ему на спину.
– Владычица Богородица, помоги нам, грешным! – Старец переступал по широкой спине лежащего ничком Ильи. И вдруг подпрыгнул, мягко и упруго надавив на позвоночник.
Второй в этот момент изо всех сил потянул Илью за ноги. Раздался щелчок, словно переломили сухую палку, и старцы опять кинулись выщупывать чуткими своими пальцами бамбук позвоночного столба.
– Стали! Стали! Мосолки на место стали! Ну, слава Господу! Поправится. Недаром нам игумен говорил: «Во граде незнаемом сыщите расслабленного, в память Ильи Пророка наречённого, излечите его, и слава его будет славою Самсона Ветхозаветного». Так и есть, по-речённому. И нас, грешных, Господь сподобил послужить! Теперь он спать трое суток будет. А ты, батюшка, иди и не сомневайся, да никому про нас не сказывай...
И грек пошёл, пребывая в полном недоумении.
– Как не сказывать? Будто старцы на крыльях прилетели? Будто их никто не видел? А стража? А жители городища?.. А жена да домочадцы Ильины? Жена-то ведь каждый день с расчисток бегает: обмывать да кормить его.
Но три дня мелькнули, как сон утренний, – никто про старцев и не вспомнил, да и грек стал сомневаться, а были старцы-то, либо во сне привиделось? Порывался несколько раз к Ильиной баньке сходить, но ноги, словно заговорённые, в другую сторону несли, и мигом дело всякое неотложное находилось.
Так и не выбрался.
А старцы, сменяя друг друга, трое суток молились подле спящего.
На рассвете четвёртых суток стал Илья во сне постанывать да раскидываться. Раскрывал глаза, но глядел бессмысленно, не по-здешнему.
Старцы подняли его и усадили на лавку под образом Богородицы, который выносили, когда Илью голого на полке да на полу правили да парили, чтобы икона сраму не видела. Надели на Илью рубаху белую, заботливо выстиранную, дали в руку ковшец, из коего он сонное снадобье пил.
Тут Илья и очнулся. Крякнул и, ещё не вполне проснувшись, утёр усы и бороду рукавом.
– Илюша! – позвали его калики. – Так принеси водицы нам.
Илья поднялся и, только треснувшись головой о низкий потолок, понял, что ходит. Он ощупывал себя, топал ногами. А удостоверившись, что двигается, владеет всем телом своим, которое было безжизненно прежде, закричал от радости и пал перед старцами на колени.
– Не нас! Господа благодари, – ответствовали старцы. – Чуешь ли силу в себе?
– Чую силу великую! – плача и смеясь одновременно, отвечал Илья. Он схватил со стола корчажку малую и раздавил её в ладони в порошок.
– Э, брат... – протянули старцы. – Это в тебе ещё зелье гуляет. Так ты у нас как берсерк варяжский сделаешься – те мухоморов сушёных нажрутся и чувствуют в себе силу великую. А как действо зелья пройдёт, так и бери их голыми руками. Нам ты такой не надобен!
– Да как же, отцы мои, благодетели, – дрожа мелкой дрожью, стуча зубами и плача, говорил Илья. – Я силою своею послужу! Ох, как послужу!
– Сила есть – ума не надо! А тебе ума много потребуется! – осадили его старцы. – Ну-ко!
Они достали другую заветную корчажку с иным зельем:
– Вот, испей – охолонёшь.
Стуча зубами о край глиняной плошки, Илья выпил.
Его прошибла испарина. Словно вынырнув с большой глубины, он тяжело дышал и обмяк, привалившись к стене.
– Ну вот... – говорили старцы, отирая его рушниками. – Вот и ладно будет. Теперь-то небось силы не чуешь?
– Вовсе ослаб. Но шевелю руками, ногами-то!
– Знамо, шевелишь. И ещё как шевелить станешь. Только в силу тебе входить надо теперь медленно: шутка ли, сколь ты времени сиднем сидел. Теперь тебе заново ходить учиться нужно.
– Да нет! Ходить-то могу, – сказал Илья, поднимаясь и сутулясь под низким для него потолком баньки. Однако ноги, будто кто стукнул под коленями, согнулись, и он едва не упал...
– То-то! – засмеялся монах. – Давай-ка, как с дитём малым, тихохонько пойдём. Одной ноженькой, другой. Одной, другой...
Илья, обвисая всем своим мощным, непослушным телом на плечах монахов, выполз на волю... Вдохнул полной грудью:
– Господи Боже ты мой! Хорошо как...
Хрустальный рассвет стоял над городищем. Чуть дрожал воздух над избами, согреваемыми человеческим теплом, а дальше, за частоколом стен, зелёными валами лежал бесконечный лес, синеющий вдали и своей бескрайностью слитый с голубыми небесами.
– Да, не насытится око зрением, – согласились с Ильёю монахи. – А ухо – слушанием.
И верно: разноголосым щебетанием был полон лес, в городище орали петухи. Зазывая на утреннюю дойку хозяек, мычали в хлевах коровы. Весело и гулко трещал по сосне клювом дятел. Сороки, вереща, перепархивали с крыши на крышу.
– Во как! – засмеялся Илья, следя глазами за стрекотухами.
Нечёсаный беспорточный мальчишка выполз из избы, пустил с крыльца струю и получил шлепок от древней старушки, что вслед за ним вышла на воздух.
– Знай место, срамник! Лень ему по росе до овражка добежать.
– Так ить студёно!
– А вота таперя заднице твоей горячо!
– Во как! – смеялся Илья, не в силах выразить словами счастье выздоровления.
Он перевёл взгляд поближе – среди капустных гряд, укутанная по глаза платком, вся в утренней лесной росе, стояла Марьюшка, глядя неверящими, распахнутыми глазами на Илью.
– Марьюшка! – позвал Илья. – Не бойся! Я это! Здоровый.
Будто птица белокрылая, кинулась к нему жена и обвисла; совсем без стыда при чужих людях, при монахах, забилась в счастливых слезах на широченной груди мужа.
– Ну вот... ну вот... – гудел Илья. – Я здоров, а ты теперя плачешь. А не ты ль говорила: «Молись, Илюшенька! Господь всё ко благу управит!»
Монахи отошли, сели на солнышке, а Илья так и стоял, уперев руки в дверные косяки, а Марьюшка только вздрагивала от рыданий, прижимаясь к нему.
* * *
Сила возвращалась быстро, но Илья торопил её. Напрасно монахи запрещали ему тяжёлую работу, объясняя, что достаточно одного непомерного, резкого усилия, и опять сорвёт он позвоночник, и опять обезножеет.
Илья понимал, соглашался, каялся, зарекался не подымать до времени тяжести, не таскать брёвна на вал для починки частокола, не катать камни на стену, чтобы потом, при осаде, обрушить их на головы врага... Вечерами стонал от боли в мышцах, отвыкших от работы. Но просило выздоравливавшее тело тяжести для полного усилия. Потому не стерпел Илья и уже через неделю пошёл на расчистки.
Селище, в котором нашли приют старшие родичи Ильи, бежавшие от резни христиан в Хазарии, прежде принадлежало славянам-вятичам. Они бросили его, откочевав в леса, но постепенно вернулись и перемешались с христианами. Так что и мать, и жена Ильи были славянками. А поскольку славян было больше, чем беглецов, то говорили в городище на их языке, и хотя Илья понимал тюркское наречие, а на нём уже не говорил. Почему же вятичи вернулись? Почему две общины слились в одну и стали единой православной семьёй?
Причин было несколько. Во-первых, и вятичи были в здешних местах сравнительно недавними поселенцами. Их небольшие поля окружали бескрайние ловы и охотничьи угодья финских племён, граничивших на востоке с камскими болгарами. Пришедшие же с юга христиане были родственны болгарам: и те и другие – тюрки. И это давало возможность мира и союзничества с мощным и многочисленным соседом.
Но самое главное – южане были искуснейшие земледельцы. Не тащили они в перемётных сумах ни арабского серебра, ни византийского золота, но превыше всех богатств сберегали семенные зёрна пшеницы-полбы, которой в здешних местах до них не сеяли. Быстро переняв у вятичей умение выжигать лес под пашни, они стали получать такие урожаи, что община забыла про голод. Ещё принесли они невиданные в здешних местах доспехи и воинское мастерство, лесным славянам неведомое. Не умели так сражаться храбрые и сильные, но не бывавшие ни на военной выучке, ни в походах дальних, ни в сражениях кровопролитных вятичи.
А беглецы были все воинами, поколениями не выходившими из боев, потому что родина их, страна Каса, лежала на перекрёстках древнейших военных дорог, помнивших и воинов Македонского, и тяжёлую поступь римских легионов, и совсем недавнее, многими волнами накатывающее нашествие арабов-мусульман, с которыми, напрягая все силы, сражалась держава Хазария, бросая против исламских войск всех, кого могла поставить в строй: чёрных болгар, алан, буртасов, барсилов, савиров, славян, плативших дань Хазарии, – всех, кого можно было нанять, заставить или уговорить.
Но если арабы, воодушевлённые пророком Мохаммедом, были единоверцами, то в хазарском войске, поначалу совершенно веротерпимом, бок о бок сражались и язычники-тенгрианцы, и христиане, и иудеи, и те же мусульмане. Злейшим врагом Хазарии была Византия, с которой хазарские каганы дрались за господство в Крыму.
Византия была государством православным. Поэтому после принятия иудаизма власти Хазарии начали уничтожение христиан. В резне 943 года погибла большая часть тюрок-христиан, крестившихся чуть ли не с четвёртого века и до 861 года. Остатки уцелевших после резни бежали в донские степи и ещё дальше, чуть не до Оки и Камы, спасаясь от свирепых хазарских иудеев. Беглецы несли в новые места веками накопленные знания: мастерство земледелия, воинское мастерство и даже грамотность. Которая, впрочем, за ненадобностью была вскоре забыта. Новое поколение, рождённое от славянок (среди пришельцев не было женщин!), уже не помнило тюркского письма, а еврейская грамота для рядовых хазар, даже принявших обрезание, была под запретом. Ею владели только посвящённые, в чьих жилах текла кровь потомков сынов Израиля. Таких в Хазарии было очень немного.
Они – управляли. А ловили рыбу, пахали землю, трудились на виноградниках, воевали многие народы, в том числе и хазары-тюрки, в основном православные или тенгрианцы. Земледелие, рыболовство, садоводство и война – вот были основные их занятия. Они превосходно разбирались в агрономии, полеводстве, в плодородии почв и умении обрабатывать её. Потому и заполыхали в муромских лесах, окопанные глубокими канавами, лесные участки, превращаясь на несколько лет в сказочно плодородные поля.
Однако плодородие лесных почв истощалось быстро. И каждый год пахари выжигали новые и новые участки, уходя всё дальше от городища. Когда новые пашни отдалялись на несколько десятков вёрст и как грибы после дождя поднимались близь них беззащитные деревни-селища – переносилось на новое место или строилось новое городище, куда в случае нападения врагов мог укрыться земледелец, чтобы переждать наезд лихих людей, перетерпеть осаду и снова приняться за самое тяжкое своё занятие – за хлеборобство, самой тяжёлой частью которого была расчистка.
В феврале, многозначительно называемом славянами «сечень», шли по насту, под лихими ветрами и секущей лица позёмкой, сечь лес – валить секирами все стволы подряд. Волокушами выволакивались к городищам и селищам, к рекам и протокам гожие для строительства стволы. Всё же остальное высыхало, превращаясь весенними и летними месяцами в многокилометровые кострища, пылавшие неделями. На будущие поля свозили всё, что могло гореть, окапывали глубокой межой, чтобы, упаси Господь, огонь не перекинулся на соседний лес, и терпеливо ждали, когда же прогорит всё...
Тяжело и редкостно было искусство огнищника, который выбирал место для расчистки, чтобы не дай бог не запалить торфяники, но выжечь лес до корней. А далее, по ещё дымящемуся пожарищу, начиналась самая страшная работа – корчёвка пней и уборка каменных россыпей.
Чем севернее, тем выше были каменные валы вдоль полей, но каждую весну на бороздах появлялись, выдавленные морозом на поверхность, новые и новые булыжники, точно их сеял кто. И опять приходилось собирать их, откатывать к меже. Но это была постоянная, привычная работа, а вот корчёвка!..
Чёрные от гари, с воспалёнными глазами и поуродованными руками, с гноящимися занозами, которые недосуг было врачевать, словно обезумевшие, люди выдирали из земли горелые пни и остатки корней. Работа была тяжела ещё и тем, что не давала человеку отдыха. Остановишься, заболеешь, выбьешься из сил, дашь себе роздых, хоть ненадолго, и оживут горелые корни. Пустят молодые побеги, поднимется на поле свежая поросль, и уж никаким пожаром её не выжечь – пропали многолетние труды.
Здесь, на этой работе, формировался характер будущих русских людей, здесь накапливали они страшную силу, делавшую их непобедимыми в тесном рукопашном бою, но здесь и калечились они во множестве – срывая позвоночники и животы, умирая от всевозможных грыж и увечий... Нынешние врачи только догадываются, что такое все эти многочисленные осклизы, срывы, килы и поломки мосолковые....
А ведь нужно было ещё и за меч держаться. Это зверь лесной уходил от огня и дыма, а зверь людской на дым да на свет расчисток шёл. Налетал на работников нежданно и гнал в полон... Или выслеживал ночёвки да налетал на беззащитные деревни из полуземлянок, где отлёживались пахари, чтобы вязать их врасплох скопом, чтобы никто не мог убежать в чащобу и скрыться.
Ещё не гожий ни к полному труду, ни к рати, Илья пошёл работать встречь зажигальщикам – по старым полям собирать камни.
Неотступно шли за ним калики перехожие. Не давая катать валуны и подымать сверх меры, напоминая, что так-то он себе спину и сорвал.
Но ежедневные тысячи поклонов за камушками, метание их в крайнюю борозду наливали тело прежней силой. Однако болели мышцы, и, если бы не мази-снадобья, коими натирали Илью старцы, не смог бы он спать как убитый и вставать поутру как заново родившийся.
Поили они его отварами, кормили какими-то своими кашами, растирали каждую мышцу на широченной спине, на груди, на руках и ногах.
– Подымайся, свет Илюшенька! Вороти силушку! Тебя Господь призывает!
Илья свои зароки помнил. Но ни о чём старцев не расспрашивал, а только слушал и постепенно понимал, зачем отыскали, немощного, калики, на какой труд воинский обетовался он и что угодно от него Господу.








