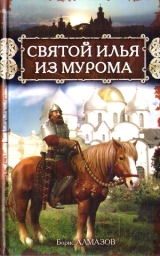
Текст книги "Святой Илья из Мурома"
Автор книги: Борис Алмазов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц)
Святой Илья из Мурома
Часть первая
СТРАНА ЯЗЫЧНИКОВ

Глава 1
Калики перехожие
 олодой медведь, ещё прошлым летом ходивший у матери пестуном младших медвежат, первую зиму спал в берлоге один. Половодье выгнало его из-под корней поваленной сосны, и вот уже несколько дней он бродил по весеннему лесу, наполненному запахами, шорохами, щебетанием птиц, жевал, как подсказывал ему инстинкт, всё, что было съедобного, да вот не всё мог взять – не хватало умения. Пробавлялся всякими корешками. Отогнал волков от загрызенной ими и наполовину сглоданной оленихи – вдоволь наелся. По глупости залез в муравейник и полдня потом вычихивал еду́чих муравьёв, всю ночь прятал искусанный нос во влажный болотный мох, а на рассвете пошёл к реке.
олодой медведь, ещё прошлым летом ходивший у матери пестуном младших медвежат, первую зиму спал в берлоге один. Половодье выгнало его из-под корней поваленной сосны, и вот уже несколько дней он бродил по весеннему лесу, наполненному запахами, шорохами, щебетанием птиц, жевал, как подсказывал ему инстинкт, всё, что было съедобного, да вот не всё мог взять – не хватало умения. Пробавлялся всякими корешками. Отогнал волков от загрызенной ими и наполовину сглоданной оленихи – вдоволь наелся. По глупости залез в муравейник и полдня потом вычихивал еду́чих муравьёв, всю ночь прятал искусанный нос во влажный болотный мох, а на рассвете пошёл к реке.
Река уже вернулась в берега, но была ещё по-весеннему быстроходна, хотя уже почти по-летнему мелка. Вверх по течению, подпрыгивая над порогами, сверкая серебром чешуи, шла на нерест рыба.
Выбрав песчаную отмель, где река делала поворот и была совсем неглубока, медведь примостился ловить обессиленных борьбой с течением рыбин. Он ополоснул нос в шёлковых водяных струях – полегчало. А охотничий азарт заставил позабыть про муравьёв. Сел прямо в воду, левой лапой навёл на воду тень, чтобы видно было похожее на большое полено рыбье тело, и молниеносным движением цапанул его когтями правой лапы. Толстая рыбина, упруго изогнувшись, взлетела над водой – медведь сноровисто подхватил её, прокусил голову и сунул под себя, придавив в воде задом. Тем же манером поймал вторую, третью... Но когда пошарил под собой по дну – рыб там не оказалось!
Замотав недоумённо башкой, медведь кинулся искать – рыбы не было! Застонав от огорчения, он поймал ещё двух и тем же манером спрятал под себя, но и те пропали! В огорчении мишка заколотил лапами по воде... И решил попробовать в последний раз!.. Но странный звук, не похожий ни на один голос леса, заставил его насторожиться, поднять голову и глянуть на противоположный берег...
Там стоял человек. Он – смеялся.
От растерянности мишка открыл пасть и оторопел. Человек вдруг согнулся и прошёлся по берегу, как медведь...
Мишка увидел себя. Человек изображал, как медведь рыбачит. Гибкой рукой показал и взлетевшую над водой рыбу, и как медведь спрятал её под себя.
Мишка как заворожённый смотрел на человека... А тот объяснял, как течение унесло пойманную рыбину, когда медведь потянулся за второй. Человек показал, как взлетела над водой рыбина и как нужно её вышвырнуть на берег, откуда она не уйдёт. Мишка понял. Тут же выхватил из воды очередную добычу и швырнул её на песчаный берег. Поймал вторую рыбину... Оглянулся. Первая, шлёпая тяжёлым хвостом, плясала на прежнем месте. В восторге медведь запрыгал по мелководью, поднялся на задние лапы... Глянул через реку, но там никого не было... Не шевелились низко нависшие над водой смородиновые кусты, строго, чуть качая в вышине вершинами, безмолвствовали сосны...
А человек был уже сажен[1]1
Сажень – русская мера длины. Равна 3 аршинам или 2,134 м.
[Закрыть] за триста. В глубине оврага, почти не давая дыма, горел маленький костерок. Около огня другой человек ловко и сноровисто чинил лапоть. Пришедший от реки поставил ближе к костру деревянный жбанчик с водой и покидал в него раскалённые в костре камушки. Вода мгновенно закипела. В неё человек положил крупные куски рыбы и две рыбьих головы, туда же бросил две луковицы и, как величайшую драгоценность, – крупную серую соль. Когда глаза в рыбьих головах побелели, человек выхватил из костерка головешку и загасил её в ухе. Его товарищ тем временем закончил ремонт лаптя, убрал снасти – кочедык[2]2
Кочедык – небольшой кусок твёрдого дерева с заострённым отростком-сучком.
[Закрыть], шило, крюк... Обул лапоток, притопнул ногой. Причесавшись деревянными гребешками, оба мужчины – были они немолоды, седина выбелила головы и бороды – стали на колени лицом к солнцу и начали беззвучно молиться, широко осеняя себя крестом и кладя земные поклоны. Отмолившись, так же тихо перекрестили еду и взялись за ложки. Между ними не было сказано ни одного слова, всё совершалось в полной тишине. Закончив трапезу, они, так же молча, помолились. Затем тщательно уничтожили все свои следы – кострище закопали и прикрыли дерниной, завалили ветками примятый за ночь телами мох, – покрыв головы монашескими скуфьями, закинули на плечи полупустые котомки и, взяв в руки крепкие, отполированные в странствиях посохи и перекрестясь, зашагали через непролазную чащобу, ступая легко, словно невесомо. Они шли сторонясь селений и далеко обходя капища местных племён. Как лист древесный, упав на воду, не оставляет за собою следа, так и они неслышно и незаметно шли лесами, пойменными сырыми лугами и болотами, прорезая своими телами чащобы и заросли, беззвучно и легко, как птицы прорезают воздух, а рыбы – воду.
Несколько раз выходили они к славянским городищам, к острогам мерян и руси, о чём-то беседовали со старейшими и шли спокойно дальше, потому ни для кого не представляли ни угрозы, ни поживы. Годами были преклонны и для полона и продажи в рабство не годились, а при себе не имели ни сколь-нибудь дельных животов, ни злата, ни серебра, ни меди красной, ни одной железной вещи. Иглы да шила у них были костяные. Костяным же был и нож, один на двоих, и даже схороненные далеко под рубахи нательные кресты были резаны из кипариса ерусалимского – деревянные.
Однако, хранимые Господом Иисусом Христом, Богом новой для сих леших мест веры, не были монахи странствующие, калики перехожие, беззащитны. Не единожды лихие люди пытались примучить их забавы ради, да выходило не больно ладно. У лесов муромских, в стороне от всяких городищ, кинулась на них мурома соловая, белоглазая, желтоволосая. Ни о чём не спрашивая, изгоном-излётом выскочили из кустов да с деревьев попрыгали с десяток лихих разбойничков, удалых охотничков... Хотели, видно, монахов христианских православных в жертву своим идолам деревянным принести. Сказывают, у здешних язычников пуще славы не было, как перед богами своими из груди священника либо муллы вырвать сердце и вымазать им, кровоточащим, горячим и трепещущим, губы деревянному истукану с рогами позлащёнными.
Потому кинулись лютые муромы, не поздравствовавшись и даже не задираясь, сразу, будто ждали калик перехожих. Были они ребята молодые, крепкие и хоть не высоки ростом, но кряжисты и дородны. Первый, курносый и конопатый, с безволосым лицом, хватанул лапою в рыжей шерсти монаха – того, что с медведем беседовал, – за плечо и хотел, как дерево трухлявое, пред собою повалить, да как-то неведомо повернулся старец и, с места не стронувшись, ударил разбойника посохом: навершием – в лицо, ступицей – в брюхо. Тут же и второй воин муромский пополам согнулся и кровью залился, а как достал его клюкой-посохом старец? Неведомо.
Второй калика и посохом не защищался, а ударил врага нападавшего локтем в переносицу, а как тот назад откачнулся, схватил его той же рукою за загривок да об своё колено и треснул – повалились трое разбойничков, кровью умываючись, в траву придорожную. Тут уж стало остальным видно, что дело-то не шуточное и голыми руками старцев диковинных не возьмёшь! Двое на старцев в мечи пошли, а двое воровским манером со спины наскочили.
Схватил белобрысый мурома старца за шею, зажал голову локтем, а старец как-то присел, крякнул и, будто мешок с репою, перекинул супостата через себя прямо на меч сотоварища. Напоролся он на железо калёное, будто воск на шило.
Второй же калика ткнул нападавшего посохом в плечо так, что меч из ладони выскочил, а рука повисла, как верёвка, безжизненная. Увернулся от меча другого нападавшего, а когда тот пролетел мимо, промахнувшись, клюкою его за горло перехватил да и дёрнул маленько, так что у того глаза из орбит чуть не выскочили.
Двое, что издали на побоище смотрели, луки тугие изготавливали, пустили в старцев по стреле, но обе стрелы один калика поймал да в руке переломил, а второй метнул в стрелков посохом так, что у одного передние зубы вылетели, а второй с перебитой ключицей бежать в лес кинулся.
Огляделись калики. Стонут воины муромские, кровью умываясь, по траве ползают, на своём языке пощады просят. Вздохнули старички да принялись их врачевать. Одному руку вправили, другому – челюсть, третьему – ногу ломаную в шину положили. С разбитых лиц кровь мокрой тряпицей отёрли да каким-то снадобьем, на мёду, ссадины смазали.
Сидит мурома, притихла. Больно не воиста сделалась. Толичко поскуливают да на старцев, как мальчишки нашкодившие, поглядывают. Старцы убитого муромчанина положили ровно ногами на восток, меч из него вынули, руки на груди ему сложили. Покачали головами седыми сокрушённо, натянули скуфеечки да и пошли своим путём, будто и боя не было. Только к вечеру, когда на сон грядущий молитвы читали, правили канон покаянный и пост себе заповедали – неделю без пищи и воды идти. Потому – грех содеяли: кровь человеческую пролили.
Вернулся белоглазый мурома с ключицей ломаной из своего городища с подмогою, а за каликами – уж и следу нет!
Кинулись догонять с собаками охотничьими. Скулят собаки, а следа не берут... Да и те, что на бое пораненные, сильно своих соплеменников догонять старцев отговаривали. Мол, не ходите, зла не делайте! Всё зло против вас и обернётся. Старцы-то, видать, не простые... Догоните – не обрадуетесь: ежели голов не сложите, то всем вам целыми не бывать! Вот мурома разбойная от погони и отступилась.
А старцы как шли своим путём, так и следовали – скоро да споро.
Дней через десять после столкновения с муромой, уже на закате дня, подошли они к затворенным воротам Карачарова городища. С умом было оно строено. Невелико, да прочно. И ров полон водой, и откосы вала круты – не зацепишься. И угловые башни, что высились над частоколом, были удобны для стрельбы и в поле, и вдоль заострённых брёвен стены. Особливо же отметили про себя старцы умение, с каким были построены ворота. Вели они в самую большую надвратную башню острога, но не прямо, а сбоку, куда вела довольно крутая дорога. И всё, что по ней шло или ехало к башне, становилось к стене правым боком – как раз под стрелы... Сажен с десяток пришлось бы нападавшему правый, щитом не прикрытый бок под стрелы да копья подставлять, пока он до ворот добежал бы. И ворота, видать, были с умом построены. Проломившийся в них оказывался в башне, а там наверняка и вторые ворота, крепче первых, есть.
Набьётся ворог в башню, напрут задние, давя передних, ан перед ними – ещё ворота. Кинутся назад, да упадёт сверху железная решётка – забрало – и перекроет выход. А наверху для попавших в западню уж и копья готовы, и вар на огне клокочет, и смола кипит... Потому как двухэтажная башня, и пол на втором уровне так поделан, что сквозь щели в нём того, кто в башню попал, – видно, а того, кто на втором ярусе стоит, – не достать.
«Ладно строено! – враз подумали старцы. – Видать, живёт в Карачаровом городище народ воинский, во многих схватках да затворах накопивший опыт боевой... Он ведь даром не даётся, он на крови да бедах людских копится». Но самое главное, что отметили старцы и что жадно искали глазами, пристально изучая городище из лесной чащи, – виднелся за частоколом православный крест на деревянном шатре церковки. Разом перекрестились калики и без опаски пошли по открытому лугу, такому сырому, что и на луг-то он не больно смахивал, а походил на болото, где конному да оружному непременно завязнуть суждено.
И это отметили калики, прыгая, как зайцы, с кочки на кочку: изгоном-набегом городища не взять!
Пока добрались они до затворенных ворот – город приготовился к встрече, и хоть мычали в хлевах коровы, недавно пригнанные с поля, но явно слышали старцы, как торопливо пробежали в башню воины. Это пришлось каликам по сердцу: обутые бежали, не босые, не лапотники, но в сапогах с подковками... Стало быть, народ в городище не бедствует и во всём достаточный, а в воинском деле – не новичок...
– Молитвами святых и всехвальных Мефодия и У Кирилла да сохранит вас Господь в городище сём... – дружно пропели калики, постучав в ворота клюками.
– Аминь, – ответили из башни, – Да сохранит вас Пресвятая Богородица под покровом своим.
– Аминь, – ответили, кладя поясные поклоны, старцы.
Створки ворот чуть приоткрылись – ровно настолько, чтобы прошёл один человек, и старцы поочерёдно протиснулись в башню. Ворота за ними сразу же затворились…
В темноватой башне, где они, как и предполагали, оказались перед вторыми, наглухо затворенными воротами, голос сверху спросил:
– Молитвами и предстательством законоотец наших Кирилла и Мефодия, откуда путь держите? Чьи вы люди?..
– Из стольного града Киева. Монаси...
– Ого! – сказал кто-то невидимый, простодушно удивляясь, из какой дали явились эти странники. Давно ли идёте?
– Да с полгода будет. На Покров выходили, по-зимнему...
Створки вторых ворот также чуть приоткрылись, и монахи вышли на свет уже за стенами карачаровскими. Их ждали несколько крепких смугловатых и черноволосых воинов, совсем не похожих на населявшие эти края людей.
Больше всего они смахивали на печенегов или на родственных печенегам торков, что служили Киеву. Были на них чёрные высокие шапки-колпаки – чёрные клобуки... Но говорили они по-славянски чисто, и, самое главное, в расстёгнутых воротах рубах виднелись гайтаны крестов.
Калик отвели к церкви, и первым их расспрашивать, кто они да откуда, принялся священник – каппадокийский грек, неведомо как оказавшийся в здешних лесных и дремучих местах.
Удостоверяться, что это монахи, не самозванцы, в те годы было бессмысленно, только истинный православный христианин, положивший для себя превыше всего служение Христу, мог заявить о вере своей. Хотя христиане были на Руси не в редкость, но большая часть племён и родов, населявших Русь, пребывали в язычестве и христиан в лучшем случае избегали, как, впрочем, и мусульман, и иудеев, а чаще – казнили без милости, принося в жертву Перуну или иным своим богам... Зачем пустились смиренные Божьи люди в столь дальнее хождение, грек не спрашивал – не по чину ему было. Раз идут – стало быть, не без причины, а коли есть причина – сами скажут.
Присматривались и монахи к городищу, к священнику, к детишкам, что шныряли повсюду и совали по-летнему облупленные уже носы в раскрытые двери церкви, где в трапезной батюшка потчевал репой и хлебом странников.
Дивились монахи и церкви – деревянной, будто изба, и строенной, словно это баня или амбар. Не видали они таких-то в южных краях. Перво-наперво поднялись они по широким ступеням на крытую галерею, где, будто в княжеском тереме, стояли столы и лавки, – видать, бывало здесь пирование; прямо против крыльца сквозь растворенные двери виднелся собственно храм, освещаемый несколькими лампадами. Виден был и престол, и всё его убранство, и несколько икон, висевших за престолом и стоявших на алтарной перегородке. Иконы все были греческие.
Ведя приличную месту и чину беседу, монахи странствующие распытали обиняком, что за народ пребывает во граде сем, кто князь и кто набольший.
Народ пришлый! Не от корня здешнего, – ничего не скрывая, ответствовал священник. – Бежали от гор Кавказских, когда хазары православных громили и резали, тому уж лет сорок будет. Тогда Хельги, регина русов, в Константинополь к цесарю Византии помощи противу безбожных хазар просить ездила...
– Помним, помним... – закивали калики. – Она тогда ещё в язычестве пребывала.
– А уж я-то, – рассказывал грек, – с нею приехал, когда она крестилась и привезла в Киев стольный, вместе с именем своим Божиим – Елена, и первые книги, и нас – попей смиренных, кои согласились в языческий край ехать.
– А сюда-то как попал?..
– Так ведь при регине богобоязненной, православной, кою славяне Ольгой по темноте своей зовут, а по закону она есть Хельги – Елена, жилось в Киеве православном сносно. И крестились многие, и паства была, и Хельги-регина нас всем одаривала и кормила. Но Господь взял её в чертоги свои, и княжить стал её закосневший в язычестве сын Святослав. Сей был дик и свиреп! И, кроме войны, ничего знать не хотел. Да и воевал-то всё не путём... Всё в местах отдалённых, а вотчины своей не берег! Так и сгинул на перекатах днепровских. Сказывают, печенег Куря из его головы чару сделал да вино пьёт.
– Тьфу! – дружно плюнули оба монаха. – Погоди, будет этому Куре за деяния да волхвования колдовские...
– А по мне, так и поделом Святославу. При нём такие гонения на христиан в Киеве пошли, что почище хазарских погромов будут. Славяне да варяги в истуканов своих веруют почти что одинаково. Вот они без Хельги-то регины меж собой живо сладились да и почали христиан имать да в жертву приносить, а живых хазарам торговать, а то и сами за море везли... Вот и побежала братия киевская куда глаза глядят – в леса да пустыни... Тако и я здесь оказался.
– Однако же он сокрушил Хазарию – котёл зла бесовского и разврата сатанинского, – возразил один из монахов.
И грек догадался, что монах в мирской своей жизни был воином и, должно быть, ходил со Святославом громить и жечь столицу Хазарии Итиль-град.
– Да где же сокрушил? – возмутился грек. – Только стены градские разрушил да дворцы их пожёг. А Хазария как стояла, так и стоит. Как творила зло во славу сатаны, как торговала зельями, да шелками, да рабами, отовсюду ведомыми, так и торгует.
– Однако от Святослава-князя, – не унялся калика, – киевский каган кагану Хазарии дани не платит.
– Сегодня не платит, а завтра придут вои хазарские, пожгут стольный Киев-град и станут дань взимать как прежде, как триста лет взимали!
– Да не платил Киев дани триста лет! – вяло возразил монах.
– Триста не триста, а платил! А что Святослав Итиль пожёг... – продолжал грек. – Был я в том Итиле. Сие есть град и на городище не похожий! Стены хоть и высоки и толсты, да глинобитные, а строения все деревянные, а крыши – войлочные! Такой-то хоть сто раз жги – он, глазом не моргнёшь, опять отстроится.
– Не стенами крепок град, но воинством! Спарта эллинская и вовсе стен не имела, но войско стеною было ей несокрушимою, – сказал скрытую похвалу греку, за тридевять земель от Эллады ушедшему нести слово Христово, второй монах. – Ещё Хельги-старый, воевода Рюрика, конунга русов, Итиль разорил да всех иудеев в Киев на телегах привёз.
– На горе себе! – завопил грек. – И тогда Итиль отстроился, и Хазария, как феникс-птица, из пепла восстала, и зло от неё не преуменьшилось. Идут караваны рабов из Итиля и в Мадрид, и в страны далёкие, восточные, где их на шёлк меняют да на блудниц искусных азиатских, на танцовщиц. А Киев-град весь в долгах у общины иудейской – хазарской – да на виду у Хазарии, как на ладони. В Итиле про каждый чох княжеский на другой день знают. Потому и пришлось Ольге за море в Царьград за помощью бежать, что на своих киевских воев надёжа мала.
– Не скажи! – закипятился калика, что со Святославом Итиль громил. – Не скажи...
Но товарищ его перебил, видя, что спор разгорается и ни к чему хорошему не приведёт:
– А кто у вас княжит либо воеводит? Кто во граде вашем набольший?
– Да несть у нас ни князя, ни воеводы его, – прихлёбывая молоко из глиняной чаши, спокойно сказал грек.
– Как так?
– Сказано вам: народ тут пришлый. От разных языков, и едина у него только вера православная. Вожди, кои и были, так все перемёрли... А оно и к лучшему. Несть во граде нашем ни при, ни замятии княжеской! Никто супротив другого не возвышается.
– Тело венчает глава, а страну – князь! Разве можно без главы?
– И мы не без главы. У нас глава – старейшина. Да совет мужей мудрых, годами преклонных, в коих страсти утихли от множества лет и молитвы христианской, а мудрость прибыла и умножилась от опыта житейского и слова Божия.
– А кто воев водит? Чаю, не без войны живете?!
– Кругом опасно живём! – вздохнул грек. – И болгары камские нападают, и мурома соловая-белоглазая по лесам разбойничает, людей имает да не то хазарам, не то варягам продаёт...
– А во граде Муроме, слышно, князь сидит от Киева? Что ж он смерды не блюдёт?
– Какой он князь! Огнищанин княжеский! И дружина у него – варяги да иудеи, два жида в три ряда! Мы и не град, а селище, но много как его воистее. Он сам дани просит да полюдьем примучивает, а защиты от него – никакой! Только на себя и надеемся.
– А среди воев кто набольший?
– Да был Илья. Хоть и годами не стар, а таков воитель и здоров телом преужасно...
– Погиб, что ли? Ты сказываешь «был»? – встрепенулись монахи. – А ноне он где? – Видно было, что про Илью они слышали, а может, к нему и шли.
– Да не мёртв он нынче и не жив, в расслаблении пребывает... Уж который год в расслаблении: ни руками, ни ногами не владеет.
Монахи глянули друг на друга и, не сговариваясь, торопливо прошли в церковь и пали перед алтарём.
– «Вот оно, видение игумена нашего», – только и услышал греческий священник сказанные одним из калик, будто про себя, слова.
Удивительна была молитва монахов. Молились они молча, истово, без славословия и пения. А вставши с колен, оборотились к греку:
– Веди к сидню вашему. Где он? Где родители его?
– Родители-то в лесу, на расчистках – лес под пашню выжигают. Во граде – только дружина малая. Все наши карачаровцы тамо, а Илья-то где? В бане своей своей сидит. Куда он денется? Как он расслабленный! – торопливо толковал грек, едва поспевая каликами, которые шли мимо землянок, огнищ и строений так, будто знали дорогу сами.
Дивился грек перемене в них. Словно огонь запылал в монахах, и в сумраке надвигающейся ночи странно светились их бледные лица с широко распахнутыми глазами.








