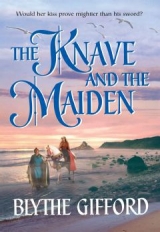
Текст книги "Дева и плут (ЛП)"
Автор книги: Блайт Гиффорд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
Беспокойная живая гора, на которой она неуверенно восседала, пугала Доминику. Ее ноги, свешиваясь по левую сторону седла, беспомощно болтались в воздухе. Неожиданно конь взбрыкнул, и Доминика вцепилась в Гаррена.
– Какой он громадный, – выдохнула она.
– Вы что, в первый раз сели на лошадь?
– В монастыре нет лошадей. Только ослы.
– Он у меня молодец. – Гаррен потрепал коня по мощной шее. – Не дрогнул перед французской конницей – не подведет и сейчас.
– С Божьей помощью, – вставила она, впрочем, не вполне уверенная в том, что небеса нынче в настроении помогать ей.
– Коню я доверяю больше. – Насупившись, он жестом подозвал Саймона. – Отдай ей собаку.
Она прижала к себе дрожащий, насквозь промокший комок шерсти и зажмурилась, когда под копытами Рукко сердито забурлила вода. Под гнетом течения коня шатало из стороны в сторону.
Она спрятала лицо у Гаррена на груди. Теплый, успокаивающий запах его тела, проникая сквозь слои мокрой одежды, защекотал ноздри.
– Тише, тише, все хорошо, – молвил он, и Доминика, едва слыша за рокотом воды размеренное биение его сердца, не поняла, кого же он утешает – своего коня или ее.
Неожиданно Рукко резко накренился вправо.
Пискнув, Доминика взмахнула руками и качнулась назад, не сразу осознав, что Гаррен ее держит. Но Иннокентия она удержать не смогла. Оттолкнувшись от нее своими короткими лапами, пес ринулся в бурлящий речной поток.
– Иннокентий, нет! – отчаянно крикнула она.
Глаза ее распахнулись. Она дернулась за ним, отбрасывая руки Гаррена, но было поздно. За коротким лаем раздался всплеск, и вода его поглотила. А за ним, потеряв равновесие, вывалилась из седла и сама Доминика.
Напоследок она попросила Господа приглядывать за сестрой Марией и за Гарреном, а потом вода сомкнулась над ее головой.
Глава 14.
Стремительное течение влекло Доминику за собой. Падая, она успела схватиться за балахон Гаррена и теперь, противостоя потоку, держалась за него из последних сил.
Вода залила ее глаза, уши и нос. Она ослепла и оглохла, легкие горели огнем, требуя воздуха. Непроизвольно сделав вдох, она захлебнулась и разжала пальцы. Мокрая ткань выскользнула из рук, и она – то ли в голос, то ли мысленно – закричала:
– Спасите меня.
Будто откликнувшись на ее призыв, какая-то сила потащила ее вверх, пока она, барахтаясь и задыхаясь, не оказалась на поверхности.
– Держитесь. Я вас не отпущу.
Тяжелая одежда саваном тянула на дно. Наглотавшись воды, Доминика никак не могла вздохнуть и молотила конечностями по воде, панически извиваясь и хватая ртом воздух.
– Прекратите дергаться! – рявкнул Гаррен. – Иначе мне вас не удержать.
По инерции продолжая барахтаться, она осознала, что он держит ее подмышками. И тогда, открыв глаза, заставила себя зависнуть средь палок и веточек, что кружились в пене на поверхности воды.
Посреди этого клокочущего безумия стоял недвижим, как скала, боевой конь и ждал команды хозяина.
– Рукко вывезет нас на берег.
Он взялся за ногу лошади. Рукко сделал шаг, потом другой, третий, и поволок Доминику и Гаррена за собой. Ее захлестнула волна облегчения. Спасена. Замерзшая, вымокшая, еще не отошедшая от испуга, она крепко вцепилась в Гаррена. Спасена.
Наконец-то откашлявшись, она шумно вдохнула воздух.
– Где… – говорить и одновременно дышать у нее не получалось, – … где Иннокентий?
Гаррен кивнул куда-то вбок.
– Плывет за нами как утка.
Завертев головой по сторонам, она разглядела на берегу сестру, которая стояла, схватившись за сердце. По мелководью метался взад-вперед и что-то кричал Джекин, но за ревом воды его не было слышно. Рядом преклонил колена Ральф. Он молился, обратив лицо к извергающимся дождем небесам.
Ну а пес, держа голову над водой, плыл им навстречу и был не только цел и невредим, но и безмерно счастлив.
– И зачем я за него волновалась? – Она хотела рассмеяться, но вместо этого снова закашлялась.
Гаррен усмехнулся над ее ухом. Обнимая ее своими теплыми, надежными руками, он нес Доминику сквозь бушующую стихию, прижимая к себе, быть может, чуть крепче, чем следовало, и пусть вода была сверху, снизу, повсюду, пусть она насквозь вымокла, но она была спасена.
Спасибо тебе, Отец Небесный.
Шаг за шагом лошадь тянула их к берегу. Внезапно Доминика вспомнила о своей котомке, болтавшейся сбоку – целой, но, увы, полной воды. Промасленная тряпица едва ли могла защитить пергамент, а значит все созданные ею чудесные слова оказались смыты. По ее щекам, смешиваясь с дождем, покатились слезы.
Гаррен обнял ее теснее.
– Не переживайте. Я держу вас.
– Я не об этом, – всхлипнула она. – Мои записи… Они теперь испорчены. – Ее поразила новая мысль, еще страшнее. – Послание! – Она ощупала его грудь. – Где оно?
– Привязано к седлу.
Над водой. И все же оно могло пострадать.
– Вода могла добраться и до него.
Уткнувшись взглядом в его грудь, она увидела, что серебряная коробочка реликвария болтается в воде.
– Перья! Они промокли!
– Птицы летают под дождем, и ничего.
– Но это же священные перья!
Не отводя глаз от берега, он притиснул ее к себе еще крепче.
– Мое дело спасти вас, а реликвии Господь пусть спасает сам.
И она улыбнулась, хоть и подозревала, что он святотатствует.
К тому времени, как они добрались до берега и Джекин с Ральфом помогли им преодолеть последние несколько метров, сплошная стена дождя разделилась на струи. Иннокентий, который носился вокруг, очевидно расценивал произошедшее как увлекательное приключение и полагал, что остальные разделяют его восторг.
Гаррен выпустил Доминику из уютного кольца своих объятий и препоручил заботам сестры Марии, которая прижала ее, будто малое дитя, к своему мокрому черному одеянию.
– Ну, будет, будет, не плачь. Господь уберег тебя от погибели, – молвила сестра и зашлась кашлем.
Подняв голову с ее плеча, Доминика оглянулась на Гаррена. Паломники застыли вокруг него, не смея приблизиться, точно он был окружен неким сиянием, которое удерживало их на расстоянии.
Он сел в седло и вновь направил коня в воду, чтобы перевезти остальных.
– Боже, – пробормотал Ральф. – Он воистину Спаситель.
Доминика вздрогнула. Теперь на его счету еще и мое спасение.
***
По настоянию сестры Доминике выделили в монастыре отдельные покои, остальные же разместились в специальной пристройке для паломников. Нежась в тепле, она лежала в кровати и потягивала горячее вино со специями, а когда подоспел ужин, наелась тушеных с беконом бобов. Наконец сестра укрыла ее, подоткнула одеяло и несколько раз встряхнула ее на матрасе, словно она снова была маленькой смешливой Никой.
Но сегодня Доминика не могла заставить себя улыбнуться. Даже у пса не вышло ее приободрить. Когда сестра пошла отнести на кухню тарелки, она свернулась калачиком, сытая и согревшаяся, но с тяжестью на душе. Все ее представления о том, какая судьба предначертана для нее Богом, были начисто смыты.
Когда она, дрожа от дурного предчувствия, развернула пергамент, то не увидела слов. Только расплывшиеся до неузнаваемости черные пятна да уродливые потеки. Тогда она ударила по листу кулаком. Он треснул и свернулся в трубочку. Она ударила его еще, и еще раз, и с каждым ударом он трескался в новых местах, а когда избивать несчастный лист стало выше ее сил, она швырнула его на пол и встряхнула кистями рук, будто стряхивая свои разбитые мечты.
Почему Господь спас ее, но уничтожил ее работу?
Гаррен искушал ее, и она согрешила, но почему, вместо того, чтобы наказать, Господь через Гаррена спас ее?
Она закрыла глаза и услышала отголосок знакомых вечерних гимнов, доносившихся из часовни.
И остро захотела услышать пение монахинь, а не монахов. Вернуться домой, в монастырь, к привычному, не подверженному никаким переменам укладу. К уверенности в завтрашнем дне и в себе. Туда, где каждый прожитый день приближал ее к раю. Туда, где не существовало сомнений.
Кашель сестры и шорох мокрого подола по полу прервал ее молитвы.
Выглядывая из-под теплого одеяла, Доминика смотрела, как сестра достает из котомки и раскладывает перед очагом свои вещи, пострадавшие от дождя. Она вымокла не меньше моего. Почему я заметила это только сейчас?
Она вылезла из постели.
– Ложись. Твоя очередь греться.
– Не волнуйся обо мне. Я лягу с остальными. Ведь это тебя мы сегодня чуть не потеряли. – Она крепко сплела пальцы с пальцами Доминики, словно хотела еще раз удостовериться, что та жива и здорова.
– Я теперь больше тебя, – сказала Доминика, снимая с головы сестры еще влажный плат и раскладывая его на скамье у очага. – Так что ты должна меня слушаться.
Она уложила сестру в кровать, закутала в одеяло и тоже попыталась встряхнуть ее на матрасе, но сестра закашлялась, и она остановилась.
– Спасибо, дитя, – сказала монахиня. – Я и правда очень устала.
– Тебе нужно набраться сил. Мы ведь уже скоро придем, да?
– Через несколько дней.
– Сегодня Господь спас меня.
– Да. Я всегда знала, что Он привел тебя в этот мир не просто так.
– Я готова вернуться домой. И трудиться в скриптории. Как ты.
Она ждала, что сестра как обычно скажет, что ее предназначение состоит именно в этом, но в глазах у той отразилось замешательство.
– Я всегда этого хотела, но прежде чем принимать решение, убедись, что оно исходит не только от тебя, но и от Господа.
Но сегодня Доминика не хотела об этом думать. На один вечер она захотела снова стать маленькой девочкой. А со своими сомнениями она разберется потом.
– Расскажи еще раз, как я оказалась в монастыре. – В детстве она слушала эту историю охотнее, чем колыбельные. Как и легенду о Ларине, Доминика знала ее наизусть.
– Это случилось одним солнечным летним утром, – как всегда начала сестра. Правда, на сей раз в кровати была она, а на краю узкого матраса – Доминика. – Меня, тогда еще послушницу, отправили открыть ворота. Солнце взошло уже высоко, и я как раз разобралась с утренними делами. Когда я подошла к воротам, то увидела рядом корзинку, накрытую платком.
– Как в истории о Моисее в тростниках! – воскликнула Доминика, вставляя в рассказ свою привычную реплику.
– Наверное. – На щеках сестры заиграли ямочки.
– А какого цвета был платок?
– Синего. Совсем как твои глазки. – Она лукаво взглянула на Доминику. – Сперва я решила, что кто-то принес нам яблоки.
– Яблоки, – повторила она. Внезапно ей расхотелось быть похожей на эти круглые красные плоды – особенно в глазах Гаррена. – Я что, так похожа на яблоко?
Скорее на сливу.
Рассмеявшись, сестра шутливо потрепала ее за щеки.
– Ну, тогда у тебя были круглые красные щечки. Но когда я подняла корзину, яблоки вдруг завопили и стали сучить ножками!
– И это была я!
– Да, это была ты. И я в ту же секунду полюбила тебя и дала себе слово о тебе заботиться.
– А матушка Юлиана была не против?
Сестра опустила взгляд на свои сцепленные руки.
– Поначалу была.
– Но ты меня отстояла?
Сестра тронула ее лоб, как делала раньше, когда она заболевала.
– Мы отстояли тебя все вместе. Потому что очень тебя полюбили.
– Как ты думаешь, кем была моя мать? – Раньше она никогда об этом не спрашивала, но отчего-то сегодня этот вопрос показался важным.
За ее спиною потрескивали в очаге дрова.
– Я думаю, – промолвила сестра после долгого молчания, – твоей матерью была одна глупая и одинокая девушка, которая не могла оставить ребенка.
Глупая и одинокая девушка, которая не устояла перед искушением познать земное блаженство. Доминика чертила пальцем по ладони и представляла руки своей матери. Какими они были? Крепкими и широкими или тонкими и изящными? И что, интересно, с нею стало потом?
– Как ты думаешь, Бог простил ее?
– Вспомни, что говорил Ральф. Человек должен чистосердечно раскаяться, только тогда ему будет даровано прощение.
Чистосердечно раскаяться… Раскаивалась ли она о мгновениях, проведенных в объятьях Гаррена?
Наконец сестра Мария заснула, и Доминика, улегшись у очага, обхватила себя за плечи и задумалась о той глупой девушке, своей матери.
Когда глаза ее закрылись, нахлынули воспоминания о реке. Она могла утонуть, если бы Гаррен не стал ее Спасителем. Не иначе, это знак, ибо Господь послал его не без причины. Быть может, Гаррену суждено стать ее наставником, а никаким не искусителем. Но чему Господь хочет научить ее с его помощью?
И покуда она думала о том, как ее тело рядом с ним пылает огнем, то постепенно начала понимать, что могла чувствовать та глупая молодая девушка, которая возжелала мужчину превыше своей бессмертной души.
***
Стены помещения, где спали паломники, сотрясались от храпа Вдовы, но Гаррен не проснулся, ибо он не спал.
Отвернувшись ото всех, он лежал на боку на матрасе и сквозь ресницы смотрел на догорающее пламя очага.
Когда веки его сомкнулись, он заново, словно наяву, ощутил, как Ника выскользнула из его рук. Вспомнил, как бешено в тот момент заколотилось сердце, как его бросило в пот, и снова пережил тошнотворное ощущение, что смысл жизни утекает сквозь пальцы. Вспомнил, как он нырнул за нею.
Ты воистину Спаситель.
Господь, наверное, чуть не сверзился с небес от смеха.
Сегодня он едва не потерял ее. Он содрогнулся от ужаса, представив, что могло случиться. Доминика терзала его, как старая, незаживающая рана. День не начинался, пока он не находил ее взглядом. Ночь не наступала, пока он не проверял, легла ли она. Ее голод отзывался у него в желудке, а тело рвалось к ней так яростно, что он еле сдерживался, когда шел рядом.
В ту ночь на болоте что-то пронеслось между ними. Болотный дух, сказал он Доминике, а мог бы сказать, что они соприкоснулись душами.
Будь у него душа.
На пороге смерти она беспокоилась не о себе, а о послании Уильяма и о перьях Ларины. Он же позабыл абсолютно обо всем, кроме своего обещания спасти ее от ее ненаглядного Господа.
Она держалась за свою веру, будто за щит. Словно без нее она могла умереть. Словно, кроме веры, у нее ничего не было. Но ведь у нее и впрямь ничего больше не было. Ни семьи, ни будущего – кроме того, которое она просила у Бога. И которое он, Гаррен, у нее отнимет.
Что с нею станет потом?
Ничего. Ее жизнь почти не изменится.
Почти не изменится. Она по-прежнему будет стирать и трудиться в огороде. Бесправная, опороченная служанка, почти рабыня. Сирота, которую терпят из жалости. Он хлебнул такой жизни сполна, пока Уильям не взял его, бездомного оруженосца, под свое крыло. И за это Гаррен был перед ним в неоплатном долгу, который не покрыть никакими паломничествами.
Он лег на спину и бессонными глазами уставился в потолок. То, что он сделает, не уничтожит, а спасет ее. Да. Именно так. Спасет от участи провести всю жизнь в кандалах своего нелепого Бога, пытаясь рисованием буковок заслужить место раю.
Не лги себе. Дело вовсе не в том, чтобы вызволить ее из когтей Церкви. И даже не в деньгах. Дело в том, что ты ее хочешь.
Прячась от чувства вины, он перекатился на бок и натянул на голову простыню. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Несуразная, несправедливая. Страдания от рождения и до смерти. Поэтому нужно жить и наслаждаться сегодняшним днем. Прошлое слишком болезненно.
Ну, а будущего не существует. Ни для Уильяма, на могилу которого он положит перья и деньги за паломничество, ни, тем более, для него.
Одного за другим, Господь забрал всех, кто был ему дорог, поэтому больше он не пустит в свое сердце привязанность. Он познакомит девчонку с ее первым жизненным разочарованием. Как-нибудь она научится с этим жить и усвоит, что те немногие радости, которые предлагает жизнь, нужно хватать, не раздумывая.
Его сердце закрыто. Ни о ком скорбеть он больше не будет.
И завтра же возьмется за нее всерьез.
Глава 15.
Пребывая в не самом подходящем для ухаживания настроении, Гаррен мрачно обозревал палатки, которые теснились вокруг серых стен монастыря, и оценивал местность перед предстоящим боем. Лес разборных палаток да прилавков, сооруженных по случаю базарного дня, был не лучшим местом для любовного сражения, но, как и на войне, в этом деле выбирать зачастую не приходилось. Сегодня он развернет кампанию, направленную на завоевание Доминики.
После того, как сестра вчера вечером увела ее, они не виделись. И теперь, глядя, как она стоит на коленях в лучах утреннего света и дразнит Иннокентия кусочком запрещенного лакомства, Гаррен не мог оторвать от нее глаз и не смел поверить в то, что свершилось чудо и она осталась жива.
Чтобы паломники отошли от испытаний, которые выпали на их долю на болотах, он решил устроить день отдыха, и они с утра разбрелись по ярмарке – все, кроме Ральфа, который стоял на коленях в часовне и благодарил своего новообретенного Бога, и сестры, которая задыхалась в постели от кашля, поселившегося в ее легких после проливного дождя.
– Как себя чувствует сестра Мария? – спросил он.
Поднявшись с колен, Доминика отряхнула руки.
– Лекарь дал ей отвар медуницы, а я помолилась. Так что завтра ей станет лучше.
Гаррен в этом сомневался. Силы сестры таяли с каждым днем, но Доминика не хотела этого замечать. А он не хотел открывать ей глаза.
– Хорошо, что вы предложили нам отдохнуть, – сказала она, снова взирая на него как на Спасителя. Дьявол, каким она считала его еще вчера, остался, видимо, на болотах. – Иногда я слишком уверена в Божьей воле.
– Вы сами-то как? – Он хотел дотронуться до ее щеки и убедиться, что она не мираж, но остановил руку на полпути. – Все хорошо?
Ничто в ее лице не выдавало, что она побывала на пороге смерти. Длинные переходы закалили ее как сталь. Плечи ее распрямились, она будто стала еще выше ростом, чем в день, когда они вышли из Редингтона. Под жарким солнцем на носу появилась новая россыпь веснушек, но она больше не выпячивала с вызовом губы и не вздергивала подбородок. Жизнь нанесла ей первый удар. Все шло, как он и предсказывал, но Гаррен почему-то скучал по той пылкой девушке, которая никогда не сомневалась ни в себе, ни в Боге.
– Да. – Она отвернулась и еле слышно добавила: – Но все мои записи пропали.
Все ее потаенные, тщательно выписанные слова смыло водой. Грудь его сдавило от жалости.
– А нельзя начать заново?
– У меня был всего один обрывок пергамента, но он растрескался. – Она взглянула на котомку, висевшую у него за спиной. – Вот почему я так переживаю о вашем послании. Оно при вас?
– Нет. А что?
– Вода его не испортила?
Со вчерашнего дня он ни разу об этом не думал.
– Не знаю. Оно же запечатано.
– У меня есть идея, как проверить это, не ломая печати. – Она понизила голос до шепота. – Приходите вечером в часовню. После комплетория. Там никого не будет.
Глядя на ее шепчущие губы и представляя себя наедине с нею в ночной темноте, он чуть не забыл удивиться ее навязчивому интересу.
– Почему вы так озабочены письмом о реликвии?
Пальчик с обкусанным ногтем теребил нижнюю губу.
– Просто хочу помочь, потому что немного разбираюсь в таких вещах.
– Разве сестра Мария не разбирается лучше?
Лицо ее побледнело под веснушками.
– Я не хочу ее беспокоить.
Целиком сосредоточившись на Доминике и на своем глупом обещании украсть перо, он давно не вспоминал о послании Уильяма. О чем там говорится? И каким образом Уильям умудрился его записать трясущимися как у паралитика руками?
Кто-то сделал это за него.
Он пристально посмотрел ей в глаза – глаза, которые горели ничем иным, как огнем осведомленности.
Ника. Это она записала его послание. И написанное ее испугало.
– Ладно. Вечером значит вечером, – сказал он, и она буквально обмякла от облегчения.
Вечером он не отпустит ее, не выяснив, почему Уильям доверил ему нести послание, но не доверил его содержания.
А сейчас самое время за ней поухаживать.
– Давайте купим вам сувенир на память о путешествии, – предложил он, подводя ее к галантерейной лавке. – Чего бы вам хотелось?
Она погладила рулон алой шерстяной ткани и вздохнула.
– У меня нет денег.
Она еще беднее меня, подумал он. Когда каждая крошка хлеба – подарок небес, немудрено уверовать в то, что только Господь способен одарить ее всем необходимым.
– У меня есть немного. – Несколько пенсов – небольшая цена за ее улыбку. Он присмотрелся к горке дешевых украшений. – Хотите пуговицу? – Он выбрал одну – отполированный до блеска кружок из бараньего рога – и приложил к рукаву ее серого балахона. Или куда там женщины их пришивают?
Она отдернула руку.
– Послушницам нельзя такое носить.
– Вы еще не послушница. – И никогда ею не станете.
– Если что и покупать, то для подношения Блаженной Ларине.
– Если что и покупать, то для себя, – огрызнулся он. Болван. Будь вежлив.
– Думаете, мне можно?
Ее огромные глаза, обращенные на него, вновь видели в нем не Гаррена, а Спасителя. Но уже хорошо, что не Дьявола. Он решил этим воспользоваться.
– Не просто можно, а совершенно необходимо. В паломничество ходят еще и затем, чтобы познать разнообразие Божьего мира.
– Carpe diem ?
– Именно.
Она улыбнулась, показав на щеках ямочки.
– Хорошо.
Он тоже невольно заулыбался – от радости, что развеял ее печаль. Пока он доставал деньги, чтобы заплатить за пуговицу, Доминика взяла его под локоть, и он с трудом поборол желание накрыть ладонью ее маленькую легкую кисть.
– Раз уж мы познаем разнообразие Божьего мира, тогда я хочу увидеть как можно больше, – сказала она. – Я обойду все-все палатки на ярмарке.
– Все до единой? – Он-то думал купить пуговицу и на этом закончить. Палатки бесконечными рядами окружали стены монастыря. Чем только здесь не торговали: мехами и специями, рыбой и жестяной посудой, одеждой, кожами, даже углем.
Не будет же она осматривать уголь.
– Паломники, – просипел из-за соседнего прилавка человек с крючковатым носом, – не желаете ли купить щепку от креста Христова?
Скорее занозу из твоей пятки, подумал Гаррен. Если собрать воедино тысячи щепок, которые под видом кусочков креста Христова продавали наивным паломникам отсюда и до Святой земли, можно, наверное, построить собор.
Но она уже доверчиво склонилась над прилавком торговца реликвиями.
– Можно потрогать?
Гаррен вздохнул и положил пуговицу на место.
– Ну что, Иннокентий, – печально сказал он своему лохматому спутнику. – Пошли.
Перебегая от палатки к палатке, она восхищенно перебирала заморские шерстяные ткани, ворковала над ручными голубями в клетках, примеряла кожаные перчатки и нюхала корицу. Не пропустила и лавку угольщика, товар которого при смешении с живицей становился чернилами.
Без денег все эти вещи было одинаково бесценны, но когда она надела через голову золотую цепь, внутри него что-то оборвалось.
Чтобы купить такое украшение, пришлось бы продать Рукко.
Тяжелые звенья цепи легли в ложбинку меж ее вздымавшимися от волнения грудями. Она посматривала сквозь ресницы то на цепь, то на него, и в ее взгляде светилось врожденное кокетство женщины, не предназначенной стать монахиней.
Кокетка в теле девственницы. У него вырвался смешок.
Она тоже рассмеялась. Чудесные звуки смеха зародились в ее горле и, разгоняя тени в глазах, выплеснулись наружу так заливисто, что она еле устояла на ногах. Она прислонилась к нему, и он обнял ее за плечи. К его ребрам прижались мягкие, жаркие груди, а сердце забилось такими сильными толчками, что она не могла этого не почувствовать. Он плавно провел пальцами вдоль звеньев цепи, притворяясь, что оценивает мастерство ювелира, а сам изнывал от желания прикоснуться к ее грудям.
Изнывал от желания снова поцеловать ее. Остаться с нею наедине, как в ту ночь на болоте.
Заметив в его лице перемену, она отстранилась. Потом сняла украшение, отдала торговцу и повернулась к нему лицом. Пушистые, выгоревшие на солнце прядки, выбившись из косы, липли к ее шее. Озадаченные синие глаза задавали вопросы, на которые он не хотел отвечать.
– Не затем ли я была спасена?
Она имела в виду вовсе не цепь.
Он хотел бы ответить «да». Это «да» толкнет ее в его объятия. В его постель. Заставит ее капитулировать. Но он не хотел, чтобы она уступила святому или дьяволу. Он хотел, чтобы она сказала «да» ему, Гаррену. Испугавшись, что она прочтет на его лице правду, он отвернулся.
– Давайте еще походим, – сказал он.
Доверие и смятение боролись в ее глазах. Наконец она указала на палатку в самом конце торгового ряда.
– Смотрите, вон продают пергамент. Джиллиан дала мне монетку, чтобы я купила для нее один лист.
С облегчением он пошел за нею следом, незаметно поправляя под балахоном шоссы, туго облегавшие влажную выпуклость между ног.
– Зачем Джиллиан понадобился пергамент?
– Она попросила меня записать ее обращение к Блаженной Ларине.
– Надеюсь, она заплатит вам за труды.
Она склонила голову набок.
– А что, за это можно получать деньги?
А что, Уильям не заплатил вам? – хотелось спросить ему. Впрочем, Редингтоны и так оплачивали все расходы монастыря, от чернил до одежды.
– Да. В городах и при дворе клерки зарабатывают этим себе на жизнь.
– Не проходите мимо! – заголосил торговец. Демонстрируя щербатую улыбку, он извлек из стопки пергамента, которая лежала на дощечке у него на коленях, один лист. – Вот пергамент высочайшего качества. Привезен из Франкфурта, промыт в рейнской воде.
Она покачала головой.
– Покажите, пожалуйста, местный. Только новый, не использованный.
Она принялась торговаться, чтобы уложиться в сумму, полученную от Джиллиан, а он наблюдал, с каким благоговением ее пальчик водит по краю листа. Вот он, тот подарок, о котором она не осмелилась попросить. И как он сразу не догадался?
– Позвольте я куплю и вам тоже. Пилигримам пригодится ваш путеводитель.
Она опустила голову.
– Господь не хочет, чтобы я его писала.
– Почему вы сомневаетесь? Он же спас вас. – По крайней мере, так она полагала. О своем участии в этом деле он решил не напоминать.
– Меня. Но не мои записи.
– И потому вы решили все бросить? Невелика же, оказывается, ваша вера, Ника. – Гаррен прикусил язык. Даже если невелика, скоро он совсем ее изничтожит. Зачем ее подбадривать? Пусть расстанется с иллюзиями и примет тот факт, что в Библию не вдохнуть жизнь усилиями ее терпеливых пальцев.
Но видеть страдание на ее лице было выше его сил. Если письмо способно сделать ее счастливой, значит Спаситель от Божьего имени скажет, что она должна продолжать писать. Свои потери она может оплакать потом, когда он ее оставит и не будет принужден смотреть на ее слезы.
– Покажи, что у тебя есть, – сердито сказал Гаррен торговцу и был сполна вознагражден ее улыбкой.
Он выудил из стопки пергамента мягкий белоснежный лист.
– Вот этот, вроде бы, ничего.
Руками чище, чем у иных поваров, торговец выхватил у него лист.
– Осторожнее, сэр, не оставьте отпечатков. Но глаз у вас наметан. Этот пергамент поистине превосходен, – заговорил он, почуяв новую сделку. – Сделан цистерцианцами из кожи ягненка.
– И чересчур дорог для моих нужд, – сказала Доминика и достала из самого низа стопки лист, покрытый поблекшими буквами. – Лучше вот этот.
– Этот, конечно, не новый, но он хорошо очищен.
– Не так уж и хорошо. Можно с легкостью прочесть двадцать третий псалом и отрывок из Заповедей Блаженства.
Она вновь превратилась в девицу, которая не ведала сомнений, и Гаррен, улыбаясь, отошел в сторонку, чтобы не мешать ей торговаться. У торговца не было ни единого шанса.
– Мне придется самой отскоблить его перед тем, как использовать.
– Ну, возможно, я бы мог немного сбить цену…
Иннокентий, до сего момента мирно сидевший у ног Гаррена, вдруг заинтересовался драгоценными листами и принялся обнюхивать их своим мокрым носом. Когда он оперся лапами на дощечку, она накренилась, и высокая стопка пергамента поползла к краю.
– Смотрите за своим псом! – всполошился торговец.
Доминика, ахнув, подхватила пса на руки, а Гаррен еле успел подставить ладони и спасти пергамент от падения в грязь.
Немедленно отобрав у него свое сокровище, торговец принялся придирчиво осматривать листы, сдувая с них воображаемые пылинки.
– Нет, вы только посмотрите! Все испорчено!
– Ничего не испорчено. – Гаррен отсыпал торговцу монет за пергамент, щедро приплатив сверху, жестом подсказал Доминике спасаться бегством, а потом, подхватив покупку, бросился за нею следом. Отбежав подальше, они дружно расхохотались.
– Ты очень, очень плохой пес. – Доминика погрозила Иннокентию пальцем, но смех свел на нет всю нравоучительность этого жеста. Горделиво завиляв хвостом, пес лизнул ее палец.
Вздохнув, она опустила его на землю.
– Вот. Это вам. – Гаррен протянул ей пергамент, и она дрожащими пальцами приняла подарок.
– Спасибо. – Взгляд ее глаз несколько прояснился.
– Ника, скажите… – начал он и осекся. Вопрос о том, кто записал послание Уильяма, может подождать. Пускай до вечера она побудет счастливой.
А он между тем постарается не углубляться в размышления о том, чего он хотел от нее в этот момент.
***
После вечерни Доминика и Джиллиан уединились в тишине спального помещения для пилигримов и сели друг напротив друга за колченогим столом. Доминика разгладила лист пергамента. Ее собственный лист лежал свернутым в трубочку в котомке. Когда она незаметно пощупала его, дабы еще раз удостовериться, что он на месте, в котомке звякнула о ножик монетка, которую заплатила ей Джиллиан. Доминика попросила у неба прощения за гордыню. Монетка, в общем-то, даже не ее. Она пожертвует ее монастырю, как только вернется.
– С чего ты начнешь? – спросила Джиллиан.
Перед тем, как окунуть перо в чернильницу, Доминика очинила его ножом, затем придала кончику плоскую форму и вырезала в нем углубление. Она предпочла бы писать за столом копииста – идеально гладким, с наклонной поверхностью, – но для чудаковатых сирот монастырский скрипторий наверняка был закрыт.
– Я начну с приветствия Господу и Блаженной Ларине.
Теплый солнечный луч, выглянув из-за ее плеча, лег на страницу. Она старательно выводила округлые, слегка наползавшие друг на друга буквы. Не выходить за пределы строки было непростым делом, хотя Доминика и разметила страницу еле заметными горизонтальными линиями.
Приподняв лист, она подула на чернила.
– Смотри, вот буква «Г». – Она критически осмотрела написанное, представляя, как выглядело бы слово «Г-а-р-р-е-н».
Джиллиан свела брови на переносице.
– Здесь написано ровно то, что ты сказала?
– Да. Приветствие Господу и Блаженной Ларине.
– Но святая этого не поймет. Я думала, ты умеешь писать на латыни.
– Конечно, умею. – Она горделиво выпрямилась. – Но ты же не говоришь на латыни.
Джиллиан категорично тряхнула головой.
– Святые понимают только латынь. Священники затем и нужны, чтобы переводить им, ведь на небесах не говорят на нашем языке и не понимают наши молитвы.
Доминика хотела было сказать, что Ларина жила в Англии, а не в Риме, и что Господь слышит и понимает, на каком бы языке к нему не обращались, но не смогла. Джиллиан уловила самую суть, хоть и неверно ее истолковала. Никому на земле не позволено обращаться к Богу без посредничества Церкви.








